Предисловие авторов
Это рассказ о попытке переворота в нацистской Германии, которая едва не оказалась успешной. Если бы этот переворот свершился, война оказалась бы короче почти на год, было бы спасено бесчисленное множество человеческих жизней и материальных ценностей. Скорее всего, и границы современной Европы были бы не такими, как сейчас. Между союзниками и новым правительством Германии прошли бы переговоры, и уже через несколько недель после 20 июля был бы заключен мир в той или иной форме.
Июльский заговор потерпел крах не только потому, что Гитлер остался в живых. Свою роль сыграли некоторые типичные слабости человеческой натуры в данном контексте исторических реалий. Предлагаемая книга — это, прежде всего, яркий и правдивый рассказ о людских ошибках, о слабости и доблести, о нерешительности и целеустремленности.
История нечасто порождает драмы, словно специально предназначенные для выявления конфликтов поколений, темпераментов и убеждений, которые продемонстрировал этот заговор, во многих отношениях принявший характер христианского крестового похода против сил зла. Это был поход, оказавшийся неудачным из-за недостаточного единства в рядах его членов, а также из-за отсутствия должного внимания к человеческому фактору. В этом повествовании о людях, которые знали, чего хотели, но не понимали, как этого добиться, нашлось место иронии и пафосу, сатире и комедии, напряженному действию, идеализму и трагедии.
Мы проанализировали события заговора в свете новых данных, ставших доступными в Германии в начале 60-х годов. Многие несоответствия и противоречия в подробностях событий заговора, допущенные в процессе его воссоздания сразу после войны, теперь устранены, а также использованы новые факты. Невероятные события, происшедшие в Растенбурге, Берлине и Париже 20 июля 1944 года, представлены нами значительно полнее, чем ранее, и изложены в манере, позволившей — по крайней мере, мы на это надеемся — всесторонне выявить человеческую трагедию и иронию случившегося.
Нам повезло получить личную помощь людей, которые были в той или иной степени вовлечены в заговор и пережили последовавшие за ним жестокие репрессии или являлись близкими родственниками главных его участников, казненных в период между июлем 1944 года и маем 1945 года — датой окончательной капитуляции Германии.
Мы также изучили свидетельства офицеров и высших должностных лиц СС и нацистского правительства того времени, документы и стенограммы допросов, сохранившиеся в архивах гестапо. Среди последних были и известные записки Кальтенбруннера, опубликованные только недавно.
Нашей главной целью было написание истории о заговоре таким образом, чтобы подчеркнуть разные судьбы и мотивы действий его самых активных участников. Для того чтобы рассказ получился как можно более полным, мы использовали все доступные источники, как опубликованные, так и нет.
К читателю
Когда рукопись уже была подготовлена к изданию, три вопроса, связанные с этой историей, все еще оставались неясными. Они касались генерала Фельгибеля, генерала Хойзингера и заявления, сделанного, как считали в Германии, в 1946 году Уинстоном Черчиллем в палате общин. Первые два момента наиболее интересны, потому что представляют собой типичные трудности, с которыми непременно сталкиваешься при исследовании таких деликатных событий в недавней истории, коим является покушение на жизнь Гитлера 20 июля 1944 года.
I. Телефонный звонок, якобы сделанный Фельгибелем из Растенбурга 20 июля
Генерал Фельгибель был руководителем службы связи вермахта. Фельгибель обеспечивал связь между всеми государственными, партийными и высшими военными органами, в том числе радиосвязь Гитлера и Верховного главнокомандования. 20 июля, как только взорвется бомба, он должен был позвонить Ольбрихту на Бендлерштрассе{1}, после чего вывести из строя всю систему связи, взорвав ее. Таким образом заговорщики хотели изолировать Растенбург и получить возможность беспрепятственно осуществлять командование разными армейскими группами.
Точно неизвестно, как развивались события, когда Фельгибель увидел, что Гитлер после взрыва остался жив — рассказов об этом много, и все не похожи друг на друга. Например, Уиллер-Беннет в «Немезиде» (1953) говорит, что «Фельгибель, к сожалению, оказался неспособным выполнить свою задачу» и не сделал ничего, даже не позвонил на Бендлерштрассе. Генерал Тиле, эксперт по связи из штаба Ольбрихта, вскоре после трех часов связался по телефону с Растенбургом и узнал, что Гитлер после взрыва уцелел, это сообщение было опровергнуто Штауффенбергом, прибывшим в аэропорт Рангсдорф. Таким образом, Уиллер-Беннет готов возложить всю полноту ответственности за крах путча на плечи генерала Фельгибеля.
Согласно утверждению Вейта Осаса в «Валькирии» (1953), первый приказ Гитлера после взрыва был о том, что никто не должен знать о происшедшем, а это, в свою очередь, означало, что все средства связи были сразу взяты под контроль СС. Осас считает, что система связи должна была быть выведена из строя, но, полагает он, Фельгибель не мог этого сделать, а также у него не было возможности позвонить на Бендлерштрассе, где люди оставались без информации до трех тридцати пополудни. Осас подчеркивает, что все звонки по техническим причинам проходили через Берлин, и это придавало коммутаторам и телетайпам Бендлерштрассе дополнительное значение. (Главный центр связи находился в процессе перевода из Растенбурга в Цоссен.) Осас не понимает, почему Тиле не принял этот факт во внимание и не объяснил, как могла в Растенбурге сохраниться возможность связываться через Берлин с региональными командирами с такой легкостью. Если верить Осасу, гестаповцы и эсэсовцы могли без проблем звонить куда хотели. В половине второго адъютант Гиммлера подполковник Суханек позвонил шефу гестапо Мюллеру и передал приказ отправить самолетом в Растенбург команду следователей. Приказ был немедленно выполнен, и следователи под командованием Копкова вылетели уже через несколько часов. Имя Кальтенбруннера в связи с этим полетом не упоминается. Осас ни в чем не обвиняет Фельгибеля, поскольку считает, что не в его силах было выполнить запланированные действия.
Константин Фицгиббон в «Рубашке Несса» (1956) упоминает о телефонном разговоре между Фельгибелем и Тиле, о котором говорил Уиллер-Беннет, с добавлением, что звонок задержался. Неопределенно сославшись на плохое соединение, Фельгибель сказал своему начальнику штаба Хану: «Случилось нечто ужасное. Фюрер жив. Все заблокировано». В любом случае Фельгибель не имел возможности взорвать аппаратуру связи, расположенную в нескольких подземных бункерах, без существенной и хорошо организованной помощи. Фицгиббон уверен, что Фельгибель в точности выполнил все, что ему было поручено заговорщиками. И Ширер во «Взлете и падении Третьего рейха» с этим соглашается, хотя и высказывается неясно по основному вопросу: в котором все-таки часу Фельгибель позвонил Тиле на Бендлерштрассе.
Герштенмайер, находившийся на Бендлерштрассе, говорит о «личном сообщении Фельгибеля из ставки о том, что Гитлер жив». При этом он добавил, что присутствующие отнеслись к информации с недоверием, предположив, что сделать подобное заявление по телефону генерала принудили силой. Однако в беседе с Генрихом Френкелем Герштенмайер выразил сомнение, действительно ли с Тиле разговаривал лично Фельгибель. Гизевиус в своей книге «До горького конца» утверждает, что связь должна была быть уничтоженной, но этого не случилось. Он также говорит, что «через несколько минут после взрыва генерал Фельгибель позвонил, как и было условлено, Ольбрихту. Помощник Геббельса Рудольф Земмлер записал в дневнике, который тайно вел в то время, что Геббельс первым узнал о взрыве (и ничего больше) из Растенбурга — в час или около того.
Фельгибель и Хан были арестованы около одиннадцати часов ночи 20 июля, хотя в записях Кальтенбруннера фигурирует дата 21 июля. На допросах Фельгибель утверждал, что заранее предупредил своих коллег-заговорщиков, что не контролирует связь так полно, как хотелось бы. Хан тоже признал, что полная изоляция потребовала бы проведения серьезной с технической точки зрения операции, захвата всех международных коммутаторов, связи с имперским почтовым ведомством. Потребовалось бы пятнадцать — двадцать человек, чтобы занять стратегически важные пункты немецкой телефонной сети. В конце концов было решено, что Фельгибель и Хан, когда придет время, будут действовать по обстановке и постараются сделать все, что в их силах. Вне всяких сомнений, Фельгибель намеревался после смерти Гитлера взять под контроль все коммутаторы Растенбурга, однако, как следует из протоколов допросов, он утратил решимость, увидев Гитлера живым, и приказал Хану и Штиффу хранить молчание, чтобы ни слова о неудачной попытке не вышло за пределы Растенбурга, тем самым сыграв на руку Гитлеру и подкрепив его распоряжение. Позднее некоторые звонки были разрешены.
По нашему мнению, сегодня можно не сомневаться в том, что Фельгибель не звонил, да и не мог звонить на Бендлерштрассе в час. Представляется чрезвычайно сомнительным, что именно он разговаривал с Тиле, когда последнему в конце концов удалось в три тридцать пополудни дозвониться в Растенбург. Он получил очень сжатый отчет о случившемся, что соответствовало указанию Гитлера хранить провалившееся покушение в тайне от внешнего мира. Никто из людей, присутствовавших в тот день на Бендлерштрассе, до того времени не имел точной информации из Растенбурга. Новости, полученные в три тридцать, стали результатом первого контакта Бендлерштрассе и Растенбурга. Их оказалось достаточно, чтобы Ольбрихт дал команду к началу «Валькирии».
Говорят, что, услышав вынесенный ему Народной судебной палатой смертный приговор, Фельгибель крикнул Фрейслеру: «Вам следует поспешить с исполнением приговора, господин президент, иначе вы рискуете быть повешенным раньше нас».
Фельгибель был казнен 4 сентября вместе с Ханом и Тиле.
II. Генерал Хойзингер и покушение
Доктор Эрнст Вирмер, высокопоставленный гражданский служащий министерства обороны в Бонне и младший брат Йозефа Вирмера, видного участника заговора против Гитлера, любезно передал от нашего имени просьбу генералу Хойзингеру в его натовский офис в Вашингтоне пролить свет на его участие в заговоре. К сожалению, ответ на это письмо так и не был получен, так же как и на предыдущее.
В книгах, изданных в Восточной Германии, генерал Хойзингер подвергся яростным нападкам. Существовало мнение, что он выдал своих товарищей– заговорщиков нацистам. Очевидно, эти обвинения направлены на продолжение политики холодной войны.
Здесь хотим привести некоторые сомнения, вытекающие из имеющихся фактов, которые может разрешить только сам генерал Хойзингер. Согласно расшифровке стенограммы заседания Народной судебной палаты от 7 августа 1944 года, Хойзингера в заговор вовлек Штифф, он утверждал, что тот был единственным старшим офицером штаба, которого он известил о предстоящем покушении. Людей вешали и за меньшее. Генерал Хойзингер был взят под стражу, но освобожден после допросов и написания им памятной записки (Denkschrift), на которую он ссылается в своей книге «Командная власть в конфликте» (Befehl im Widerstreit). За эту записку его поблагодарил лично фюрер. «Я изучил вашу записку, — сказал Гитлер, обращаясь к Хойзингеру. — Большое вам спасибо. Это самый исчерпывающий критический анализ моих военных действий». О содержании сего документа ничего не говорится.
В отчете о процессе, опубликованном в «Фелькише беобахтер» 9 августа 1944 года, сообщается о допросе Штиффа, но не упоминается о генерале Хойзингере. Представляется, что памятная записка была написана в казарме СС Дрёген, где содержались некоторые арестованные. В информационном бюллетене общества бывших офицеров (Mitteilungsblatt der Arbeitsgemeinschaft ehemaliger Offiziere), опубликованном в Восточном Берлине в мае 1960 года, человек по имени Максимилиан Ханневальд утверждает, что в течение нескольких лет находился в различных концентрационных лагерях и занимался уборкой помещений в Дрёгене. Там он неоднократно видел Хойзингера. У него была собственная комната, в которой он проводил все время, работая над газетами и документами.
Бомба взорвалась в Растенбурге как раз в тот момент, когда Хойзингер делал доклад Гитлеру. Если бы генерал действительно заранее знал, что на определенное время запланирован взрыв, он, вероятно, принял бы меры к обеспечению собственной безопасности и постарался держаться подальше от Гитлера. Но с другой стороны, если Штифф лгал, почему генерал открыто не заявил об этом? Единственным человеком, который мог бы дать исчерпывающие ответы на все неясные вопросы, является сам генерал.
III. Заявление, касающееся заговорщиков, якобы сделанное сэром Уинстоном Черчиллем в 1946 году
Еще один вопрос остался нерешенным при подготовке настоящей книги к печати. Он относится к заявлению, якобы сделанному сэром Уинстоном Черчиллем в палате общин в 1946 году. Впервые оно было опубликовано Пехелем в «Немецком сопротивлении» (Deutscher Widerstand) (1947) и с тех пор постоянно перепечатывается в немецкой литературе о покушении на жизнь фюрера, включая официальную версию, изданную боннским правительством, «Немцы против Гитлера» (1952, 1960). Редакторы сообщили нам, что собираются исключить выдержки из упомянутого заявления из последующих изданий, поскольку ни они, ни ученые Института современной истории не считают его подлинность установленной. В официальных отчетах о заседаниях английского парламента за 1945–1946 годы такого заявления британского премьера нет.
В переводе с немецкого текст заявления звучит следующим образом: «В Германии существовала оппозиция, постепенно ослабленная собственными жертвами и безвольной внешней политикой. И тем не менее она занимает место среди величайших и благороднейших достижений в мировой политической истории. Эти люди сражались, не получая никакой помощи ни внутри страны, ни извне. Ими руководила только собственная совесть, не позволившая им мириться со злом. Всю свою жизнь они оставались для нас невидимыми и неузнанными, потому что были вынуждены тщательно маскироваться. Только после смерти мир узнал об их сопротивлении. Их гибель не может оправдать все, что произошло в Германии, но их действия и жертвы обеспечили основу для ее возрождения. Придет время, когда эта героическая глава в истории Германии будет оценена по достоинству».
В 1946 году мы сделали попытку получить подтверждение или опровержение этого заявления одновременно и в секретариате сэра Уинстона Черчилля, и у Рэндолфа Черчилля, который занимался написанием биографии своего отца. Ни один из этих источников не знал ничего об этом заявлении и не смог помочь нам проследить его происхождение.
Нам представляется сомнительным, что сэр Уинстон Черчилль мог сказать в те времена нечто подобное. Епископ Белл среди прочих следил за тем, чтобы члены Сопротивления не оставались невидимыми для британского правительства, а Черчилля лично информировали о своих намерениях перед войной Тротт, Шлабрендорф, Клейст, отец Эвальда фон Клейста, и Герделер.
Главные действующие лица драмы
Бек Людвиг (1880–1944), генерал-полковник. Начальник Генерального штаба сухопутных войск, в 1938 году уволен в отставку. Один из выдающихся представителей старого поколения, входивших в состав движения Сопротивления в Германии. Оппозиционные Гитлеру силы рассматривали Бека как возможного главу государства после устранения нацистов. Умер, совершив попытку самоубийства 20 июля 1944 года.
Бонхёффер Дитрих (1906–1945), пастор. Замечательный ученый и педагог. Сотрудник абвера. В мае 1942 года пытался установить контакт с англичанами от имени оппозиционных сил при посредстве чичестерского епископа Белла (Швеция). Арестован в апреле 1943 года, казнен в апреле 1945 года.
Вирмер Иозеф (1901–1944). Берлинский юрист, сыгравший решающую роль в урегулировании противоречий между различными фракциями заговорщиков. Арестован после раскрытия заговора. Казнен 8 сентября 1944 года.
Вицлебен Эрвин фон (1881–1944), фельдмаршал. В 1942 году оставил действительную службу. Старейший член движения Сопротивления. В случае успеха заговора должен был стать главнокомандующим вермахтом. Осужден и казнен в августе 1944 года.
Геббельс Йозеф (1897–1945), министр пропаганды и глава Берлина. Его быстрые и решительные действия стали главной причиной поражения заговора в Берлине.
Гелльдорф Вольф Генрих фон (1896–1944), граф, генерал СС. С 1934 года руководитель полицейского управления Берлина. Казнен в августе 1944 года.
Гепнер Эрих фон (1886–1944), генерал-полковник. Командир танковых войск. В 1941 году лишен звания и уволен из армии Гитлером за невыполнение его приказов на русском фронте. Было решено, что после ликвидации Гитлера он заменит Фромма на посту командующего армией резерва, если последний откажет заговорщикам в поддержке. Предстал перед судом и казнен в августе 1944 года.
Герделер Карл (1884–1945). Бывший обер-бургомистр Лейпцига, имперский комиссар по вопросам цен в правительстве Гитлера. Начиная с 1937 года активный сторонник оппозиции и неустанный пропагандист идеи нового правительства, которое должно было сменить гитлеровское. Арестован в августе 1944 года, казнен в феврале 1945 года.
Гизевиус Ганс Бернд (р. 1903). Начинал сотрудником гестапо, стал членом Сопротивления и работал на абвер, находясь на своей консульской базе в Швейцарии. После 20 июля был на несколько месяцев задержан в Германии. В январе 1945 года бежал в Швейцарию. Его мемуары — важный источник информации о Сопротивлении.
Гиммлер Генрих (1900–1945). С 1929 года рейхсфюрер СС, с 1935–1936 годов — руководитель карательного аппарата, с 1943 года — министр внутренних дел. 20 июля назначен Гитлером командующим армией резерва вместо Фромма. Вместе с Геббельсом руководил допросами заговорщиков в ночь с 20 на 21 июля.
Донаньи Ганс (1902–1945), муж сестры Бонхёффера. Эксперт абвера. Арестован в апреле 1943 года, казнен в апреле 1945 года.
Йорк фон Вартенбург Петер (1903–1944), граф. Член «группы Крейсау» — неформального объединения противников нацизма. Казнен 8 августа 1944 года.
Клюге Гюнтер Ханс фон (1882–1944), фельдмаршал. Командовал армией во Франции. Участия в заговоре не принимал и, несмотря на давление, в конце концов отказался его поддержать. Опасаясь ареста, 19 августа 1944 года совершил самоубийство.
Лангбен Карл (1901–1944), юрист. В течение некоторого времени пытался использовать личное знакомство с Гиммлером на благо Сопротивления. Арестован в сентябре 1943 года, казнен в октябре 1944 года.
Лебер Юлиус (1891–1945), социал-демократ. Член рейхстага в 1924–1933 годах. Проведя четыре года в концентрационных лагерях, начиная с 1937 года стал вместе с Лейшнером, Хаубахом и Рейхвейном одной из важнейших фигур «левого крыла» в заговоре. После победы должен был стать министром внутренних дел. Арестован в июле 1944 года, казнен 5 января 1945 года.
Мольтке Гельмут фон (1907–1945), граф. Советник абвера и ведущая фигура в той части немецкого Сопротивления, которая выступала за неприменение насилия. Был основателем и лидером «группы Крейсау». Предстал перед судом и казнен 24 января 1945 года.
Мюллер Йозеф (р. 1898—?), юрист. Один из ведущих деятелей «католического крыла» заговора. Использовал свои связи в Ватикане в попытке обеспечить поддержку союзников на ранних стадиях войны. Арестован в 1943 году, освобожден после войны.
Нёбе Артур (1894–1945), группенфюрер СС. В 1933–1945 годах глава криминальной полиции Германии. В 1941 году руководил действиями группы, осуществлявшей террор на оккупированной территории России. Позднее поддержал Сопротивление. Казнен в марте 1945 года.
Ольбрихт Фридрих (1888–1944), генерал-полковник. Начальник Общего управления Верховного командования сухопутных войск (ОКХ), занимался снабжением войск и армии резерва. 20 июля 1944 года находился в здании военного министерства на Бендлерштрассе. В ту же ночь расстрелян Фроммом.
Остер Ганс (1888–1945), генерал-майор. Начальник центрального отдела абвера, который занимался архивом и кадровыми перестановками. Активный член Сопротивления. Временно освобожден от обязанностей в апреле 1943 года, арестован после покушения и казнен 9 апреля 1945 года.
Попиц Иоханнес фон (1884–1945), профессор. С 1933 года министр финансов Пруссии. Член Сопротивления. С помощью Лангбена вел переговоры с Гиммлером.
Роммель Эрвин (1891–1944), фельдмаршал. Командир Африканского корпуса, затем группы армий во Франции. Поддерживал заговор, но не был согласен с планом взрыва бомбы. После краха заговора был принужден к самоубийству. Это произошло 14 октября 1944 года.
Тресков Хениг фон (1901–1944), генерал-майор. Начальник штаба группы армий «Центр» на Восточном фронте, участник Сопротивления. Разработал план «Валькирия». Совершил самоубийство 21 июля 1944 года.
Тротт цу Зольц Адам фон (1909–1944), служащий имперского министерства иностранных дел и абвера, член Сопротивления. Казнен в августе 1944 года.
Фрейслер Роланд (1893–1945), юрист. В 1942–1945 годах президент нацистской Народной судебной палаты в Берлине. Руководил знаменитыми процессами, состоявшимися после 20 июля. Убит в здании суда во время воздушного налета в феврале 1945 года.
Фромм Фриц (1888–1945), генерал-полковник. Командующий армией резерва. 20 июля отказался поддержать офицеров на Бендлерштрассе и был помещен ими под арест. Впоследствии казнил Ольбрихта, Штауффенберга и их приближенных и вынудил Бека совершить самоубийство. Сам был арестован, осужден и казнен в марте 1945 года.
Хассель Ульрих фон (1881–1944). Бывший посол Германии в Риме, вместе с Беком и Герделером стал активнейшим членом оппозиции в рядах старшего поколения. Арестован 28 июля. Казнен в сентябре 1944 года. Его дневник — источник ценной информации.
Хефтен Вернер фон, лейтенант. Адъютант фон Штауффенберга, сопровождал его 20 июля 1944 года на совещание в Растенбург. Казнен по приказу Фромма вместе со Штауффенбергом.
Хофакер Цезарь фон, генерал-лейтенант. Преданный сторонник Сопротивления, служил в штабе Штюльпнагеля во Франции. Казнен 20 декабря 1944 года.
Шлабрендорф Фабиан фон, обер-лейтенант (1907–1980). Штабной офицер, работавший вместе с Тресковом на Восточном фронте, осуществлял связь с членами движения Сопротивления в Берлине. Арестован в 1944 году, предстал перед судом и был признан виновным. Освобожден в мае 1945 года. Его мемуары, опубликованные после войны, — ценный источник информации.
Штауффенберг Клаус Шенк фон (1907–1944), граф. Полковник, начальник штаба у Фромма, командир армии резерва. Развил план «Валькирия» Трескова, был главным подстрекателем к бунту среди молодого поколения в армии. 20 июля 1944 года принес бомбу в ставку Гитлера. Казнен Фроммом той же ночью.
Штюльпнагель Карл Генрих фон (1886–1944), генерал-полковник. В 1942–1944 годах командовал силами вермахта во Франции, главное действующее лицо заговора во Франции. После неудачной попытки самоубийства был арестован, осужден и казнен в августе 1944 года.
Шуленбург Фриц фон дер (1902–1944). Заместитель президента полиции Берлина, служил под началом графа Хелдорфа. Член «группы Крейсау». Казнен 10 августа 1944 года.
Комната для совещаний в ставке фюрера в Растенбурге
Восточная Пруссия,
20 июля 1944 года, 12.30.
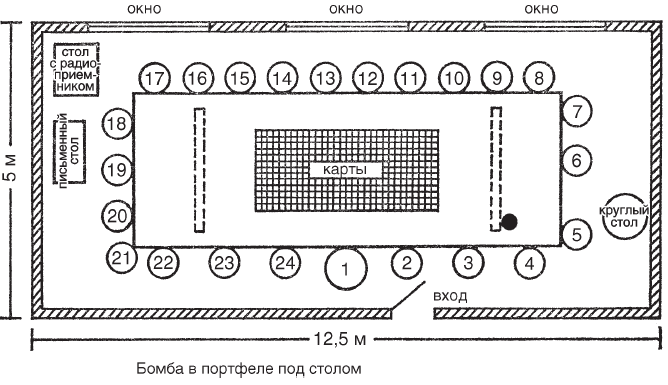
1. Адольф Гитлер.
2. Генерал Хойзингер, начальник оперативного отдела Генерального штаба сухопутных войск, заместитель начальника Генерального штаба.
3. Генерал авиации Кортен, начальник Генерального штаба люфтваффе, умер от ран.
4. Полковник Брандт из Генерального штаба, заместитель Хойзингера, умер от ран.
5. Генерал авиации Боденшатц, представитель Геринга в ставке Гитлера, тяжело ранен в обе ноги.
6. Генерал Шмундт, главный военный адъютант фюрера, позже умер от ран.
7. Подполковник Боргман из Генерального штаба, адъютант фюрера, тяжело ранен.
8. Контр-адмирал фон Путткамер, адъютант фюрера от ВМФ, легко ранен.
9. Стенографист Бергер, убит на месте.
10. Капитан ВМФ Ассман, штабной офицер адмиралтейства в оперативном штабе вооруженных сил.
11. Генерал-майор Шерф, специальный уполномоченный фюрера для написания военной истории, легко ранен.
12. Генерал Буле, начальник штаба сухопутных войск при начальнике ОКВ, легко ранен.
13. Вице-адмирал Фосс, представитель главнокомандующего ВМФ в ставке фюрера.
14. Группенфюрер СС Фегелейн, представитель СС в ставке фюрера.
15. Полковник фон Белов из Генерального штаба, адъютант фюрера от ВВС.
16. Гауптштурмфюрер Гюнше, адъютант фюрера.
17. Стенографист Хаген.
18. Подполковник фон Ион из Генерального штаба, адъютант Кейтеля.
19. Майор Бюхс из Генерального штаба, адъютант Иодля.
20. Подполковник Вейценегер из Генерального штаба, адъютант Кейтеля.
21. Министерский советник фон Зоннлейтнер, представитель министерства иностранных дел в ставке фюрера.
22. Генерал Варлимонт, заместитель начальника штаба оперативного руководства ОКВ, легко контужен.
23. Генерал Иодль, начальник штаба оперативного руководства ОКВ, легко ранен.
24. Фельдмаршал Кейтель, начальник ОКВ.
Часть первая
1
В первые выходные после Троицына дня 1942 года состоялась одна из самых необычных встреч, происходивших во время Второй мировой войны. Два человека, представлявшие народы, которые находились в состоянии смертельной войны друг с другом, тайно встретились в небольшом городке Сигтуна на территории нейтральной Швеции. Один из них, немец, был тайным агентом, и оба путешествовали с некими официальными миссиями, являвшимися прикрытием для их настоящей деятельности, которая имела серьезное политическое значение. Еще более интересен тот факт, что оба были протестантскими священниками.
Это были весьма неординарные люди. Англичанин, Джордж Белл, являлся чичестерским епископом. Он был добродушным человеком, обладавшим тонким чувством юмора и разносторонними интересами, охватывающими не только религиозную, но также социальную и политическую жизнь его страны. Он отправился в Швецию по поручению министерства информации якобы для установления контактов с руководителями шведской церкви и буквально лишился дара речи от изумления, когда неожиданно оказался лицом к лицу с человеком некогда хорошо ему знакомым по Лондону — пастором Дитрихом Бонхёффером.
Бонхёффер, как и Белл, был необычным священнослужителем. Христианство было для него позитивной религией, отстаивавшей право жить полной жизнью. Он считал, что мужчины и женщины должны хорошо есть и пить, любить, а также расширять свой умственный и духовный кругозор, занимаясь искусствами. Бонхёффер был моложе Белла — не так давно вступил в свой четвертый десяток, но, как и его старший коллега, был энергичен и удивительно красив. В 1935 году антинацистская конфессиональная церковь в Германии доверила ему создание нетрадиционного учебного заведения с сильным политическим уклоном, в котором готовили будущих служителей церкви. В 1937 году гестапо его закрыло. Карьера Бонхёффера уже включала университетское преподавание в Берлине, а также работу пастором и капелланом в Барселоне, Нью-Йорке и Лондоне, где он служил почти два года капелланом немецкой конгрегации в Форест-Хилл{2} уже после прихода Гитлера к власти. В предвоенные годы нацисты не признавали пастора, они запрещали его книги и запрещали выступать с проповедями. Хотя Бонхёфферу предложили убежище в Нью-Йорке, он настоял на своем возвращении в Германию из лекционной поездки по Соединенным Штатам, причем в тот момент, когда война была неизбежной. Свое возвращение он объяснил очень просто и типично для себя. Он сказал: «Я должен прожить этот трудный период нашей национальной истории вместе с христианами Германии. У меня не будет права участвовать в восстановлении христианской жизни в Германии после войны, если я не разделю все горести с моим народом».
После возвращения в Германию Бонхёффер поселился в Мюнхене, где стал одним из тайных агентов, услугами которых пользовался абвер — немецкая военная разведка. Эта организация использовалась как прикрытие оппозиционной деятельности группы антинацистских офицеров, в которую входили генерал Ганс Остер, начальник отдела абвера, и его заместитель Ганс фон Донаньи, женатый на сестре Бонхёффера. Именно Остер подготовил документы, позволившие Бонхёфферу отправиться в Швецию и удивить Белла в то памятное воскресенье 1942 года своим неожиданным появлением в доме в Сигтуне, где епископ пил чай с друзьями, и новостями, которые вполне можно было счесть государственной изменой.
Но и Бонхёфферу предстояло удивиться. Когда епископ прибыл в Стокгольм, он встретил там еще одного давнего друга — Ганса Шёнфельда, работавшего одним из руководителей Всемирного совета церквей в Женеве. Бонхёффер ничего не знал о поездке Шёнфельда, которая привела к первой встрече с епископом в Стокгольме, состоявшейся накануне — во вторник 26 мая. Оба деятеля церкви не сговариваясь прибыли с одной и той же срочной миссией.
По словам епископа, Шёнфельд выказывал признаки «значительного напряжения». Казалось, он испытывает настоятельную потребность высказать свои надежды на некую христианскую акцию в Германии, которая могла бы привести к свержению Гитлера. При этом его личное положение оставалось чрезвычайно сложным, поскольку его непосредственным начальником в Берлине был епископ Хекель, поддерживавший нацизм. То, что он сказал епископу, оказалось настолько интересным, что епископский визит доброй воли в церковь нейтральной страны вылился в серию подпольных встреч и совещаний, проведенных группой министров-протестантов, и привел к появлению плана свержения главы германского рейха.
Шёнфельд поделился новостями, которые являлись частично фактами, частично принятием желаемого за действительное. Он поведал епископу, что и в протестантской, и в католической церкви растет движение за освобождение от Гитлера, во имя свободы и права жить по-христиански. В этом движении, помимо некоторых священнослужителей, участвуют армейские офицеры и гражданские служащие, аристократы и рабочие, принадлежавшие к ликвидированным нацистами профсоюзам, и многие другие. Все они, мужчины и женщины, с надеждой взирают на христианскую церковь, ожидая, когда она поведет их против антихристианского режима. Он привел пример безграничного мужества берлинского епископа графа фон Прейзинга, принадлежавшего к Римской католической церкви, и протестантского епископа Вурма. Они оба публично заявили протест против действий нацистов. Хотя вторжения в Британию не произошло, а русские прошедшей зимой сумели остановить немецкое наступление, победа все еще остается за Германией, которая за последние годы присоединила или захватила огромные территории. И все же, настаивал Шёнфельд, есть признаки того, что восстание против Гитлера можно стимулировать, возможно на первом этапе поддержав его замену Гиммлером и эсэсовцами. После этого должен последовать второй этап, в процессе которого контроль над страной установит армия. Германия выведет войска из оккупированных стран (включая, конечно, Чехословакию и Польшу), главные нацистские преступники будут арестованы, а гестапо и СС — уничтожены. Шёнфельд был убежден, что Германия заплатит репарации за ущерб, который причинила, и беды, причиной которых стала. Европа, заявил он, может стать некой формой федерации с международной армией (куда войдет и немецкая армия), управляемой из нейтрального центра, основанного в одной из небольших европейских стран.
Создавалось впечатление, что Шёнфельд говорил от имени сплоченной оппозиции гитлеровскому режиму. От ее лица он обратился к епископу с просьбой выяснить по возвращении, поддержит ли Великобритания движение за свержение Гитлера и согласится ли вести переговоры с новым антинацистским правительством, которое будет создано. Без поддержки Великобритании успешные действия могут оказаться невозможными. Причем речь идет вовсе не об опасности, которой подвергаются руководители движения.
Глубоко тронутый услышанным, Белл согласился встретиться с Шёнфельдом еще раз в пятницу 29 мая. Шёнфельд очень старался объяснить, что церковь смогла достичь некоторых успехов. Она продолжает противостоять нападкам нацистов на себя, и именно благодаря влиянию церкви Гитлеру пришлось отказаться от политики всеобщей эвтаназии умалишенных. Епископ Белл решил, что взгляды Шёнфельда лучше всего представить британскому правительству в виде памятной записки, которую он и попросил того подготовить. После этого он покинул Стокгольм и, посетив Упсалу, провел праздник Троицы в Сигтуне на острове, расположенном в тридцати милях к северу от Стокгольма. Здесь его застал Бонхёффер, использовавший, чтобы попасть на остров, пропуск, выданный министерством иностранных дел по просьбе генерала Остера. План визита был разработан в абвере Остером, Донаньи и самим Бонхёффером.
Бонхёффер, как и можно было ожидать, был смелее, откровеннее и дальновиднее в своих речах, чем Шёнфельд. Сначала друзья, обрадованные встречей, беседовали о личных вопросах. Одна из сестер Бонхёффера находилась в Англии, и Бонхёффер хотел, чтобы Белл передал ей письма. Он рассказал Беллу, что не может ни проповедовать, ни издавать свои книги, что его колледж закрыт, а сам он опасается, что его вынудят сражаться за Гитлера вместо того, чтобы вести войну против него. Белл припомнил, что, когда они в последний раз встречались в Англии, Бонхёффер высказывал опасения относительно своего призыва на службу нацистам и утверждал, что едва удерживается от искушения покинуть Германию, пока еще остается на свободе. Тогда немецкий священнослужитель утверждал, что совесть не позволяет ему участвовать в войне при сложившихся обстоятельствах. С другой стороны, конфессиональная церковь, как таковая, не выразила по этому вопросу определенного отношения, и, вероятнее всего, пока не могла этого сделать. Поэтому Бонхёффер опасался принести огромный вред братьям, отстаивая свою точку зрения, которая будет рассматриваться режимом как типичная враждебная позиция церкви по отношению к государству. К тому же он и думать не желал о принесении военной присяги.
Однако пока ему удавалось избегать военной службы, а даже весьма незначительная работа на абвер защищала от назойливого внимания гестапо в те времена, когда нацисты еще проявляли осторожность в своем стремлении прибрать к рукам пасторов, если только не чувствовали себя вынужденными так поступить. Бонхёффер крайне удивился, узнав о присутствии в Швеции Шёнфельда, и со всем вниманием выслушал мнение Белла. Тот особенно подчеркнул, что его доклад по приезде домой обязательно вызовет подозрение британского правительства. Даже понимая огромную опасность, в которой находился Шёнфельд, Белл предложил ему назвать некоторые имена руководителей движения, считая, что это позволит англичанам отнестись к информации с большим доверием. Немец с готовностью согласился, хотя чичестерский епископ отчетливо видел, как тяжело у него на сердце.
Тогда Бонхёффер назвал несколько имен влиятельных людей, участвовавших в заговоре против Гитлера. Среди них был, например, старый генерал Людвиг Бек, генерал Хаммерштейн — оба бывшие начальники Генерального штаба. И они были не одиноки. Многие другие генералы и фельдмаршалы армии резерва были готовы выступить в решающий момент. Он говорил о Карле Герделере, бывшем обер-бургомистре Лейпцига и имперском комиссаре по вопросам цен, о бывших профсоюзных лидерах, католиках Вильгельме Лейшнере и Якобе Кайзере. По словам Белла, Бонхёффер настаивал, что оппозиционная организация есть в каждом министерстве и в каждом городе есть недовольные режимом офицеры.
Если у Белла и оставались какие-то сомнения насчет надежности Шёнфельда, относительно Бонхёффера их не было. Это был близкий ему человек, которому он безоговорочно доверял. Белл отчетливо видел, что, излагая свои мысли, его друг испытывает боль из-за того, что события в Германии сложились именно так, и ему приходится действовать подобным образом. Бонхёффер даже заявил, что чувствует: Германия должна понести наказание.
Белл не желал, чтобы у его собеседников появились несбыточные мечты относительно реакции британского правительства. Он неоднократно подчеркивал, что к его сообщению отнесутся с подозрением. Когда вечером того же дня к Беллу и Бонхёфферу присоединился Шёнфельд с группой шведских пасторов, епископ сообщил, что уже проинформировал британского посланника в Стокгольме Виктора Маллета о первых беседах с Шёнфельдом. Последний тут же преисполнился невероятным энтузиазмом, заявил, что намечаемый переворот завершится за два-три дня, что у оппозиции имеются свои люди на всех ключевых постах в коммунальных службах — на радио, в газоснабжении, а также в полиции и министерствах. Маллет не подал надежду на положительный ответ и поддержку Великобритании после почти двух лет противостояния, кровопролитной войны и бомбежек. Кроме того, он упомянул о необходимости обсуждения вопроса с русскими и американцами. Шёнфельд был уверен, что некий благоприятный для Германии компромисс все– таки может быть достигнут. Он относился к делу оптимистичнее, чем Бонхёффер, глубоко переживавший преступления, совершенные Германией после прихода к власти Гитлера.
«Господь нас накажет, — повторял он. — Мы не хотим избежать покаяния. Наши действия должны быть приняты миром как акт глубокого раскаяния. Христиане не желают уклоняться от покаяния, иначе наступит хаос, если так пожелает Господь. Мы должны, будучи христианами, принять заслуженное». Все согласились с тем, что союзнические армии должны оккупировать Берлин, но не как захватчики, а с целью оказания помощи армии Германии, которая должна сама остановить реакцию. Прежде чем беседа подошла к концу, состоялась даже небольшая дискуссия на тему, будет ли Великобритания содействовать реставрации монархии в Германии. Если да, то подходящим кандидатом на трон мог считаться принц Людвиг-Фердинанд — истинный христианин, неизменно заботящийся о социальных интересах. В разговоре было подчеркнуто, что на данном этапе необходимо получить некие ориентиры от союзников, например будут ли они вести переговоры о мирном урегулировании с новым антинацистским правительством Германии. Для тайного ответа был предложен подходящий посредник — Адам фон Тротт, друг сына Стаффорда Криппса{3} и видный член движения Сопротивления. Если же ответ будет дан открыто, как поворот внешней политики союзников, что ж, тем лучше.
На следующий день, 1 июня, состоялась еще одна короткая встреча Бонхёффера и Белла, во время которой Бонхёффер передал епископу еще некоторую информацию для своего родственника доктора Лейбхольца, включая ту, что Ганс Донаньи «занят хорошим делом». Белл также взял в Англию письмо, подписанное одним только именем — Джеймс, от графа Гельмута фон Мольтке его другу Лайонелу Кёртису из колледжа Всех Душ оксфордского университета. Епископ получил и необходимую ему памятную записку от Шёнфельда; она сопровождалась личным письмом, в котором Шёнфельд написал: «Я не могу выразить, как много значит проявленное вами дружеское участие для нас и для всех христиан, которые остаются с нами в мыслях и молитвах».
Когда Бонхёффер пришел к Беллу в последний раз, он сказал: «Мне все еще кажется сном то, что я видел вас, говорил с вами, слышал ваш голос. Думаю, эти дни навсегда сохранятся в моей памяти как самые главные в жизни. Дух товарищества и христианского братства поможет мне пройти через самые страшные испытания, если же дела пойдут хуже, чем мы ожидаем, и надеемся, свет этих дней никогда не погаснет в моем сердце».
11 июня, после задержки в пути, епископ прибыл домой. Он сразу же связался с министерством иностранных дел и в конце месяца встретился с министром Энтони Иденом. Исход этой встречи, как Белл и опасался, оказался полностью негативным. Иден объяснил, что появлялось уже немало «миротворцев» из самых разных слоев. Что же касается доставленной Беллом информации, он уверен, что пасторов используют втемную. Белл передал Идену составленную Шёнфельдом памятную записку, пояснив, что лично он ни минуты не сомневается в добрых намерениях людей, с которыми встречался. Иден пообещал сообщить Беллу о решении британского правительства позже. 13 июля Белл обсудил свои шведские встречи с сэром Стаффордом Криппсом, который отнесся к его сообщению значительно более серьезно, потому что сам получил через голландское представительство Всемирного совета церквей документ, составленный другом его сына Адамом фон Троттом, в котором были высказаны те же идеи, что в памятной записке Шёнфельда. 17 июля Иден сообщил, что, хотя он ни в коем случае не желает бросить тень на bona fides{4} информаторов епископа, все же должен с удовлетворением сообщить, что давать им какой– либо ответ — не в интересах страны. При этом он добавил, что вполне понимает глубокое разочарование, которое должен испытывать Белл.
Епископ действительно чувствовал себя крайне разочарованным. Спустя неделю он написал письмо Идену, успевшему тем временем произнести речь в Ноттингеме, в которой подчеркивалась настоятельная необходимость поражения диктаторской власти и воздания кары Германии. В письме министру иностранных дел Белл указал на некоторые положения речи, которые тесно перекликаются с отношением лорда Ванситтарта, верившего, что каждый немец ответственен за то, что сделали и продолжают делать отдельные немцы. Памятуя о словах Шёнфельда и Бонхёффера, Белл от их имени попросил: «Если бы вы могли при удобном случае разъяснить, что требование суровой кары не распространяется на тех жителей Германии, которые против немецкого правительства, которые отрицают нацизм и стыдятся совершенных нацистами преступлений, я уверен, такое заявление имело бы самое благотворное влияние на дух оппозиции. Я не верю, что политика лорда Ванситтарта есть политика британского правительства. Но пока британское правительство не может или не хочет объяснить, что с теми, кто выступает против Гитлера и Гиммлера, мы будем обращаться лучше, чем с приспешниками нацистов, вполне естественно, что немецкая оппозиция верит в нашу приверженность политике лорда Ванситтарта. Если в Германии есть люди, готовые вести войну против чудовищной тирании нацизма изнутри, разве это правильно — обескураживать или игнорировать их? Можем ли мы позволить себе отказываться от их помощи в достижении нашей цели? Если мы, сохраняя молчание, дадим им понять, что для Германии, независимо от того, является она гитлеровской или нет, нет надежды, тогда чем мы вообще занимаемся?»
Ответ министра иностранных дел был датирован 4 августа.
«В своей речи в Эдинбурге 8 мая, — писал он, — я уделил много внимания Германии. Я сказал, что, если кто-то в этой стране действительно желает возврата к государству, основанному на уважении законов и прав граждан, он должен осознавать: ему никто не поверит, пока им не будут приняты конкретные меры для освобождения от существующего режима. В настоящий момент я считаю нецелесообразным делать другие заявления. Я отлично понимаю опасности и многочисленные трудности, с которыми сталкивается оппозиция в Германии, но пока она еще себя никак не проявила. И пока она не докажет, что намерена последовать примеру угнетенных народов Европы, подвергаясь риску и предпринимая активные шаги для противодействия и свержения нацистского террористического режима, я не вижу, каким образом мы можем расширить заявления, уже сделанные правительством о Германии. Полагаю, из этих заявлений ясно, что мы не намерены отказывать Германии в праве занять место в будущей Европе. Однако чем дольше немецкий народ терпит нацистский режим, тем больше возрастает его ответственность за преступления, совершаемые этим режимом от имени народа».
Попытки Белла добиться более конкретного ответа от американского посла в Лондоне тоже не принесли успеха. Тогда, не отказываясь от всего, что было сказано им и немецкими пасторами, епископ Белл 10 марта 1943 года выступил в палате лордов и предъявил свидетельства, как он это назвал, реальности существования оппозиции в Германии. Он отметил, что для проведения этой оппозицией активных действий ей необходимы поддержка и одобрение союзников.
Менее чем через месяц Бонхёффера арестовало гестапо.
2
Причиной холодного приема, оказанного в Лондоне инициативам Бонхёффера и Шёнфельда, стали события почти двухлетней давности. Уже начинала проявляться причудливая смесь характерных особенностей немецкого движения Сопротивления, которая в итоге сдерживала их действия. Нельзя забывать, что они были заговорщиками, и то, чем они занимались, являлось самым настоящим предательством. Эти люди стали участниками заговора, имевшего целью свержение главы государства, лидера, которому все граждане, одетые в военную форму, приносили клятву верности. Для людей подобных Бонхёфферу акт насилия, который он одобрил и для осуществления которого работал, после долгих и мучительных размышлений был принят как необходимость во имя духовности, религии, Бога. Но так было не для всех участников движения.
Осенью, зимой и ранней весной 1939–1940 годов, в период напряженного ожидания, последовавший за оккупацией Польши и объявлением Британией и Францией войны Германии, активность лидеров Сопротивления в церкви, гражданских ведомствах и армии была довольно высока. Среди первых, предпринявших шаги к мирным переговорам между противниками, был друг и коллега Бонхёффера, юрист-католик доктор Иозеф Мюллер из Мюнхена, входивший в число заговорщиков, сплотившихся вокруг генерала Остера. Доктор Мюллер был другом кардинала Михаэля фон Фаульхабера, мюнхенского архиепископа, который бесстрашно проповедовал против нацизма. Доктор Мюллер не делал секрета из того факта, что он полностью разделяет отношение кардинала к Гитлеру. Через кардинала он имел доступ в Ватикан. После объявления войны Остер вызвал его в абвер и зачислил на военную службу. В октябре Мюллер уехал из Германии, чтобы приступить к работе в Риме, где ему предстояло в течение трех лет поддерживать прямые контакты с Британией{5}.
К концу месяца он уже добился некоторых результатов благодаря друзьям в Ватикане, которые от его имени обратились к британскому посланнику при папском престоле сэру Фрэнсису д'Арси Осборну. Тогда ответ был благоприятным, с оговоркой, что Гитлер и его режим должны быть устранены, и тогда Британия сможет вести переговоры с новым правительством Германии, свободным от всех связей с нацизмом. Сам папа Пий XII заявил, что готов выступить в качестве посредника между британским правительством и немецкой оппозицией. Мюллер поспешил сообщить новости в Берлин, где Донаньи, помощник Осборна в абвере, составил докладную записку, которая должна была воодушевить армейское командование на осуществление внезапного удара, о котором велась речь еще с мюнхенских событий 1938 года.
Успех не был достигнут. «Это не что иное, как предательство своей страны, — объявил Браухич, командовавший вооруженными силами. — Почему я должен на это идти? Это будет акт, направленный против народа Германии. Все немцы за Гитлера». Тогда заговорщики обратились к начальнику штаба генералу Гальдеру, который и сам участвовал в Сопротивлении. Говорят, что Гальдер в смятении даже прослезился, но решил, что нарушение присяги, данной им Гитлеру, не может быть оправдано. Оба генерала предпочитали саботировать политику Гитлера традиционным, доступным для Генерального штаба образом — возражать против его воли (разумеется, насколько это было в их силах), утверждая, что его желания технически невыполнимы.
Группа активных заговорщиков, возглавляемая Остером, состояла из воистину выдающихся личностей. Помимо Дитриха Бонхёффера в нее входил его брат Клаус Бонхёффер и их зять Ганс фон Донаньи{6}. Еще одним агентом абвера, который оставался в движении Сопротивления до самого конца, был Ганс Бернд Гизевиус. Некоторое время он служил в гестапо. По его собственным словам, в 1940 году Остер «нелегально» вовлек его в абвер. Под прикрытием работы в генеральном консульстве Германии в Цюрихе он поддерживал регулярные контакты с Алленом Даллесом, представителем американской секретной службы в Швейцарии. Полковника (позже генерала) Ганса Остера коллеги считали человеком с большим сердцем и ясным умом, искренним и честным. Гизевиус утверждал, что Остер начисто лишен личных амбиций, но был непреклонным администратором, который говорил сам себе: «Я осуществляю связь». Он был сыном пастора и в 1940 году разменял свой пятый десяток. Любил ругаться и притворяться циником, однако разделял с товарищами, также занятыми в Сопротивлении, религиозные убеждения, служившие ему духовной опорой. Он выступал в роли координатора движения, особенно для его военного крыла, вместе с тем, очевидно, не знал Ульриха фон Хасселя, занимавшегося тем же в гражданском крыле движения, до весны 1940 года. Только тогда он узнал, что Хассель занят поиском других подходов к британцам.
Хассель был патрицием по рождению и воспитанию, аристократом и интеллектуалом, избравшим дипломатическую карьеру. Он был послом Германии в Италии до 1937 года, когда его несогласие с политикой Риббентропа привело к увольнению и отставке. Его знаменитые дневники, которые он некоторое время прятал в чайной коробке, зарытой в саду его дома в Эбенхаузене (Бавария), являются бесценным источником информации о заговоре, который он полностью поддерживал. После отставки он занял должность, которая позволяла ему относительно свободно ездить по разным странам. Он должен был докладывать об экономической ситуации в странах Европы и посему регулярно посещал Швейцарию, Италию и оккупированные Германией страны, где поддерживал контакты с людьми, симпатизирующими или поддерживающими заговор. По словам Гизевиуса, этот человек обладал острым чувством юмора и дипломатической тактичностью.
В ноябре 1939 года на Хасселя неофициально вышли сами англичане. Старый итонец Дж. Лонсдейл Брайанс, член лондонского Брукс-клуба{7}, человек, много путешествовавший и завязавший дружеские контакты со многими европейскими дипломатами, задумал прекратить войну, которая, по его мнению, не нужна была никому, кроме Гитлера. Воспользовавшись знакомством с министром иностранных дел лордом Галифаксом, он предложил неофициально обсудить этот вопрос с интеллектуальной элитой Германии на нейтральной территории. Обнаружив, что министр иностранных дел проявил заинтересованность в информации о потенциальном подпольном движении в Германии, Брайанс взял дипломатию в свои руки и в октябре устроил себе поездку в Рим. Там его попытки связаться с немецкими антифашистами привели к случайной встрече в кафе с молодым человеком, которого он вначале принял за американца, но оказалось, что это итальянец по имени Детальмо Пирцио-Бироли, собиравшийся жениться на дочери Хасселя. После нескольких обстоятельных бесед Пирцио-Бироли сообщил, что его будущий тесть участвует в движении Сопротивления, и даже сообщил Брайансу его имя, оговорив, что его не узнает никто, кроме лорда Галифакса. Итальянец также передал Брайансу письменное заявление для лорда Галифакса, в котором было сказано, что Хассель будет счастлив, если контакт будет установлен от его имени.
Брайанс сразу вернулся в Лондон. Новый год еще не наступил, и, преодолев некоторые трудности, он сумел устроить для себя 8 января вторую встречу с Галифаксом. Лорд внимательно прочитал документ и, тяжело вздохнув, сказал: «Сложное это дело!» Он явно сомневался в целесообразности ведения переговоров даже с Хасселем и даже почти процитировал Вансит-арта, заявив: «Я сомневаюсь, остался ли еще хотя бы один хороший немец». После длительных размышлений он позволил Брайансу вернуться на континент, на этот раз с официальной миссией, чтобы установить прямой контакт с Хасселем, которому было присвоено кодовое имя Чарльз. Встреча состоялась 22 февраля в Швейцарии на горном курорте Ароса, где, как надеялся Хассель, он скроется из поля зрения гестапо, которое в Швейцарии проявляло повышенную активность. Старший сын Хасселя страдал от астмы, и это стало формальным предлогом для поездки.
Брайанс был очарован Хасселем, которого описывал как «высокого, гибкого, моложавого, необычайно похожего на англичанина человека. В его манерах почти мальчишеская откровенность сочеталась со спокойной энергией, которая проявлялась и в его голосе, и в походке». В дневниках Хассель называет Брайанса «мистер Икс». Он явно был впечатлен англичанином, и после ряда бесед, когда они гуляли по заснеженным склонам вокруг деревни, он дал ему послание для Галифакса, в котором изложил взгляды его круга на основу мирного урегулирования между Германией и Великобританией после смещения Гитлера. В первую очередь он хотел получить от лорда Галифакса хотя бы какие-нибудь письменные гарантии доброй воли и возможного сотрудничества.
Вернувшись в Лондон, Брайанс обнаружил в министерстве иностранных дел еще более холодное отношение к своей миссии, чем раньше. Место Галифакса занимал постоянный заместитель министра сэр Александр Кадоган, и Брайан ничего не сумел добиться, кроме разрешения вернуться и выразить благодарность Чарльзу, правда последнюю. Послания с использованием согласованного шифра, требующие соответствующего заявления от Галифакса, остались без ответа. Брайансу только позволили вернуться в Швейцарию, где он в середине апреля последний раз встретился с Хасселем и передал ему ответ британского правительства. «От бесед с мистером Икс у меня сложилось впечатление, — писал Хассель, — что Галифакс и его окружение не верят в возможность достижения мира… посредством изменения режима в Германии». 9 апреля были оккупированы Дания и Норвегия.
Пока Мюллер и Хассель вели переговоры, их коллеги также использовали все свое влияние, чтобы установить другие каналы связи. Речь идет о двух самых известных руководителях Сопротивления — генерале Людвиге Беке, бывшем начальнике Генерального штаба, и Карле Герделере, бывшем обер-бургомистре Лейпцига, работавшем в так называемом кабинете Гитлера, пока разногласия с Герингом не привели к его отставке в 1937 году.
Генерал Бек открыто заявил о своей позиции против агрессивной политики Гитлера еще в 1938 году во время мюнхенских событий и при поддержке Британии и Франции мог бы еще тогда возглавить государственный переворот, тем более что число его сторонников среди старших офицеров быстро увеличивалось. Сообщения об этом переслали в Лондон лорду Галифаксу, однако решение Чемберлена отправиться в Германию для проведения переговоров с Гитлером расстроило эти планы. Бек ушел в отставку, хотя и продолжал поддерживать связи с военными кругами. Он был очень умным и целеустремленным человеком, видным теоретиком военного дела и всегда придерживался либеральных взглядов. Но он был уже далеко не молод, имел слабое здоровье, страдал от бессонницы и частой зубной боли, которую врачи считали неизлечимой. Он был связан с Герделером, человеком, которого никто и никогда не мог понять до конца. Тем не менее это была личность настолько сильная, что впоследствии всякий раз, когда заговорщики обсуждали состав теневого кабинета, Герделер всегда оказывался будущим канцлером Германии. Знавшие Бека люди говорили, что это был мудрец или философ, истинный джентльмен, сочетавший милосердие и безусловный авторитет. Каждое его слово, каждый жест дышал благородством. От него, казалось, исходила аура честности и искренности. Он являлся сердцем движения и его общепризнанным главой (вместе с Герделером). Если разгорались споры, Бек, как никто другой, умел утихомирить страсти.
Сотрудничество Хасселя и Герделера началось еще до войны, но уже в 1939 году Хассель отметил, что Герделера считали неблагоразумным. В этом суровом, трудном человеке Хасселю больше всего нравилось то, что он стремился не разговаривать, а действовать, что выгодно отличало его от основной массы генералов и других военных. Вместе с Беком Хассель входил в замкнутую группу интеллектуалов, носившую название «общество «Среда» — своеобразный клуб мыслящих людей, членами которого было всего шестнадцать человек. Они регулярно встречались, чтобы обсудить культурные и научные проблемы. Хассель, Герделер и Бек виделись часто. Они обменивались мнениями и информацией. Расходясь во взглядах по отдельным вопросам, в главном они были едины: необходимо вовлечь генералов в активное сопротивление режиму и тем или иным способом убрать Гитлера от власти. Хасселю Герделер всегда представлялся бесстрашным рыцарем, легким на подъем и чрезвычайно активным. Оптимизм Герделера всегда бил через край, его, пожалуй, было даже слишком много, когда речь шла о крахе нацизма на ранних стадиях войны и о присоединении колеблющихся генералов к активным действиям против Гитлера.
Карьера Герделера была впечатляющей и не похожей на другие. Он был выходцем консервативного прусского рода, в котором десятилетиями пестовалось чувство долга перед государством. Его отец был судьей, воспитывали ребенка в духе высокой морали и уважения к интеллектуальным ценностям. Полученное образование определило его будущую деятельность в местной администрации и в области экономики. Он занял пост обер-бургомистра Лейпцига, дающий значительно большую власть, нежели аналогичная должность мэра в британских или американских промышленных городах. Он был прирожденным организатором, способным оратором и писателем, сильной личностью. В политике он придерживался правых либеральных взглядов. Будучи в глубине души сердечным и гуманным человеком, Герделер непоколебимо верил в необходимость соблюдения суровых пуританских моральных принципов. Возможно, поэтому ему недоставало теплоты в отношениях с людьми. По натуре это был истинный автократ, лидер, уверенный в правоте своих взглядов, что позволяло ему легко убеждать слабых или колеблющихся людей принять его точку зрения и последовать за ним.
В дополнение к должности обер-бургомистра Лейпцига Герделер согласился занять пост имперского комиссара по ценам, сначала ненадолго перед приходом к власти Гитлера, а потом еще раз — в 1934–1935 годах — уже при Гитлере, которого он попытался убедить в необходимости проведения некоторых важных реформ в местной администрации. Но его связь с нацистами длилась недолго, и позже, когда Герделер стал активным участником Сопротивления, он старался забыть об этом периоде своей жизни. В 1937 году он оставил пост обер-бургомистра Лейпцига. Произошло это после того, как в ноябре 1936 года, когда он был за границей, нацисты против его ясно высказанной воли сняли памятник Мендельсону, воздвигнутый напротив концертного зала Гевандхаус в Лейпциге, на том основании, что композитор был евреем.
Собственно говоря, тогда и началось неустанное противодействие Герделера нацизму. Выгодное предложение войти в правление компании Круппа не было принято именно по политическим соображениям. Вместо этого Герделер стал финансовым советником в штутгартской компании Роберта Боша, крупного промышленника, придерживавшегося антинацистских взглядов. Это позволило ему много ездить по стране и, таким образом, значительно расширить круг знакомств и полезных связей, которые были ему необходимы, поскольку он стал на ближайшие семь лет центральной фигурой немецкого Сопротивления{8}.
Герделер писал бесчисленные послания Герингу, папе, немецким генералам, своим знакомым внутри страны и за рубежом. Все они имели одну цель — предотвратить движение к войне. В мае 1939 года он получил возможность лично сообщить Уинстону Черчиллю о существовании сильного движения Сопротивления в Германии. Когда война была объявлена, он пытался содействовать мирным переговорам до тех пор, пока противостояние на Западном фронте не достигло такого масштаба, что обсуждение условий перемирия на благоприятных для Германии условиях стало невозможным. Он знал, что фельдмаршал Браухич, главнокомандующий сухопутными войсками, и генерал Гальдер, преемник Бека, были вполне доступны для переговоров о государственном перевороте, который на том этапе был осуществим, и многие члены движения Сопротивления были готовы поддержать действия против Гитлера. Арест Гитлера и привлечение его к суду были предпочтительнее, чем убийство, поскольку последнее сделало бы из фюрера мученика, а не преступника, злодеяния которого обязаны быть публично обнародованы. В период, предшествовавший началу войны на Западе, один за другим разрабатывались и отбрасывались соответствующие планы. Шли бесконечные дебаты о моральных и политических достоинствах и недостатках государственного переворота и убийства Гитлера, о надежности новой армии, в которой было много юных восторженных сторонников фюрера, на которых явно нельзя было положиться, если станет известно, что Гитлер жив и находится в заключении. Многие командиры, занимавшие ключевые посты в армии, выступали против любого акта насилия, внезапных действий против Гитлера. Кроме того, нельзя было сбрасывать со счетов генерала Фридриха Фромма, командовавшего армией резерва. Тем не менее на этом и следующем этапе войны Бек и Герделер сумели привлечь на свою сторону многих старших офицеров.
А переворот постоянно откладывался. В начале 1940 года Герделер продолжил попытки привлечь на свою сторону миротворцев Швеции и Швейцарии. Англичане ожидали от немецкого Сопротивления немедленных действий. Уже было ясно, что Лондон не предпримет никаких, пока переворот, о котором шло так много разговоров, не произойдет. Тем не менее он так и не стал реальностью{9}.
Вместе с тем было очевидно, что Гитлер готовит вторжение на Запад. Об этом следовали многочисленные предупреждения, а в январе 1940 года произошел известный инцидент: штабной офицер с планами вторжения совершил посадку в Бельгии. Короче говоря, намерения Гитлера были совершенно очевидны. А движение Сопротивления Германии продолжало предпочитать разговоры действиям. Доведенный до отчаяния всеобщим бездействием Остер, начиная с ноября, тайно предупреждал страны, в которые готовилось вторжение, о грядущих событиях, даже указывая даты ожидаемого начала враждебных действий. С точки зрения немцев, такие действия уже можно было считать государственной изменой. Этим занимался человек, движимый ненавистью к Гитлеру и моральным отвращением к преступной агрессии против дружественных соседних стран. Тем не менее отсутствие каких-либо признаков обещанного государственного переворота привело к появлению у англичан подозрения, что агенты Гитлера проводят в жизнь некий хитроумный план, а в Германии на самом деле нет никакого движения Сопротивления{10}.
15 апреля и без того слабая связь англичан с агентами Сопротивления прекратилась со вторжением Гитлера в Данию и Норвегию. Так или иначе, правительство Чемберлена находилось на грани краха. Через месяц — 10 мая — Гитлер вторгся в Голландию и Бельгию, и британским премьером стал Уинстон Черчилль. С того дня агентам заговорщиков пришлось столкнуться с новой жесткой политикой — требованием безоговорочной капитуляции. Добрую волю немецкого движения Сопротивления следовало доказать миру, сбросив Гитлера с высот могущества и популярности, достигнутых им благодаря успеху безжалостной стратегии блицкрига.
Нельзя утверждать, что Уинстон Черчилль ничего не знал о движении Сопротивления в Германии. Он, безусловно, слышал о нем от противника Гитлера Эвальда фон Клейста еще в августе 1938 года, а также в мае 1939 года от Герделера. В обоих случаях он продемонстрировал острую заинтересованность. Кроме того, он имел беседу с Фабианом фон Шлабрендорфом, одним из тех, кто позднее оказался действительно замешанным в покушение на жизнь Гитлера. Они были лично знакомы и в июле 1939 года встречались в Чартвелле. В самом начале Шлабрендорф заявил:
— Я не нацист, а патриот своей страны.
Черчилль усмехнулся и ответил:
— Я тоже.
Он даже передал через Клейста ободряющее послание, которое читали Остер, Бек, Гальдер и многие другие. Копия этого послания, обнаруженная гестапо среди бумаг Клейста, стала одной из причин его казни в 1945 году. Но Черчилль и союзники остались глухими к неопределенным просьбам представителей немецкого Сопротивления о прямой поддержке, потому что открытая агрессия Гитлера уже была развязана. Только уничтожение тирана, выполненное без всякой помощи извне, по мнению нового британского премьера, могло стать доказательством надежности немецких заговорщиков.
Как мы видели, уже в 1940 году Герделер отчаялся подтолкнуть генералов к выработке плана государственного переворота, который впоследствии был бы исполнен. Как говорил Хассель, казалось, что генералы желали, чтобы гитлеровское правительство само приказало им сбросить себя.
Быстрые завоевания 1940–1941 годов все беседы с генералами сделали тщетными, теперь они не знали, чего ждать: то ли наград и званий от Гитлера, то ли увольнения, как некомпетентных военачальников, не сумевших выполнить чисто интуитивных, весьма коварных стратегических замыслов своего хозяина. Хассель, более тонко чувствовавший обстановку, чем Герделер, начал понимать, что его товарищ целиком находится во власти устаревших концепций и поспешных пророчеств о крахе режима. В ноябре 1941 года он заявил, что имел весьма благоприятные контакты с Черчиллем. Хассель был уверен, что это всего лишь фантазии. Он понимал, что Герделер — это сильная воля, но при этом никакой тактики. На долгие месяцы затянулась дискуссия о том, кто станет лидером в теневом кабинете Герделера. А Гитлер продолжал благоденствовать, и споры по поводу целесообразности восстановления монархии в Германии не причиняли ему никаких неудобств.
Следующие три года (1941–1943), ставшие для немецкого Сопротивления годами несбывшихся надежд и неисполненных планов, Герделер занимался написанием бесконечных докладных и пояснительных записок, в которых намечал основные положения конституции и состав нового кабинета, который должен был прийти к власти после устранения Гитлера. Он искал подходы и к другим лидерам недовольных слоев, в первую очередь к тем, кто прежде организовывал трудовые союзы, таким как социалисты Вильгельм Лойшнер, Юлиус Лебер, Теодор Хаубах, Карло Мирендорф и Адольф Рейхвейн. Они тоже хотели бы видеть успех государственного переворота, однако, как и в случае с другими подразделениями движения Сопротивления, им не хватало эффективной координации. За долгие годы нацистского режима многие из их рядов были посажены в тюрьмы, подверглись пыткам или были убиты.
Военный либерализм Герделера, столь же самовластный, как и сам этот человек, теперь сместился немного влево, чтобы соответствовать своим новым коллегам. Но все же он продолжал считать правильным обсуждение вопроса реставрации монархии. Постоянно разрастающийся круг Герделера в движении Сопротивления проводил время в непрекращающихся спорах и обсуждениях устройства новой Германии. Об этом они мечтали, оставаясь под пятой Гитлера. По словам Гизевиуса, их лихорадочная активность являлась признаком беспомощности. Встречались везде, где было можно, — в частных домах, например, у Клауса Бонхёффера регулярно бывали Хассель, Бек, Лейшнер и даже принц Людвиг-Фердинанд — второй сын кронпринца. Но за ожесточенными дискуссиями чувствовался страх, что союзники потребуют безоговорочной капитуляции правительства Германии, независимо от того, с Гитлером или без, и все планы оставались пустыми словами. Не один Герделер продолжал попытки получить от союзников некое положительное заявление, коего так не хватало лидерам Сопротивления. Немцы хотели ощутить уверенность, что после переворота их, по крайней мере, не будут подозревать в злых умыслах и что почетные переговоры станут возможными.
Преисполненный желания добиться успеха, Бонхёффер отправился в Стокгольм, но результат оказался отрицательным. Герделер надеялся, что на первый план выступит искусство компромисса, коим столь виртуозно владели англичане, но ошибся. В июле 1941 года Британия и Россия пришли к соглашению о том, что не станут подписывать сепаратный мир с Германией. В январе 1943 года Америка тоже пришла к выводу, что капитуляция Германии должна быть безусловной{11}. Поэтому для членов немецкого Сопротивления ничего не изменилось. Как сказал в августе 1943 года Энтони Иден епископу Беллу, «если кто-то в Германии действительно желает возврата к государству, основанному на уважении законов и прав граждан, он должен осознавать: ему никто не поверит, пока им не будут приняты конкретные меры для освобождения от существующего режима».
3
«Молчание британского правительства было сокрушительным ударом для тех, от имени кого выступал пастор», — писал епископ Белл после войны. Имея связи в Женеве, они постепенно поняли, что все участники заговора должны рассчитывать только на себя. Они были оставлены в изоляции, наедине с собой и своей совестью. Также им предстояло самостоятельно разобраться с глубокими противоречиями во взглядах.
Письмо, подписанное «Джеймс», которое епископ Белл увез в Англию, было написано графом Гельмутом Джеймсом фон Мольтке его близкому другу Лайонелу Кёртису в Оксфорд. Мольтке мог бы по праву считаться самой видной фигурой немецкого Сопротивления, однако, несмотря на свое безусловное мужество, никогда ему не изменявшее, он до самого конца упорно отказывался принимать участие в любых актах насилия против Гитлера.
В письме Кёртису он точно описывает свое отношение к обстановке в Германии летом 1942 года:
«Я постараюсь передать тебе это письмо, в котором изложил состояние дел на нашей стороне. Все одновременно и хуже и лучше, чем может представить человек, не живущий в Германии. Наши дела ужасны, потому что тирания, террор, утрата жизненных ценностей достигли такого размаха, что еще совсем недавно я бы попросту не поверил, что такое возможно. <…> Несколько по-настоящему благородных людей, которые пытаются остановить поток, оказались в полной изоляции, поскольку, работая в этих неестественных условиях, не могут доверять своим товарищам. К тому же они находятся в постоянной опасности из-за слепой ненависти угнетенных слоев населения, даже когда им удается спасти кого-то от самого худшего. Тысячи немцев, которые выживут, будут умственно мертвы и непригодны для нормальной работы…
Но вместе с тем наши дела лучше, чем ты можешь себе представить, причем во многих отношениях. Самое главное — это начавшееся духовное пробуждение, соединившееся с готовностью, наблюдаемой в обеих христианских конфессиях — протестантской и католической. <…> Мы стараемся начать строительство на этом фундаменте, и я надеюсь, что по прошествии нескольких месяцев мир вокруг нас получит более весомое доказательство этого стремления. Многие сотни наших людей умрут, не дожив до светлого будущего, но сегодня они готовы к этому. Причем это относится и к молодому поколению. Сейчас пусть немногочисленная, но самая активная часть населения начинает понимать не только то, что ее повели не в ту сторону и что нас ждут тяжелые времена… Люди постепенно осознают, что их деяния греховны, и каждый несет личную ответственность за все происходящие жестокости как христианин. <…> Ты знаешь, что с первых дней я был против нацизма. Но риск, которому мы подвергаемся, и готовность к самопожертвованию, которая необходима нам уже сейчас и понадобится завтра, требует большего, чем правильных этических принципов, особенно когда мы знаем, что успех нашей борьбы будет, возможно, означать наш полный крах как национального образования. Но мы готовы к этому.
Другое ценное качество, которое мы медленно, но верно приобретаем, заключается в следующем: большие опасности, с которыми мы сталкиваемся при освобождении от нацизма, заставляют нас мысленно представлять послевоенное устройство Европы. Мы можем надеяться подтолкнуть наш народ к свержению режима ужаса и террора, только если сумеем показать, что их ждет впереди, за страшным и безрадостным ближайшим будущим. И эта картина грядущего должна быть такой, чтобы лишенные иллюзий люди захотели к ней стремиться, работать ради нее, чтобы они снова обрели веру в жизнь. <…> Должен сказать, что даже под тем чудовищным гнетом, под которым мы вынуждены работать, нам удалось достичь некоторых успехов, которые когда-нибудь станут очевидны. Вряд ли ты можешь себе представить, что значит работать группой, когда нельзя ни пользоваться телефоном, ни отправить по почте письмо, когда ты не можешь назвать имя своего ближайшего друга другим товарищам из опасения, что одного из них могут схватить и он под пытками назовет известные ему имена».
В июне 1942 года Гельмут фон Мольтке был молодым человеком тридцати пяти лет от роду. Его мать Дороти Роуз-Джеймс — англичанка африканского происхождения — до замужества приехала погостить в поместье семейства Мольтке в Крейсау, в Силезии. В возрасте восемнадцати лет она впервые увидела отца Гельмута и через неделю обручилась с ним. Родители были ревностными христианами, последователями учения «христианская наука», имели либеральные политические взгляды и очень любили своих восьмерых детей. Граф, однако, оказался человеком не слишком практичным, а потому в 1930 году двадцатитрехлетнему Гельмуту, изучавшему в это время право, пришлось взять на себя управление отцовским поместьем, которым завладели кредиторы. К 1935 году он ликвидировал семейные долги, а пока занимался поместьем, очень полюбил жизнь в деревне и стал просвещенным землевладельцем, почти социалистом. В 1931 году он женился на Фрейе Дейхман, с которой вместе учился. Благодаря матери он полюбил Англию и впитал дух английского либерализма. Крестными отцами обоих его сыновей, один из которых родился в 1937 году, а другой уже во время войны, стали англичане.
Мольтке обладал впечатляющей внешностью и интеллектом. Он был худощав, силен и очень высок — его рост был лишь немногим менее двух метров. Он очень редко употреблял спиртные напитки и никогда не курил. Простые домашние радости и жизнь в сельской местности привлекали его куда больше, чем лицемерный Берлин. Благодаря острому уму он отлично видел окружавшие его ненужные условности и ханжеское притворство, однако его фанатичная целеустремленность и всегдашняя сосредоточенность неизменно смягчались легким чувством юмора. Когда началась война на Востоке, он придумал воображаемого русского управляющего поместьем Крейсау, необычные взгляды которого иногда пересказывал, чтобы позабавить семейство.
Мольтке со временем отошел от «христианской науки», но сохранил преданность христианским принципам. Он был другом и католиков, и христиан, и иудеев. Пока мог, он практиковал в Берлине в качестве международного адвоката, специализировавшегося на помощи евреям и другим народам, преследуемым нацистами. Многим он помог уехать из Германии. Чтобы сохранить связи с Англией после прихода нацистов к власти, он подготовил свое принятие в адвокатское сословие в Англии и подружился с Лайонелом Кёртисом, который знал семью его матери в Южной Африке. Поэтому до 1939 года Мольтке часто бывал в Англии и прекрасно говорил по-английски. После начала войны он был прикомандирован к Верховному командованию вооруженных сил Германии в качестве советника по вопросам права и экономики. Здесь он познакомился с графом Петером Йорк фон Вартенбургом, еще одним молодым землевладельцем-идеалистом, который поначалу разделял убеждение Мольтке о том, что намного важнее подготовиться к духовному и физическому возрождению Германии после ее неминуемого поражения, чем участвовать в заговорах с целью ускорения падения Гитлера. Любые акции, направленные лично против Гитлера, они считали прерогативой военных или эсэсовцев. В общем, Мольтке стал, по словам Гизевиуса, «адвокатом бездействия».
Со временем Мольтке и Петер Йорк собрали вокруг себя группу единомышленников. Каждую неделю они проводили тайные встречи в Крейсау, причем одна из них произошла именно в тот день, когда Бонхёффер встречался с Беллом в Швеции. Более частые и менее организованные встречи проходили в небольшом городском доме Петера Йорка в предместье Берлина Лихтерфельде. Йорк никогда не забывал, что его прадед фельдмаршал Йорк фон Вартенбург был тем человеком, который в 1812 году начал войну за независимость против Наполеона, не подчинившись его власти и договорившись с русскими.
Группа была названа «группой Крейсау», ее признанным лидером стал Мольтке, а Йорк — его ближайшим помощником. Постепенно она расширялась, и в 1943 году туда входило уже больше двадцати человек, включая представителей католической и протестантской церквей и объявленной вне закона социал– демократической партии, академических и правовых кругов. Среди членов группы был Адам фон Тротт, служивший в министерстве иностранных дел, в задачу которого входило поддерживать, сколько возможно, внешние связи группы.
1943 год для «группы Крейсау» стал периодом продолжительных и напряженных споров, которые довольно часто становились слишком горячими и переходили в открытую перебранку. Главной целью встреч была разработка новой христианской конституции Германии, в которой правосудие и всеобщее благоденствие заменило бы не только тиранию Гитлера, но и автократический дух традиционного прусского монархического правительства. К августу 1943 года основные принципы конституции были определены и содержали такие положения, как: «Исходный пункт заключается в предопределенном созерцании человеческим существом божественного порядка, который дает ему его внутреннее и внешнее существование».
То, что они создали, было хартией свобод, приправленной христианским мистицизмом.
При всем желании этот кружок идеалистов и интеллектуалов не мог продвинуться далеко, не контактируя с другими, более опытными, активными и влиятельными членами Сопротивления. Они знали, что в Сопротивлении есть немало людей, главной целью которых было убийство Гитлера и создание промежуточного правительства для управления страной.
Такая пробная встреча прошла в доме Петера Иорка 22 января 1943 года, за восемь дней до десятой годовщины прихода Гитлера к власти и за девять дней до разгрома под Сталинградом. «Группу Крейсау» и ее сторонников представляли Мольтке и Иорк, Тротт, Ойген Герштенмайер и Фриц фон дер Шуленбург, от других организаций присутствовали Бек, Хассель и Герделер{12}.
Первым и самым очевидным различием между людьми этих двух групп был возраст. Беку было шестьдесят два года, а Герделер и Хассель вплотную подошли к шестидесятилетнему рубежу. Наиболее близким по духу «группе Крейсау» был, вероятно, Хассель. Как и Мольтке, он много поездил по свету и мечтал присоединить Германию к некой федерации, куда бы вошли и другие страны Западной Европы. Как и Тротт, он занимал необременительную официальную должность, позволявшую ему сравнительно свободно перемещаться. Все знали, что Хассель человек совестливый, смелый и обладающий множеством других достоинств, хотя слишком джентльмен и дипломат, чтобы делать нечто большее, чем служить посредником или координатором для других, более активных членов Сопротивления.
Как бы то ни было, Хассель провел активные консультации с Мольтке, Троттом и их другом Фрицем Шуленбургом и понял разницу между точками зрения этих молодых людей и Герделера. Он осознал, что появились «новые и весьма значительные трудности… Герделер совершенно не приемлет идеи этих молодых людей». Сам Хассель не рассматривал членов «группы Крейсау», которых называл «радикальными левыми, возглавляемыми хитрецом Гельмутом Мольтке с его англосаксонскими и пацифистскими наклонностями», реальными политическими фигурами, однако был доволен, что молодежь обладает достаточной уверенностью, чтобы обсудить с ним неясности. Он назвал их переговоры «чрезвычайно удовлетворительным обменом идеями, чувствуя, что стоит между молодежью и Герделером, так же как между военными и гражданскими противниками нацизма, которых всячески пытался сблизить и ликвидировать растущие противоречия между ними. Эти противоречия он вполне обоснованно считал несвоевременными и пустыми. Его постепенно стало раздражать твердолобое упрямство Герделера. «В разных слоях появились серьезные сомнения, касающиеся Герделера, во всяком случае как политического лидера». К этому времени Хассель стал считать лидерство Герделера рискованным. В своем политическом окружении Бек считался признанным лидером, но, как утверждал Хассель, он постепенно становился слишком снисходительным. В общем, Хассель, имевший немалый дипломатический опыт, очень беспокоился из-за столкновения личностей. По его мнению, число пригодных для дела людей было слишком мало, чтобы позволить себе споры из-за пустяков. Ему казалось, что проблема членства в теневом кабинете мало– помалу выдвигается на первый план и многим представляется более важной, чем устранение Гитлера.
Поучаствовать в исторической встрече в доме Петера Йорка был приглашен Бек, но Герделер сделал попытку завладеть всеобщим вниманием и возглавить беседу. Бек, по словам Хасселя, был «слаб и сдержан», зато Герделер показался ему «реакционером». Хассель отметил резкий контраст, особенно в идеях, касающихся социальной политики, между молодежью и Герделером.
Из десяти человек, присутствовавших на той встрече, только один Ойген Герштенмайер пережил события следующего года. Герштенмайер вспоминает, что, пока Тротт говорил о необходимости европейской федерации, а Йорк об административных реформах в Германии, все шло хорошо. Герштенмайер тоже внес свою лепту, упомянув о необходимости сотрудничества между церковью и профессиональными союзами. Но вскоре Мольтке и Герделер сцепились не на жизнь, а на смерть.
Встреча, продолжавшаяся несколько часов, завершилась своего рода соглашением — снова и снова повторенным призывом к скорейшему перевороту. Бек, который слушал внимательно, но в дискуссии не участвовал, подвел итог, заявив, что для начала должен выяснить, какими должны быть силы.
Эти силы появились со стороны, откуда никто из присутствовавших на встрече их не ждал. Речь шла о молодых военных с русского фронта.
4
1943 год стал годом, когда военная удача стала изменять Гитлеру. Все началось с разгрома под Сталинградом, за которым последовала потеря Северной Африки, крах Муссолини и оккупация союзниками Италии, отступление на Восточном фронте, усилившиеся бомбежки Германии. Это также был год, когда единственные люди, обладавшие ресурсами для осуществления переворота, военные, дали миру группу молодых и целеустремленных офицеров, которые не боялись риска, неизбежного при покушении на жизнь Гитлера.
Одним из этих людей был барон Хенинг фон Тресков, который в 1943 году в возрасте сорока двух лет являлся начальником штаба группы армий «Центр» на русском фронте. Штаб находился в Смоленске. Тресков, как и многие видные фигуры германского Сопротивления, обладал силой характера, сформировавшегося в результате сочетания христианского воспитания и глубоко укоренившихся семейных традиций. Он происходил из семьи потомственных прусских военных и, если не считать нескольких лет, которые он посвятил биржевой и банковской деятельности, постоянно служил в штабе армии, первоначально под началом Бека, ненависть которого к нацизму очень скоро стал разделять. После успешной службы в Польше и во Франции он был представлен к званию генерал-майора и назначен офицером в штаб фельдмаршала фон Бока в России. Оказавшись там, он с помощью нескольких других офицеров превратил штаб в мозговой центр заговора против Гитлера. Первоначальный план арестовать Гитлера во время его визита в группу армий провалился из-за отсутствия реальной поддержки со стороны сначала фельдмаршала, а потом и его преемника фон Клюге, сменившего фон Бока в декабре 1941 года.
По свидетельству Фабиана фон Шлабрендорфа, также офицера штаба и друга фон Трескова, который придерживался антинацистских взглядов еще со студенческой скамьи, Тресков был «справедливым, умелым и трудолюбивым» человеком. Он обладал «благородным характером, остротой восприятия и способностью к интенсивной работе. Также он обладал несомненной способностью воодушевлять тех, кто его окружал. «Он отдавал всего себя целиком нашей борьбе», — утверждал Шлабрендорф.
Часто задают вопрос: почему какой-нибудь храбрец, вхожий к Гитлеру, не достал пистолет и не пристрелил диктатора? Тогда бесконечные дискуссии «группы Крейсау», приходы и уходы Бека, Герделера и Хасселя, тайные совещания военных заговорщиков, входящих в теневой штаб, обрели бы смысл. Все они наблюдали Гитлера на расстоянии, окруженным недосягаемыми для них людьми, и им казалось, что к нему невозможно просто подойти и убить. Только сложная и тайная система приготовлений сможет проникнуть через созданную фюрером систему личной безопасности. Причем от этих приготовлений приходилось постоянно отказываться или корректировать их, чтобы согласовать с вечной неопределенностью перемещений Гитлера и частым изменением его планов. Кроме того, ни один человек не допускался к Гитлеру с оружием. Заговорщики неоднократно пытались заручиться поддержкой приближенных Гитлера, но всякий раз обнаруживали, что их доводы оказываются менее весомыми, чем человеческий страх, практическая целесообразность, слабость характера, инертность, но прежде всего впитанный с молоком матери запрет нарушить присягу на верность фюреру, которую в армии приносили все. Было легко увидеть, как клятва верности перетягивала на чаше весов куда более весомые моральные принципы, которые требовали немедленного устранения Гитлера во имя Бога, человечества и поруганной чести Германии.
В то же самое время люди, подобные Трескову, понимали, что индивидуальный террор, несогласованное покушение на жизнь Гитлера может оказаться более опасным, чем отсутствие покушения вообще. Тресков работал не в изоляции. Он поддерживал постоянную связь с Беком, Остером и другими членами движения Сопротивления в Берлине. С Герделером он впервые встретился осенью 1942 года в Смоленске. Снабженный фальшивыми документами, обеспеченными Остером, Герделер по приглашению Трескова предпринял опаснейший восьмидневный вояж в Россию, имевший целью добавить свое достаточно весомое слово к давлению, оказываемому на Клюге. По свидетельству Шлабрендорфа, Тресков был глубоко впечатлен Герделером, который приложил все силы к тому, чтобы убедить Клюге арестовать Гитлера при его следующем визите в Смоленск.
Герделер, так и не утративший оптимизма, вернувшись в Берлин, искренне верил, что сумел привлечь Клюге на сторону заговорщиков. Тем не менее фельдмаршал предпочел подобострастие перед Гитлером и в свой шестидесятый день рождения с благодарностью принял от него чек на четверть миллиона марок — унизительное и не облагаемое налогами свидетельство его хорошего поведения. Как утверждает Шлабрендорф, Тресков боролся за душу Клюге. «Он снова и снова думал, что убедил Клюге в необходимости активных действий, только для того, чтобы на следующий день убедиться, что старый фельдмаршал снова колеблется. Со временем Клюге поддался его влиянию. Но только его влиянию». Когда Тресков узнал о подарке ко дню рождения, он сумел воспользоваться этим для укрепления своего влияния на Клюге. Он утверждал, что мир только тогда поймет, почему фельдмаршал принял подарок, если будет уверен, что это было сделано, чтобы избежать увольнения, чтобы Клюге мог сохранить положение, в котором со временем сможет сбросить своего непрошеного благодетеля. Клюге был искренне признателен за столь удобное объяснение, а Тресков использовал его как моральный шантаж.
Однако когда дело дошло до точки, откуда уже не будет возврата, подавляющее большинство генералов и фельдмаршалов отказались действовать, вспомнили о присяге и с одинаковым стыдом продолжали принимать и награды, и оскорбления. При этом чем выше ранг, чем более сильной была склонность к компромиссу, хотя и солдаты, и гражданские лица на Восточном фронте продолжали умирать ежедневно десятками тысяч.
В ноябре Тресков сам побывал в Берлине, где снова встретился с Герделером и генералом Фридрихом Ольбрихтом — главой снабжения армии резерва и одним из основных заговорщиков, работавших вместе с Беком и Остером. На этой встрече снова обсуждали убийство Гитлера, и Ольбрихт попросил восемь недель на то, чтобы согласовать план одновременных действий в Берлине, Вене, Кёльне и Мюнхене, которые должны последовать одновременно со смертью фюрера. Ольбрихт, по словам Шлабрендорфа, был глубоко религиозным человеком и, благодаря вере, убежденным противником нацизма. Он обладал большой властью в армии резерва, расквартированной в Германии. Гизевиус его хорошо знал. Он утверждал, что это преданный человек, но скорее блестящий администратор, чем революционер. Шлабрендорф был связующим звеном между берлинскими заговорщиками и Тресковом на Восточном фронте. Для обеспечения безопасности Сопротивления всеми его членами соблюдалась строжайшая дисциплина. «Беспокойство о том, что гестапо, быть может, нас уже обнаружило и следит за нами, было парализующей тяжестью, сопутствовавшей нам ежедневно и не дававшей нам спокойно спать ночами».
В марте 1943 года Бек перенес тяжелую операцию, а в апреле Остер оказался под подозрением гестапо. С этого времени дневники Хасселя содержат меньше информации о деятельности оппозиционных сил в армии. Имя Трескова, к примеру, в них не упоминается вообще. Хасселя тоже предупредили, что он и Бек, который медленно выздоравливал, под колпаком у гестапо. В результате центр тяжести движения Сопротивления переместился из военной области в гражданскую, если не считать бурной деятельности Герделера. Шлабрендорф вспоминал, что однажды поздно вечером в феврале Ольбрихт поручил ему передать Трескову, что план захвата власти одновременно в Берлине, Кёльне, Мюнхене и Вене готов.
Эту новость Шлабрендорф сообщил Трескову в Смоленске в присутствии Донаньи. После этого Тресков сказал Донаньи, что покушение на жизнь Гитлера будет произведено в ближайшем будущем. Шлабрендорф вспоминал, что по этому поводу была устроена веселая вечеринка.
У Трескова слова не расходились с делом. Шлабрендорф подробно описал, как была предпринята первая попытка покушения на жизнь Гитлера и как она провалилась. Гитлер должен был в марте посетить штаб группировки. В последний момент Клюге не решился на сотрудничество, поэтому Тресков и Шлабрендорф решили действовать самостоятельно. Они запланировали 13 марта подложить в самолет Гитлера бомбу замедленного действия. Бомба, замаскированная под пакет с двумя бутылками бренди, которые Тресков передал в подарок знакомому офицеру в ставке Гитлера, была передана одному из помощников фюрера при входе в самолет. Перед тем как отдать пакет, Шлабрендорф лично привел в действие часовой механизм. Но бомба не взорвалась — не сработал детонатор, и Шлабрендорфу пришлось подвергнуть себя чудовищной опасности — лететь в Растенбург и разыскивать пакет до того, как его доставили адресату, объяснив, что произошла ошибка. Соответствующее сообщение он получил по телефону, когда стало известно, что самолет фюрера благополучно приземлился.
В том же месяце другим офицером из окружения Трескова, полковником фон Герсдорффом, было произведено еще одно покушение. Оно должно было состояться при открытии фюрером выставки в Берлинском военном музее. Герсдорфф был смертником, и должен был, держась как можно ближе к Гитлеру, привести в действие заряды, которые находились в карманах его шинели. Только Гитлер, как это нередко бывало, из соображений безопасности в последний момент изменил планы. Он не пробыл на выставке достаточно долго для того, чтобы сработали часовые механизмы. И Герсдорффу пришлось отказаться от попытки.
Все это было в марте. В апреле Сопротивление лишилось своих лучших людей. Остер едва избежал ареста, когда военная разведка — абвер, где он служил под началом генерала Канариса, начала разваливаться под давлением службы безопасности Гиммлера (Sicherheitsdienst) — СД, — которая являлась внешней разведкой СС и гестапо. Ее руководителем был Вальтер Шелленберг. Остер удалился в Лейпциг, где находился под тщательным надзором гестапо. Другим сотрудникам абвера повезло меньше. Дитрих Бонхёффер, Йозеф Мюллер и Ганс фон Донаньи были арестованы. Тресков немедленно попросил у Клюге отпуск по болезни и поспешил в Берлин. Он желал лично убедиться, что можно сделать, чтобы ликвидировать брешь в рядах членов движения, бывших его главной связью с армией резерва, от которой зависел успех государственного переворота. Он обнаружил, что Ольбрихт уцелел, и они вместе стали подыскивать кандидатуру для замены Остера. Выбор пал на графа Клауса фон Штауффенберга.
Штауффенберг должен был начать действовать там, где Тресков был бессилен. Это был удивительный человек, рафинированный аристократ, выходец из старого дворянского рода Южной Швабии, давшего миру многих известных людей. Он был католиком, по материнской линии кузеном Петера Йорка. Штауффенбергу только что исполнилось тридцать пять лет, был он красивым, веселым и необычайно талантливым. Вместе со своим братом Бертольдом он удостоился дружбы ссыльного поэта Стефана Георге, чье чувство истинной элитарности, неподдельной аристократичности Константин Фицгиббон сравнил с Йитсом.
Штауффенберг сделал превосходную карьеру в армии. После окончания обучения в военной академии в 1938 году он стал штабным офицером. Его многочисленные таланты были общепризнанными. Один из старших офицеров утверждал, что у этого человека были задатки гения, достойного преемника фельдмаршала Мольтке. Он был исключителен во многих отношениях: в науке (он свободно говорил по-английски и великолепно знал историю), в скорости, с которой работал (никто не обладал способностью к концентрации лучше, чем он), в быстроте реакции, физической силе и выносливости, в благородстве по отношению к друзьям, в чувстве юмора, помогавшем ему в моменты высшего напряжения или опасности. По словам Шлабрендорфа, они нашли человека, который разительно отличался от среднего солдата. «Презрение Штауффенберга к Гитлеру имело духовную основу. <…> Оно шло от христианской веры и моральных убеждений. Его искренность и бдительность, чистота, настойчивость и отвага, соединившись с техническими знаниями и высокой работоспособностью, сделали его фигурой номер один в Сопротивлении. Он, казалось, был рожден для этой роли».
Хотя Штауффенберг по воспитанию являлся католиком и монархистом, во время войны его политические взгляды стали намного левее. Уже в 1938 году — во время мюнхенских событий — он стал убежденным противником нацизма и проявлял иногда немалую опрометчивость в высказываниях. В его обязанности входило материально-техническое снабжение 6-й танковой дивизии в Польше, в 1940 году он был переведен в Верховное командование сухопутных войск, где оставался до февраля 1943 года и занимался перспективным планированием для армии, в связи с чем много ездил по оккупированной территории Европы.
Летом 1941 года во время одной из таких поездок Штауффенберг встретился с Тресковом и поделился с ним своими взглядами на Гитлера и нацизм. Это была не первая их встреча. Тресков слышал возмущенное выступление Штауффенберга, в котором еще совсем молодой офицер, тридцати трех лет от роду, не побоялся перед лицом генералов Гальдера, Штюльпнагеля, Фельгибеля и Вагнера в офисе Гальдера во Франции обвинить Гитлера в желании продемонстрировать свою силу на бульварах и улицах Парижа. Заручившись поддержкой Трескова и других молодых офицеров, он потребовал немедленного проведения государственного переворота, хотя Гальдер вполне обоснованно указал на то, что момент триумфа Германии вряд ли можно считать подходящим временем, чтобы ожидать широкой поддержки подобной акции.
В России Штауффенберг принял участие в более или менее тайных операциях по созданию русских антикоммунистических боевых единиц, решительно отказываясь относиться к ним иначе чем как к равным. Так же как Тресков постоянно старался привлечь на свою сторону фон Клюге, Штауффенберг в декабре 1942 года потребовал, чтобы Манштейн, командующий группой армий «Юг», еще до разгрома под Сталинградом повернул оружие против Гитлера. План заключался в том, чтобы три фельдмаршала, командовавшие группами армий на Восточном фронте, вместе с генералом Паулюсом, командиром 6-й армии, окруженной под Сталинградом, потребовали отстранения Гитлера от командования армией и его ареста в случае отказа. Манштейн не согласился, заявив, что может действовать только по приказу вышестоящего командования. А его главнокомандующим был Гитлер.
Тресков решил действовать самостоятельно с помощью своего ближайшего окружения. А Штауффенберг, разочаровавшись, попросил о переводе в действующие войска и в феврале 1943 года был переведен в Тунис в состав Африканского корпуса генерала Роммеля. 7 апреля автомобиль Штауффенберга был атакован английским самолетом, офицер получил серьезные ранения. Ему пришлось перенести несколько сложных операций, и, кочуя с одной больничной койки на другую, Штауффенберг окончательно укрепился в мысли о необходимости избавить Германию от Гитлера.
Он потерял два пальца на левой руке, правую руку и левый глаз. Одно время врачи опасались, что молодой офицер останется слепым. Левое ухо и колено также пострадали{13}. Люди со значительно менее тяжелыми ранениями покидали военную службу, но Штауффенберг сказал своей жене, графине Нине фон Штауффенберг, что считает своим долгом спасти Германию. Он не сомневался, что все офицеры Генерального штаба в ответе за происходящее. В конце апреля он написал Ольбрихту, что через три месяца будет готов приступить к выполнению своих обязанностей. Тресков и Ольбрихт, которые как раз подыскивали кандидатуру для замены Остера, поняли, что Штауффенберг, несмотря на раны, подходит больше, чем кто-либо другой. В октябре 1943 года он стал начальником штаба генерала Ольбрихта — заместителя командующего армией резерва и начальника общевойскового управления Верховного командования сухопутных войск{14}.
Первой задачей Штауффенберга стала помощь Трескову в военной подготовке переворота, который должен был последовать за убийством Гитлера. Эта работа, по словам его вдовы, была начата Тресковом в июле после отпуска и продолжалась на Бендлерштрассе все лето. В октябре к нему подключился Штауффенберг, и они вместе ее завершили. В августе Тресков встретился с Герделером и заверил его, что все три командующих на Восточном фронте, и в первую очередь Клюге, готовы к сотрудничеству. В сентябре Клюге отважился посетить Ольбрихта в его частном доме и долго беседовал с ним, Герделером и Беком, который, хотя еще был очень слаб после болезни, восстановил свои связи с заговорщиками. Клюге отлично понимал, что крах Восточного фронта — всего лишь вопрос времени, был озабочен переговорами о мире. Он даже настаивал, вопреки аргументам Герделера, считавшего, что Гитлера следует вынудить уйти в отставку, что убийство — единственный выход из положения. Клюге пообещал, что позаботится об устранении Гитлера, если Герделер займется переговорами с западными союзниками. Заговорщики почувствовали, что у них, наконец, появился лидер, столь необходимый на Восточном фронте. Однако вскоре после своего возвращения в штаб Клюге был тяжело ранен в автомобильной аварии и выбыл из строя на несколько месяцев.
План, который Тресков составлял с помощью Штауффенберга, стал основой известной операции «Валькирия», предусматривающей военную оккупацию Берлина, и должен был составляться таким образом, что, если бы ответственным стал пронацистский командир, он бы ничего не заподозрил о природе путча{15}. План предусматривал передвижения войск, необходимые, если миллионы иностранные рабочих, находящихся в Германии, организуют бунт. Это дало Штауффенбергу возможность, когда он в октябре принимал дела у Трескова, расширить план, чтобы тот охватил весь внутренний фронт Германии.
Проблемы были нелегкими. Армия резерва слаба, в нее входили пожилые люди, раненные и необученные солдаты, а ей предстояло оказаться лицом к лицу с мощными эсэсовскими формированиями, стоящими в окрестностях Берлина и всегда готовыми отправиться на фронт. Диспозиция обеих сил постоянно менялась, так же как и их командиры. Надежный человек в критический момент мог оказаться замененным другим, вовсе не расположенным к сотрудничеству. Большая трудность заключалась в том, что неизвестное число эсэсовцев было расквартировано в казармах, расположенных близко к таким ключевым точкам, как правительственные здания, радиостанция, крупные железнодорожные узлы, типографии, а также службы, занимающиеся снабжением города электричеством, газом и водой. Если в течение первых двадцати четырех часов эти ключевые позиции не будут находиться в руках заговорщиков, переворот окажется под серьезной угрозой или провалится вообще.
По свидетельству Гизевиуса, расположение тайных эсэсовских баз в Германии было выявлено по косвенным данным: в полиции была получена карта, на которой отмечены недавно созданные бордели.
На Бендлерштрассе Штауффенберга встретила весьма необычная атмосфера. Генерал Фриц Фромм, командующий армией резерва, с точки зрения заговорщиков был человеком абсолютно ненадежным. Хотя он понимал, что война уже проиграна, он отказался присоединиться к движению Сопротивления, которое, как он отлично знал, существовало рядом с ним. Он лишь изредка позволял себе замечания о предстоящем путче, которые были, в зависимости от ситуации, то циничными, то злобными. Конспираторы решили, что он предпримет шаги к сближению только в том случае, если путч закончится успехом.
Тайные планы и приказы были подготовлены для нескольких фаз операции. Первая фаза была определена общими терминами, как действия армии резерва в случае мятежа в любой части страны. Она могла пройти довольно быстро в преддверии непосредственно путча. Вторая фаза была связана уже с Берлином и была направлена против войск СС. Соответствующие приказы должны были исходить от Фромма сразу же после начала путча. Третья стадия — это ряд приказов отставного фельдмаршала Эрвина фон Вицлебена, который был избран в качестве теневого главнокомандующего армией. Эти приказы объявляли чрезвычайное положение после смерти фюрера, распускали нацистскую партию и отдавали управление всеми делами в руки вооруженных сил. Код «Валькирия» являлся сигналом к началу первой фазы, за которой немедленно должны были последовать другие.
Оставив доработку планов в надежных руках Штауффенберга, Тресков после длительного отпуска вернулся на Восточный фронт.
5
«Мы далеки, как два полюса», — сказал Мольтке о Герделере. «Неутомимый, неосторожный, немного реакционный», — говорил Хассель. «Человек, имеющий сильное влияние, словно некий мотор, приводящий в движение все Сопротивление», — утверждал Шлабрендорф. «Он рационализировал оппозицию, — заявил Гизевиус, — хотя слишком небрежный с секретами». А Штауффенберг назвал его «автором революции седых бород».
Герделер был общепризнанным «занудой», «надоедливой мухой» Сопротивления. Им восхищались, но недолюбливали. Он не разделял политические симпатии многих своих коллег и считал, что большинство из них подвержены недопустимым колебаниям в чрезвычайно опасное время. Ведь члены гражданского крыла отлично понимали, что гестапо ведет игру в кошки– мышки с людьми, заподозренными его агентами в участии в незаконной деятельности. Герделер являлся наиболее примечательной фигурой из многих загадочных людей в окружении Бека и Хасселя, двое из которых, Карл Лангбен и Йоханнес фон Попиц, попытались привлечь к заговору против Гитлера даже рейхсфюрера СС Гиммлера. Они надеялись сделать его своим инструментом в устранении Гитлера. Когда же Гитлера не станет, они считали, что смогут избавиться от Гиммлера без особого труда.
В процессе бесконечных дебатов, которые шли в рядах германского Сопротивления, кандидатуры и Геринга, и Гиммлера периодически рассматривались в качестве возможных агентов для устранения Гитлера. Хорошо известная антипатия Геринга к военной политике Гитлера на одном из этапов сделала его для заговорщиков более предпочтительной альтернативой Гитлеру. Было это в месяцы, предшествовавшие оккупации Польши. А в 1943 году Гиммлер рассматривался как глава внушительной армии недовольных людей, которых было немало и внутри страны, и за границей, вполне способной взять инициативу в свои руки там, где генералы проявляли слабость или нерешительность.
Несложно увидеть, как в 1943 году Бек, Герделер и Хассель пришли к самообману относительно Гиммлера и позволили своим коллегам установить с ним прямой и чрезвычайно опасный контакт. Гиммлер — самый замкнутый человек из всех нацистских лидеров, страдавший хронической нерешительностью, играл двойную игру, возможно даже с самим собой. В отличие от лидеров Сопротивления он знал, что период активного лидерства Гитлера должен был быть коротким, даже в случае победы в войне. Он имел совершенно секретный доклад об умственном здоровье фюрера, где было сказано, что по причине сифилиса паралич и безумие — это всего лишь вопрос времени.
Гиммлер, как и другие нацистские лидеры, считал, что Гитлер — ходовая пружина его власти, что необходимо готовиться ко дню, который наступит скоро и, вероятнее всего, неожиданно, когда Гитлер, преемником которого он считал себя, больше не сможет быть фюрером. Теперь, когда война вошла в неблагоприятную фазу, Гиммлер уверовал, что единственным способом смягчить опаснейшую внутреннюю ситуацию является ускорение тайных переговоров с западными союзниками. Это решение он принял под влиянием Вальтера Шелленберга, своего хитрого, обладающего воистину макиавеллиевским умом главы службы внешней разведки, человека, занимавшего в гестапо ту же должность, что Остер в абвере. К 1942 году Шелленберг твердо уверовал, что именно ему выпадет вести мирные переговоры.
Среди тайных агентов Остера был друг Хасселя юрист Лангбен, который оказался личным знакомым Гиммлера — их дочери ходили в одну школу. Воодушевленный Шелленбергом, Гиммлер в порядке эксперимента позволил Лангбену воспользоваться своими поездками в Швейцарию по делам абвера для зондирования почвы относительно будущих переговоров: готовы ли англичане вступить в переговоры с рейхсфюрером СС вместо Гитлера.
Такие расспросы начались еще в 1941 году, во время неудачной мирной миссии Гесса в Британию. Об этом узнал Хассель, который впервые встретился с Лангбеном в августе того же года. Тогда Лангбен присоединился к внешнему кругу, окружающему ядро конспираторов Хасселя, советуя всем делать ставку в перевороте на Гиммлера и СС. К 1942 году распространились слухи, соединяющие имя Гиммлера и стремление к мирным переговорам, и все стали внимательно смотреть по сторонам и прислушиваться, ожидая заметить еще какие-нибудь признаки активности. А тем временем Лангбен продолжал тайно информировать Шелленберга обо всем, что он смог выяснить, пользуясь своими английскими и американскими контактами в Швейцарии, касательно намерений союзников. Гиммлер, равно как и все члены Сопротивления, никак не мог согласиться с твердым решением союзников требовать безоговорочной капитуляции.
После потери Северной Африки и выхода из войны Италии беспокойство Гиммлера возросло. Гитлер мог убрать любого из нацистских лидеров от кормушки власти, повинуясь всего лишь минутному капризу. К тому же чрезвычайно осторожный Гиммлер чувствовал угрозу со стороны Мартина Бормана, который, будучи личным секретарем Гитлера и главой партии, стал защитником и советчиком фюрера, превратившимся в его тень.
А тем временем Тресков тоже пришел к выводу, что необходимо «промерить» политические глубины Гиммлера. В штабе тогда работала молодая жительница Берлина — женщина-скульптор Пуппи Сарре. Армия использовала ее в качестве гражданского секретаря. Было известно, что она подруга Лангбена, и Тресков отправил ее в Берлин, чтобы обсудить с ним возможность встречи одного из членов движения Сопротивления с Гиммлером.
Другой член группы интеллектуалов Хасселя — Йоханнес фон Попиц, прусский министр финансов, придерживавшийся, как и Хассель, правых взглядов и член клуба «Среда», — также поддерживал идею прощупать Гиммлера. Конечно, существовало довольно много противников этого опасного предложения. Хассель считал, что из этого не выйдет ничего хорошего, он знал, что прежде фон Попиц поддерживал нацизм, и это делало его подозрительным для других оппозиционеров. Гизевиус считал его человеком, который отчаянно пытается загладить свои прежние деяния. Вместе с тем сложилось мнение, что Бек, Герделер и Ольбрихт поддерживали выход на Гиммлера. Попиц оказался именно тем человеком, которого Лангбен 26 августа 1943 года отвел на встречу с Гиммлером в министерство внутренних дел, то есть через два дня после назначения Гитлером рейхсфюрера СС министром внутренних дел. Это была предосторожность. Фюрер опасался беспорядков в Германии после краха ее союзника — Италии.
Согласно обвинению против Лангбена и Попица, выдвинутому позднее гестапо, Попиц действительно встретился с Гиммлером. Их беседа прошла в обстановке строжайшей секретности, на ней не присутствовал даже Лангбен. Попиц якобы заявил, что Гитлер, безусловно, гений, но не может выиграть войну, сосредоточив в своих руках абсолютную власть. Поэтому должно быть создано сильное правительство, способное приступить к мирным переговорам. Не сохранилось никаких записей, касающихся реакции на это Гиммлера, но позднее Попиц говорил Отто Иону, что, хотя рейхсфюрер говорил очень мало, он не высказал неодобрения по поводу предложений Попица. Была достигнута договоренность относительно второй встречи, и Лангбен, чрезвычайно обрадованный первоначальным успехом своего предприятия, поспешил в Швейцарию с докладом. К несчастью, агенты шефа гестапо Генриха Мюллера, который очень завидовал влиянию Шелленберга на Гиммлера, перехватили радиограмму о переговорах Лангбена с представителями союзников, и по возвращении в Германию Лангбен был арестован. Гиммлер не задумываясь пожертвовал им. Но Попиц остался на свободе. Агенты гестапо следовали за ним по пятам, и он постоянно находился под угрозой ареста.
Отношение Гиммлера и гестапо к оппозиции было неоднозначным. Они как бы не стремились арестовать, допросить, судить и наказать непокорных. Гестаповцы занимались бесконечным сбором улик, свидетельствующих о существовании сети заговорщиков, в наличии которой никто и не сомневался. Создавалось впечатление, что они готовы даже допустить покушение на жизнь фюрера, оставив на свободе подозреваемых. Официальным основанием для этого служила теория, что собрать улики, пока подозреваемые остаются на свободе, легче, чем арестовав их. Посему Лангбен вполне мог остаться, как и Попиц, на свободе, если бы Мюллер в это самое время не решил продемонстрировать свое рвение на службе Борману и Гитлеру и досадить любимцу своего хозяина Шелленбергу, которого надеялся свалить по ходу дела. Гиммлер не мог спасти Лангбена от ареста, но в течение нескольких месяцев охранял своего друга и тайного агента от бесчеловечного обращения в застенках гестапо.
Каждый член движения Сопротивления знал: если он в данный момент и не находится под наблюдением гестапо, то в любую минуту может под него попасть, встретившись с одним из подозреваемых. Со дня ареста Лангбена Попицу приходилось действовать с величайшей осторожностью, но он все-таки попытался узнать от Гиммлера что-нибудь о судьбе Лангбена. Из других источников Хассель выяснил, что гестапо старается заставить Лангбена признать наличие связи между его работой в Швейцарии и желанием свести вместе Попица и Гиммлера. В ноябре Хассель узнал, что Лангбена постоянно допрашивают о «людях, стоящих за Попицем, в первую очередь генералах». В том же месяце он впервые встретился со Штауффенбергом, который произвел на него сильное впечатление. Штауффенберг предупредил Хасселя о необходимости соблюдения особой осторожности, делая заявления и встречаясь с людьми, особенно с Попицем, который находится под наблюдением. Гражданское крыло заговора было предоставлено самому себе, раздираемое внутренними дрязгами и борьбой за места в теневом кабинете Герделера, в котором «профессиональный» политик Попиц претендовал на пост министра образования.
Лангбен был не единственным видным членом Сопротивления, арестованным в 1943 году. Как мы уже видели, в апреле были схвачены Йозеф Мюллер и Дитрих Бонхёффер, а также сестра Бонхёффера и ее муж Ганс фон Донаньи. У попавшего под подозрение Остера были связаны руки, и вскоре он покинул свой пост в абвере. Гизевиус, которого допросили и которому пригрозили арестом, сумел перейти швейцарскую границу.
Роль, сыгранная Бонхёффером в том, что он назвал «великим маскарадом зла», тяжелым грузом легла на его совесть. Хотя он свято верил, что его служение Господу неотделимо от политических убеждений и действий, решение прийти в абвер и работать на Сопротивление было принято человеком, а не пастором. Он понимал, что, если будет арестован, ему придется обманывать и изворачиваться, и надеялся, что вынужденная ложь в таких обстоятельствах станет его христианским долгом. Его друг и коллега Эберхард Бетге рассказал, как вел себя Бонхёффер в Восточной Пруссии, когда они находились там с евангелистской миссией и пришло сообщение о падении Франции. В это время они были в людном месте. Все вскочили с мест, подняли руки и запели национальным гимн Германии. Бетге был потрясен, увидев, как Дитрих поднимает руки и поет вместе со всеми, одновременно призывая товарищей сделать то же самое. После он сказал Бетге: «Ты сошел с ума? Мы не можем позволить себе самопожертвование в порядке протеста против таких глупостей. Мы должны жертвовать собой ради чего– нибудь более серьезного».
В качестве агента абвера Бонхёффер в 1941–1942 годах ездил не только в Швецию, но также в Рим и Швейцарию. Он постоянно находился под подозрением гестапо и как-то раз даже удалился на три месяца от мира в монастырь бенедиктинцев, расположенный в горах к югу от Мюнхена, где написал и спрятал первые главы своей книги «Этика». В то время он писал: «Любовь, когда она действительно живая, не уходит от реальности, чтобы поселиться в возвышенных душах, изолированных от мира. Она сносит реалии окружающего мира со всей его жестокостью. Мир исчерпал свою ярость против тела Христова, и церковь должна стремиться рискнуть своим существованием ради мира».
На тайной встрече в Женеве, состоявшейся в1 941 году, Бонхёффер заявил, что молится о поражении своей страны. «Только в поражении, — сказал он, — мы можем искупить чудовищные преступления, совершенные против Европы и всего мира».
Бонхёффер был необычным священнослужителем и временами абсолютно антиклерикальным в своих суждениях. Ему дважды доводилось испытывать любовь. Во второй раз он влюбился в 1942 году и обручился с девушкой девятнадцати лет по имени Мария фон Ведермайер, жившей на ферме недалеко от Бад-Шенфлис. Ее мать была против этого брака из-за большой разницы в возрасте между будущими супругами. Несмотря на свою жизнерадостность и неизменный энтузиазм, Бонхёффер всегда интуитивно чувствовал, что умрет молодым. Это ощущение усилилось, когда он неразрывно связал свою жизнь с судьбой Германии. Еще в 1933 году он сказал своему другу пастору Циммерману, что хочет пожить полной жизнью и умереть молодым в возрасте тридцати восьми лет. Удивительно, но именно этого возраста он достиг, когда в 1945 году был убит нацистами.
В апреле 1942 года соперничество между абвером и разведкой Шелленберга, подчинявшейся Гиммлеру, достигло такой стадии, когда стали возможными прямые решительные действия. Агент абвера, арестованный в октябре 1942 года, на допросе дал показания против Донаньи — блестящего австрийского юриста, который был зятем Бонхёффера и помощником Остера. Этот агент также проговорился о действительных причинах, по которым Бонхёффер ездил в Швейцарию, равно как и о беседах Иозефа Мюллера со священнослужителями из Ватикана. И все же ставшие следствием этого признания аресты были отложены до апреля следующего года по причинам, о которых можно только догадываться.
В день ареста Бонхёффер навещал своих родителей в Берлине. Он позвонил сестре, жене Донаньи, и, когда по телефону ответил незнакомый голос, пастор понял, что произошло несчастье. Обернувшись к родителям, он сказал: «Скоро придут за мной». Он немедленно уничтожил все документы, которые могли свидетельствовать против него, после чего отправился к старшей сестре, чтобы как следует подкрепиться. Гестаповцы явились за ним в три часа пополудни и препроводили в военную тюрьму Тегель. В момент ареста пастору было только тридцать шесть лет.
Бонхёффер описал, как с ним обращались: «Формальности, связанные с приемом нового заключенного, были выполнены правильно. В первую ночь меня заперли в одиночной камере. Одеяла на дощатой койке издавали такую отвратительную вонь, что, несмотря на холод, укрываться ими было невозможно. На следующее утро в камеру швырнули кусок хлеба — мне пришлось поднимать его с пола. Днем я впервые услышал снаружи голоса — персонал всячески оскорблял заключенных. С тех пор такие звуки я слышал каждый день — с утра до ночи. Когда меня поставили в ряд с другими вновь прибывшими, тюремщик назвал нас грязными бродягами. Каждого спросили о причине ареста. Когда я ответил, что не знаю, тюремщик злобно осклабился и сказал, что очень скоро я все узнаю. Прошло полгода, прежде чем мне предъявили ордер на арест. Меня отвели в одиночную камеру в самом дальнем углу верхнего этажа. Дальше висела табличка, запрещающая проход без специального разрешения. Мне сказали, что я лишен права переписки до особого распоряжения. Оказалось, что я также лишен ежедневной получасовой прогулки, положенной заключенным внутренним распорядком. Я не получал ни газет, ни табака. Через сорок восемь часов мне, наконец, вернули Библию. Ее тщательно осмотрели и убедились, что я не спрятал в корешке лезвие или нечто подобное. Если не считать этого, на протяжении следующих двенадцати дней дверь камеры открывалась только для того, чтобы передать мне еду и одеяла. Никто не разговаривал со мной. Я понял, что заключенный, находящийся под следствием, здесь уже считается преступником, который в случае несправедливого обращения не может требовать уважения его прав. Это открытие потрясло меня».
Тегель — это военная тюрьма. Вскоре распространилась информация о том, что Бонхёффер не просто святой человек, обладающий удивительным терпением. Он — племянник генерала фон Хазе — военного коменданта Берлина. Мать Бонхёффера была его сестрой. Хазе, в действительности поддерживавший Сопротивление, посетил племянника в тюрьме, и Бонхёффер получил возможность убедиться, что отношение к нему тюремщиков разительно изменилось, когда стало известно о его родственных связях. Он не желал никаких преимуществ, но быстро обнаружил, что в определенных пределах они существенно облегчают участь. Семье позволили принести ему книги, бумагу, чистую одежду и еду. Камера стала его кабинетом, где он много размышлял и работал. 3 августа 1943 года он написал: «Я мало ем и пью, спокойно сижу за столом, и работа над книгой продвигается хорошо. В промежутках я радую мою душу и желудок теми приятными вещами, которые вы мне принесли. Что же касается перевода на другой этаж, я не стану обращаться к администрации с такой просьбой. Не думаю, что это будет справедливо по отношению к другому заключенному, которому придется мучиться в моей жаркой камере. Ведь весьма вероятно, что ему придется обходиться без томатов и других вкусных вещей, которые вы мне прислали. Увы, я знаю, что Ганс плохо переносит жару, и сочувствую ему».
17 августа: «Пожалуйста, не волнуйтесь обо мне. Я все смогу перенести, и я спокоен. Здесь в камере неизбежно приобретаешь беспристрастность, независимость суждений, и это очень важно. За последние несколько недель, коим сопутствовало постоянное нервное напряжение, я почти не занимался творческой работой, но сейчас я вернулся к ней. У меня зародилась идея пьесы…»
И снова в конце месяца, 31 августа: «За последние дни мне хорошо работалось, я сумел много написать. Когда после нескольких часов абсолютной погруженности в мысли обнаруживаешь себя в тюремной камере, всегда немного удивляешься. Любопытно наблюдать за собственной постепенной адаптацией. Когда неделю назад мне вернули нож и вилку, они показались мне не такими уж необходимыми. Я уже привык намазывать маргарин на хлеб ложкой…»
В канун Рождества он записал: «С точки зрения истинного христианина, Рождество, проведенное в тюремной камере, не должно быть проблемой. Возможно, в этом скорбном доме некоторые из нас могут отпраздновать Рождество глубже, с большей пользой для души. Невзгоды, страдания, нищета, одиночество, беспомощность или даже чувство вины представляются разными глазу Бога и человека. Тот факт, что взгляд Господа обращается к тому месту, от которого человек обычно спешит отвернуться, или воспоминание о том, что Христос родился в стойле, поскольку другого места для этого просто не нашлось, — все это ощущается узником острее, чем кем бы то ни было другим».
Для Бонхёффера, как и для многих других христиан, проблема участия в насилии и прощения была самой важной. «Понятие свободной ответственности, — писал он, — идет от Бога, который требует свободного свидетельства веры в ответственном действии и который обещает прощение и покой тому, кто в процессе этого становится грешником». То, что пришлось сделать, вполне может оказаться греховным. Грешник должен положиться на милосердие Господа. «Гитлер, — провозгласил Бонхёффер, — антипод Христа. Поэтому мы обязаны продолжать свою работу, независимо от того, будет она успешной или нет».
Другой участник событий, пастор Циммерман, вспоминает о встрече, состоявшейся в его доме примерно за два месяца до ареста Бонхёффера. Тогда Бонхёффер познакомился со штабным офицером лейтенантом Вернером фон Хефтеном, который позже в качестве адъютанта Штауффенберга сопровождал последнего во время выполнения исторической миссии 20 июля. Хефтен поставил вопрос ребром. Он сказал, что завтра будет у Гитлера, и спросил, должен ли застрелить его. Ответ Бонхёффера был осторожным. Он объяснил, что дело не просто в убийстве отдельного человека. Стреляя в Гитлера, следует помнить о политических последствиях. Должно быть сформировано правительство, готовое приступить к руководству страной, иначе последствия могут быть катастрофическими. Он добавил, что ни у кого нет права указывать Хефтену, стрелять в Гитлера или нет. В конечном счете это должно стать решением человека, который берет в руки оружие. Он может только попросить совета у окружающих относительно политических обстоятельств, сопутствующих устранению Гитлера. Решение убить должно идти от глубоких личных убеждений, что сей ужасный акт является морально оправданным и неизбежным. Фабиан фон Шлабрендорф, который тоже знал Бонхёффера, утверждает, что в 1942 году пастор поведал ему о своей убежденности в необходимости убийства Гитлера, но все ответственные члены Сопротивления знали: убийство без следующего за ним переворота было бы бесполезным.
Мольтке смотрел на вопрос насилия совершенно иначе и до самого конца отказывался в нем участвовать. По его словам, насилие есть демонстрация «зверя в человеке», он считал, что люди при любых обстоятельствах должны оставаться людьми. Мольтке свято верил в то, что насилие порождает только насилие, что режим должен следовать своим путем и в конце уничтожит себя сам. А вот к его концу следует готовиться заранее и создавать конституцию, которая будет воплощать основные христианские принципы, в которые он свято веровал.
Не все члены оппозиции были одинаково убеждены, что переворота можно избежать. Но на январской встрече 1943 года Герштенмайер отметил, что все, даже Мольтке, в конечном счете пришли к выводу, что теперь уже переворот необходим, и чем быстрее, тем лучше. И Петер Иорк, и Герштенмайер активно участвовали в июльских событиях 1944 года. Мольтке к тому времени уже вышел из игры: он был арестован шестью месяцами ранее — в январе 1944 года. «В тот самый момент, когда я находился в опасности втягивания в активную подготовку к путчу, — писал Мольтке в письме, переданном из тюремной камеры, — меня вывели из игры. Так что я остался свободным от любой связи с силовыми методами». Он считал это волей Господа{16}.
Ядро немецкого Сопротивления черпало свою силу и мужество из христианской веры. Вовсе не случайно все главные заговорщики были истинными христианами и в высшей степени интеллигентными людьми. Хотя в движении Сопротивления участвовало много тысяч людей, 20 июля 1944 года отважились на решительные действия только главные действующие лица драмы. При этом они опирались только на резервы человеческого духа — единственное, на что они могли рассчитывать в случае катастрофы, пыток и страшной смерти.
Эти глубоко прочувствованные христианские принципы не помешали им, однако, до последнего момента яростно спорить о целесообразности покушения. Личные и политические разногласия, которые так беспокоили Хасселя, еще более усилились после появления во внутреннем круге заговорщиков Штауффенберга. И снова неприятности шли от Герделера.
Герделер, как и Хассель, познакомился со Штауффенбергом осенью 1943 года. По словам Герделера, Штауффенберг «показал себя капризным и упрямым индивидом, которому захотелось поиграть в политику. Я часто не соглашался с ним, хотя ценил. Он желал следовать сомнительным политическим курсом с левыми социалистами и коммунистами и очень досаждал мне своим эгоизмом». По уверению Риттера, Штауффенберг с разбегу нырнул в политическую игру, которую Герделер считал своей собственной вотчиной, привнеся в нее философию «романтического социалиста». Он буквально фонтанировал идеями о «моральном и политическом возрождении Германии, бурном потоке революционного движения, который снесет на своем пути все старое». А Штауффенберг, как мы уже видели, считал конституционные реформы Герделера «революцией седых бород».
Друг Трескова Шлабрендорф открыто признавал, что солдаты — отнюдь не лучшие политики. «Одна из главных характеристик среднего офицера германской армии — узкое политическое мировоззрение. В его силе заключается источник его слабости. Сосредоточение на военных проблемах делает его некомпетентным в вопросах, не касающихся непосредственно военного дела, и в первую очередь в политике». Тем не менее, утверждал Шлабрендорф, «только армия имеет в своем распоряжении оружие и мощь, необходимые для свержения глубоко укоренившегося нацистского режима, поддерживаемого сотнями тысяч эсэсовцев. Гражданские инициативы скованы, если не имеют военной поддержки». Солдатам и гражданским политикам необходимо прийти к соглашению. И все же некоторые солдаты не могут устоять перед искушением и вмешиваются в политику. Это в полной мере относится к Штауффенбергу — «страстному солдату», как говорит Гизевиус, «который требовал для себя если не права на политическое лидерство, то, по крайней мере, прерогативу принимать участие в политических решениях». Как и Герделер, это был человек несгибаемой воли, во многих отношениях противоречивый. Он олицетворял «новый динамизм», и его бьющая через край энергия в конце концов оттеснила людей старшего поколения.
Активная подготовка к перевороту наконец началась. Сложилась воистину невероятная ситуация. В дополнение к теневому кабинету (куда вошли выдающиеся гражданские лица), готовому взять власть после падения диктатора, в немецкой армии создавалось теневое верховное командование. Секретные приказы «Валькирии» были полностью подготовлены и замаскированы под легальные акции. Все большее число людей, от фельдмаршалов до младших офицеров, либо участвовали в заговоре и владели секретами, по своей сути являющимися изменническими, или были осведомлены о происходящем, но предпочитали держать рот на замке.
«Немота и глухота» в любом случае являлись лучшей, по крайней мере, самой безопасной политикой.
Если заговор провалится, в день расплаты можно заявить о своем полном неведении, если же он окажется успешным, можно отметить свою молчаливую поддержку заговора и недоносительство. На протяжении зимы многие офицеры и на Восточном, и на Западном фронте были в той или иной степени вовлечены в заговор, в котором главной фигурой был Штауффенберг. В это время принял свою окончательную форму и теневой кабинет — под недреманным оком Герделера, который так стремился найти его оптимальный политический и религиозный баланс. В нем Бек стал президентом, Герделер — канцлером, социалист Лебер — министром внутренних дел, а Хассель — одним из двух кандидатов на пост министра иностранных дел{17}.
Когда Клюге, в конце концов решивший присоединиться к заговору, в октябре попал в серьезную автомобильную аварию, его место в качестве теневого главнокомандующего вооруженными силами занял отставной фельдмаршал Вицлебен, бывший командующий на Западном фронте. Ему было шестьдесят два года. Подготовка велась с большой интенсивностью: следовало подготовить план первоочередных мероприятий, заявления для прессы и радио. Работа под руководством энергичных, но нередко соперничающих руководителей — Герделера и Штауффенберга — находилась для каждого. Чудо, что у гестапо до сих пор не появилось оснований для ареста Герделера, который зимой 1943/44 года, когда Берлин, Гамбург, Бремен и промышленные города Рура страдали от непрерывных бомбардировок авиацией союзников, очень много писал и ездил по стране. Ему приходилось постоянно находиться в движении, что– бы избежать обнаружения, и многие члены Сопротивления теперь считали встречи с ним опасными. Росло напряжение в отношениях между Герделером, с одной стороны, и Штауффенбергом и Лебером — с другой, иначе говоря, между левым и правым крылом заговора.
И только благодаря влиянию берлинского юриста доктора Йозефа Вирмера, сыгравшего важную роль в заговоре, еще удавалось сглаживать разногласия и ослаблять напряжение.
Учитывая отсутствие каких бы то ни было признаков заинтересованности западных союзников, Штауффенберг выступил за обращение к Сталину. Русская пропаганда, по крайней мере, открыто заверяла в том, что видит разницу между Гитлером и немецким народом в целом. «Было бы абсурдно, — говорил Сталин, — отождествлять гитлеровскую клику с немецким народом и немецким государством. Гитлеры приходят и уходят, немецкий народ остается». Начиная с 1943 года русские оказывали постоянное давление на находящихся в плену немецких офицеров, призывая их создать национальный комитет свободной Германии, чтобы поддержать их пропагандистскую кампанию.
Коммунистическое подполье Германии держалось в стороне от окружения Герделера, которое, включая Лебера и социалистов, сохраняло непримиримую враждебность к коммунизму. Именно Штауффенберг с его романтической концепцией политической деятельности — его политика, по словам Гизевиуса, велась «по диагонали слева направо» — выступил за объединение Германии и России в едином великом освободительном движении против диктатуры. А Тротт в январе 1943 года и в апреле 1944 года встретился в Швейцарии с Даллесом и попытался заставить западный: союзников понять, что их требование безоговорочной капитуляции лишь отдаст Германию, вместе с миллионами иностранный рабочих, в лагерь русских.
Осенью 1943 года Тротт также посетил Швецию для встречи с англичанами. По словам Хасселя, который беседовал с Троттом после его возвращения, «его английские знакомые озабочены связанной с русскими проблемой и заинтересованы в развитии контактов. Правда, они опасались, что обещаемые перемены могут оказаться всего-навсего прикрытием для продолжения действия нацистскими методами под другой вывеской». Мнение Хасселя оставалось весьма дипломатичным. «В этой игре, заключающейся в поддержании хороших отношений с обеими сторонами, я предпочитаю западную ориентацию, но, если понадобится, также рассмотрю возможность соглашения с Россией. Тротт со мной полностью согласен, остальные пока сомневаются по теоретическим и моральным причинам, которые я вполне понимаю».
Основной темой для размышлений немцев на протяжении последних лет гитлеровской войны было обращение очевидных различий между западными и восточными союзниками на пользу Германии. Пока нацистские лидеры мечтали о союзе с Западом против Востока, сопротивление грезило о почетных условиях мира, данных и Западом, и Востоком новому правительству после завершения переворота. В конце круг Герделера согласился отложить дипломатические переговоры до переворота. С декабря 1943 года покушения на жизнь Гитлера производились неоднократно и постоянно срывались из-за внезапного изменения Гитлером своих планов или по причине простого невезения.
В своих постоянных попытках достучаться до генералов Герделер не пренебрегал возможностью того, что армия на западе ждет вторжения союзников. «Безоговорочная капитуляция» во Франции не обеспокоила заговорщиков. Они благосклонно относились к идее оккупации Германии совместными силами западных союзников и немецкой армии, предпочтительнее всего до того, как русские подойдут к восточным границам и сами начнут оккупацию территории. После этого можно начинать переговоры с новым правительством Герделера. Однако союзники, причем и восточные и западные, проявляли удивительное единство, и Запад не делал ни публичных, ни тайных заявлений, способных дать необходимую надежду немецкому Сопротивлению.
Главнокомандующим на Западном фронте был фельдмаршал фон Рундштедт, убежденный противник любых заговоров. Ему подчинялись две группы армий — В и С. В январе 1944 года командующим группой армий В стал любимый полевой командир Гитлера фельдмаршал Эрвин Роммель. Центр немецкого военного Сопротивления во Франции находился в штабе руководителя военной администрации Франции, генерала Карла Генриха фон Штюльпнагеля, который был близким другом Роммеля. Известно, что Роммель не проявлял оптимизма, когда речь шла о войне и ее ведении Гитлером. Он чувствовал, что славную звезду германских военных традиций следует отдать Сопротивлению. О заговоре ему поведали Штюльпнагель и другие члены военного сопротивления во Франции, пользовавшиеся его безграничным доверием. Он согласился с идеей переворота, но не убийства.
Как говорил своим друзьям Тресков еще в начале войны, «политическая акция армии против Гитлера возможна, только если провалится немецкое наступление». Он понимал психологическую сложность ситуации, когда необходимо повернуть победоносную армию Германии против фюрера. Но ситуация в корне изменится, если наступление, предпринятое Гитлером вопреки совету генералов, окажется неудачным. В этом смысле Роммель был типичным военным. Он был совершенно чужд политики и интересовался только тем, что непосредственно влияло на его профессиональную деятельность. Что же касается Штюльпнагеля, близкого друга Роммеля, вместе с которым учился в пехотной школе в Дрездене, генерал Шпейдель говорил о нем как о человеке, обладающем рыцарской натурой, хорошем дипломате и стратеге, кроме того имевшем глубокое знание философии. Он был автором исследования проблемы лидерства в армии, которое Шпейдель считал мастерским.
Герделер испытывал Роммеля. У них был общий друг — доктор Карл Штрёлин — бургомистр Штутгарта, служивший вместе с Роммелем во время Первой мировой войны. В феврале Герделер посоветовал Штрёлину навестить Роммеля у него дома в Херлингене, недалеко от Ульма. Штрёлин был вторым Герделером, но только в своем роде. Он тоже начал с поддержки нацизма, но затем повернулся против него, при этом сохранив свой весьма влиятельный пост бургомистра Штутгарта. Когда он в феврале встретился с Роммелем, друзья в течение шести часов обсуждали необходимость не убийства, а ареста Гитлера. Одновременно Роммель предпринял попытку образумить Гитлера, хотя и сомневался в возможности этого мероприятия. Он честно признавался, что, если его попытка окажется неудачной, это развяжет ему руки и он будет готов действовать. «Я верю, что должен прийти на помощь Германии», — сказал он Штрёлину. Последний как-то заявил, что не считает Роммеля человеком здравомыслящим и понимающим политику, но никогда не смог бы отрицать, что он является воплощением чести и никогда не отступает от своего слова.
По мере роста во Франции напряжения, предшествовавшего вторжению, Роммеля все чаще посещали мысли о долге спасти свою страну. Весной он часами бродил по парку, окружавшему великолепный замок на берегу Сены, в котором размещался его штаб. Шпейдель заметил, что его любимое место располагалось под двумя массивными кедрами, возвышавшимися над речной долиной. Воодушевленный беседами со Штюльпнагелем, он тщетно пытался подтолкнуть Рундштедта к действиям против Гитлера. Но только Рундштедт предпочитал бездеятельность. Он считал, что ряд составленных в негативном духе докладов и записок Гитлеру вполне удовлетворяют его совесть. А Роммель хотел заставить его пойти на большее.
— Нет, — заявил Рундштедт, глядя на Роммеля с высоты своих клонящихся к закату лет. — Ты молод. Люди тебя знают и любят. Ты сделаешь все, что необходимо.
6
До тех пор наиболее близким к успеху покушением на жизнь Гитлера было предпринятое Тресковом и Шлабрендорфом 13 марта 1943 года. Оно оказалось неудачным только потому, что бомба не взорвалась, но спланировано и выполнено было безупречно. Как мы видели, от покушения Герсдорфа, которое должно было произойти в Берлинском военном музее, пришлось отказаться, как и от серии других покушений, запланированные на период между сентябрем и декабрем 1943 года.
Первым из них должно было быть осуществлено генерал-майором Гельмутом Штиффом, тем самым приятелем в ставке Гитлера, которому Тресков адресовал пакет с двумя бутылками бренди. Штифф был офицером штаба Верховного командования сухопутных войск и обладал острым чувством юмора, во всяком случае, когда речь шла о нацистах. Сотрудники абвера раздобыли для членов Сопротивления совершенно бесшумные взрыватели английского производства, которые два офицера Штиффа доставили в Растенбург и спрятали под деревянной наблюдательной вышкой недалеко от ставки фюрера. К сожалению, они сработали самопроизвольно намного раньше, чем было запланировано их использование. Штиффа и его людей спасло только то, что офицер, которому было поручено расследование происшествия, сам был членом Сопротивления. После этого одному из младших офицеров удалось пронести на совещание к Гитлеру в кармане брюк револьвер. Но его ранг не позволил ему подойти к Гитлеру достаточно близко, чтобы произвести выстрел. А помещение было довольно просторным, и эсэсовские охранники не дремали.
В ноябре еще один юный офицер задумал стать смертником и совершить покушение, аналогичное попытке Герсдорфа в марте. Акция была спланирована Акселем фон дем Бусше, который предложил продемонстрировать новую шинель, прежде чем запустить ее в производство. Бусше согласился положить бомбы в карманы шинели и привести их в действие, прыгнув прямо на фюрера и уничтожив его вместе с собой. Демонстрация много раз откладывалась. Казалось, что Гитлера охраняло острое интуитивное чувство опасности, которое несомненно было ему свойственно. В конце концов поступила информация, что шинель будет демонстрироваться фюреру в Цоссене, недалеко от Берлина, в ноябре. И снова вмешалось провидение, спасшее Гитлера. Незадолго до демонстрации все шинели были уничтожены воздушным налетом. Фон дем Бусше прибыл в Растенбург для повторной демонстрации уже в декабре, но фюрер в это время как раз уехал в Берхтесгаден. В феврале Бусше ранили, и его место занял Эвальд Генрих фон Клейст, но у этого офицера тоже ничего не получилось, поскольку демонстрацию отложили из-за налета. Так очень храбрые люди — Аксель фон дем Бусше и Эвальд фон Клейст, готовые пожертвовать собой ради Германии, так же как Герсдорф и Шлабрендорф, пережили эту страшную войну{18}. Бусше был потрясен массовым убийством евреев, свидетелем которого случайно стал по пути на русский фронт. Охвативший его стыд за немцев был столь велик, что он прямо на месте решил всеми силами способствовать устранению Гитлера, даже если за это придется отдать свою жизнь. Клейст в возрасте двадцати лет получил согласие отца пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы избавить Германию от Гитлера.
А тем временем Штауффенберг целеустремленно готовился к покушению. Он умел писать оставшимися тремя пальцами левой руки и теперь учился разбивать ими капсюль взрывателя бомбы замедленного действия с использованием маленьких щипцов. Было решено, что он будет представлять Ольбрихта на совещании в Растенбурге, назначенном на 26 декабря. Предполагалось, что израненного офицера, явного калеку, никто не заподозрит в возможности пронести к Гитлеру оружие. Штауффенберг сумел прилететь в Растенбург и добраться до вестибюля, расположенного перед входом в комнату для совещаний, с бомбой. Но в самый последний момент фюрер отменил встречу. Однако эта попытка стала, так сказать, генеральной репетицией действительного покушения 20 июля 1944 года.
К 1943 году Гитлер стал тщательно охраняемым отшельником, вращающимся только в узком кругу офицеров ставки и личных помощников. Найти среди них добровольца, который пожелал бы пойти на верную смерть, решившись на покушение, было практически невозможно. Но если бы таковой нашелся, он бы должен был иметь достаточно высокий ранг, чтобы суметь обойти многочисленных охранников и вплотную приблизиться к фюреру, жившему почти безвылазно либо в ставке в Восточной Пруссии, либо в Берхтесгадене. Где бы он ни был, он виделся только с теми, кого хотел видеть, и заговорщикам приходилось тщательно следить за всеми его непредсказуемыми перемещениями. Как утверждал сам Гитлер, единственная превентивная мера против покушения, которую можно предпринять, это вести нерегулярный образ жизни — идти, ехать, лететь в незапланированное заранее время и совершенно неожиданно, не предупреждая полицию.
Шлабрендорф, часто посещавший Растенбург, хотя и не имел прямого доступа к фюреру, сумел весьма подробно описать его распорядок дня. Гитлер вставал в десять часов, затем лифт доставлял ему завтрак, который он съедал, прочитывая составленную Риббентропом подборку переводов статей из иностранной прессы. В одиннадцать часов он принимал своих военных адъютантов, в двенадцать — проводил совещания с руководителями вооруженных сил. В два пополудни он обедал, часто задерживая своих гостей до четырех, после чего до шести или семи часов спал, а потом встречался, с кем хотел, и вел различные переговоры до ужина, то есть до восьми. На ужин он тоже отводил два часа, затем следовали новые встречи и заседания, часто затягивавшиеся до четырех часов утра, по окончании которых он ложился спать.
Единственный реальный способ убить Гитлера — это приблизиться к нему на полуденной конференции или на каком-нибудь общем мероприятии, где круг допущенных лиц не ограничивался приближенными. Последние предусмотреть заранее было невозможно, и к началу 1944 года военные совещания стали рассматриваться как единственная возможность для заговорщиков подойти вплотную к жертве. Нельзя было сбрасывать со счетов эсэсовских охранников. К Гитлеру никто не допускался с оружием, поэтому самым надежным способом убийства показалась бомба, спрятанная в портфеле. Если же при взрыве пострадают и другие присутствующие, жертвы были сочтены оправданными. В конце концов, всегда существовала возможность, что на совещание прибудет еще какой-нибудь видный нацист, к примеру Гиммлер или Геринг, избавиться от которого тоже было бы весьма кстати.
К этому времени все видные нацистские лидеры уже знали о существовании некоего заговора. «Я не могу сказать, имеет ли этот заговор четкую цель и стройную организацию», — сказал Геббельс одному из генералов во время ужина еще в ноябре 1943 года. А 15 ноября он записал в своем дневнике: «Вражеская пресса снова заявляет, что немецкие генералы: собираются заключить мир». Трудно сказать, много или мало было известно гестапо в это время, но в первые месяцы 1944 года вокруг заговорщиков определенно начала затягиваться петля.
Аресты Мюллера, Бонхёффера и Донаньи в апреле стали первой фазой этого сложного процесса, хотя Донаньи, которому были предъявлены общие обвинения, от которых в конце концов пришлось отказаться, в декабре временно вышел на свободу. Лангбен был арестован в сентябре, а Попиц, по словам самого Гитлера, находился под плотным наблюдением, установленным для сбора компрометирующих материалов.
10 сентября состоялось знаменитое чаепитие у фрау Зольф, которая была вдовой посла и, так же как и Элизабет фон Тадден, директриса известной школы для девочек, центром небольшого кружка интеллектуалов– англофилов. Шпион гестапо, представившийся шведским гражданином по имени Рексе, посетил чаепитие и согласился переправить в Швейцарию письмо. Он и в самом деле отправился в Швейцарию, встретился с доктором Виртом и вернулся с посланиями для генерала Гальдера. В результате 8 ноября Гиммлер поведал Геббельсу о «существовании группы врагов государства, среди которых Гальдер и, вероятно, Попиц». Гиммлер предположил, что эти враги желают «обойти» фюрера и заключить независимый мир. Тем не менее Попиц остался на свободе до 20 июля и даже немного позже.
Через абвер до Мольтке дошла информация, что чаепитие было ловушкой, и он сумел предупредить всех, кто там присутствовал. Гиммлер и его агенты все еще не спешили предпринимать активные действия. Фрау Зольф и ее дочь были арестованы только 12 января 1944 года, остальные тогда же или даже позднее. Среди арестованных был и Мольтке. Гальдер был определен под домашний арест.
После ареста Мольтке 12 января «группа Крейсау» распалась. Чаепитие у фрау Зольф тоже внесло свой вклад в последующую ликвидацию абвера, который в феврале формально вошел во внешнюю разведку Гиммлера. Остер жил под постоянным надзором у себя дома в Лейпциге и ничем не мог помочь Сопротивлению. Однако свои основные функции абвер выполнил. И теперь будущее немецкого движения Сопротивления было связано только с армией.
Попавшие в тюрьму подвергались непрерывным допросам гестапо. Информация об этих допросах постоянно просачивалась в ряды Сопротивления: в дневнике Хасселя на нее много ссылок. Заключенным удавалось передавать из тюрьмы письма женам, родственникам и друзьям, а в некоторых случаях, таких, как, например, с Бонхёффером, к ним допускались посетители. Младшей сестре Бонхёффера Сюзанне разрешили носить ему в военную тюрьму Тегель книги и бумагу, правда, говорить с ним она не могла. Каждую пятницу она приносила в тюрьму еду и чистую одежду. Вместе с братом она разработала специальный шифр, заключавшийся в пометке отдельных слов на разных страницах книг, и таким образом они обменивались сообщениями.
В Берлине все было готово: разработаны нужные планы, сформировано гражданское правительство, которое с нетерпением ожидало смерти Гитлера и возможности приступить к работе. Но в рядах членов Сопротивления на Восточном и Западном фронтах определенности все еще не было. Самое сильное влияние на генералов оказывала самоубийственная политика Гитлера на Востоке, а также напряжение, сопутствующее ожиданию начала наступления союзников на западе.
Положение Трескова на Восточном фронте было непрочным. После автомобильной аварии, в которую Клюге попал во время поездки в Минск, генерал– фельдмаршал был заменен на посту командующего группой армий фельдмаршалом Бушем, который не шел на контакт с заговорщиками. Поэтому Тресков обратился к другому командующему группой армий — фон Манштейну, который во время боев под Сталинградом рассматривал возможность предъявления Гитлеру ультиматума, требуя полномочий для себя на командование войсками, но в конце, как и Клюге, не решился ни на какие действия. Фон Манштейн отказался назначить его начальником штаба, сославшись на то, что его отношение к национал-социализму весьма сомнительно, и тем самым уничтожил шансы Трескова активно работать на Сопротивление, оставаясь на востоке. Если бы Манштейн его принял, Тресков получил бы прямой доступ в ставку Гитлера и не прекратил бы попыток в конце концов убить фюрера. Попытка устроить себе перевод в Растенбург тоже не удалась. Тресков оказался привязанным к востоку и не мог ничего предпринять. Ему оставалось только ждать, надеясь, что его друзья — Штауффенберг или Штифф, уже запасшиеся британскими бомбами замедленного действия, — будут удачливее.
В это время на западе оставил действительную службу начальник штаба Роммеля. В апреле его сменил на этом посту Ганс Шпейдель с Восточного фронта. Как мы видели, Шпейдель был не только другом и Роммеля, и Штрёлина, но также хорошим знакомым Штюльпнагеля. Вместе они принялись убеждать Роммеля употребить свое влияние на то, чтобы покончить с войной на западе до начала вторжения. Роммель — национальный герой Германии, любимый народный генерал, и к нему обращались многие с просьбой спасти Германию. Правда, речь шла по большей части о том, чтобы остановить ужасающее разрушение страны, а не о государственном перевороте, направленном против Гитлера. Спасти свой народ от смерти, а страну от уничтожения — такая перспектива значительно больше импонировала простому чувству патриотизма немецкого генерала, чем какие бы то ни было прямые действия против Гитлера. Им снова овладела уверенность, что можно заключить сепаратный мир с союзниками на западе, после чего, объединившись с ними, отбросить русских. На устроенной Герделером встрече 27 мая, то есть всего за десять дней до начала вторжения союзников в Нормандию, Шпейдель сказал Штрёлину, что Роммель категорически против физического устранения фюрера, на котором настаивают Штауффенберг и Бек.
Была разработана система связи между штабом Роммеля в Ла Рош-Гийон и Бендлерштрассе, во Францию для одобрения Роммелем был отправлен документ, предлагающий некий компромисс. В нем подчеркивалось неприятие Роммелем убийства, но выражалась надежда на принятие им командования армией после переворота. В какой мере это предложение было одобрено другими членами Сопротивления и знали ли они вообще о нем, точно не известно. Для большинства заговорщиков Роммель олицетворял только компромисс с Гитлером, и ничего более.
А тем временем предпринимались отчаянные попытки заставить западных союзников высказаться в пользу переговоров с новым правительством Германии. По словам Даллеса, «и Вашингтон и Лондон заранее знали обо всем, что собираются предпринять заговорщики, но иногда казалось, что те, кто определяют политику Америки и Англии, делали военную задачу как можно более сложной, вынуждая Германию сопротивляться до последнего». Поэтому неудивительно, что некоторые заговорщики, возглавляемые Штауффенбергом и Фрицем фон дер Шуленбургом, обратили свои взгляды на восток. Шуленбург принадлежал к «группе Крейсау», и с его помощью в апреле в Швейцарию был послан Тротт, чтобы предупредить Даллеса о появившемся стремлении договориться с Россией, а не с западными союзниками{19}.
Над руководителями Сопротивления нависла серьезнейшая опасность. Герделер теперь был вынужден действовать с особой осторожностью, а Бек, одинокий, больной человек, доживавший свои дни в маленьком домике в окрестностях Берлина, впал в глубочайшую депрессию. Несмотря на свой относительно невысокий ранг, фактическим главой Сопротивления стал Штауффенберг, который, вопреки совету Герделера, позволил своему другу Юлиусу Леберу устроить встречу с руководителями коммунистического подполья.
Положение Штауффенберга укрепилось, когда в начале июня он получил звание полковника и был назначен начальником штаба у генерала Фромма, командующего армией резерва. Это не только подняло его статус в армии, но и дало ценнейшую привилегию — доступ на военные совещания у фюрера. Штауффенберг не сомневался, что для престижа немецкого Сопротивления было совершенно необходимо совершить переворот до высадки союзников. Вместе с тем он был убежден, что, вопреки сообщениям германской военной разведки, высадка вовсе не является неизбежной. Другими словами, он считал, что пока еще располагает временем, и не преминул сообщить об этом за бутылкой вина в доме Лебера в день получения нового звания. Однако союзники высадились 6 июля в Нормандии, и русские одновременно начали массированное наступление на Восточном фронте.
Горькая ирония судьбы заключалась в том, что во время высадки союзников в Нормандии разыгралась непогода, и Роммель накануне, то есть 5 июля, уехал домой. Прошло много часов, прежде чем Рундштедт убедился, что высадка действительно произошла. Шпейдель позвонил Роммелю. Тот сразу поспешил обратно и уже к вечеру прибыл в штаб. Гитлер, в полдень получивший сообщение в Оберзальцберге, спал до трех часов. На 7 и 8 июня Штауффенберг в качестве начальника штаба Фромма был вызван в Оберзальцберг, где впервые лично представился Гитлеру. Он взглянул на фюрера вблизи и не почувствовал страха.
Правда, он был глубоко потрясен известием о высадке. Он отправил записку Трескову и Шлабрендорфу, в которой спрашивал, «будем ли мы продолжать наш план и теперь, когда высадка произошла и предприятие утратило свое политическое значение». Тресков прислал следующий ответ: «Убийство должно произойти любой ценой. Даже если покушение провалится, следует попытаться захватить власть в столице. Мы обязаны доказать миру и грядущим поколениям, что люди в немецком движении Сопротивления не боялись предпринимать решающие шаги и рисковать ради этого своими жизнями. В сравнении с этим все остальное не имеет значения».
В Берлине Бек согласился с такой постановкой вопроса, хотя, как и Штауффенберг, чувствовал, что подходящий момент для переворота упущен, и, возможно, навсегда. Теперь оставалось только выполнить свой моральный долг.
При отсутствии каких-либо признаков поддержки Запада 22 июня состоялась встреча между социалистами — представителями германского Сопротивления — и коммунистами. Ее результаты оказались трагическими, поскольку в рядах коммунистов оказался агент гестапо. Встреча происходила в доме доктора в Берлине. Коммунистами, согласившимися встретиться с Лебером и его другом, школьным учителем, Адольфом Рейхвейном, были Франц Якоб и Антон Зефков. Стороны обсудили создавшееся положение и следующую встречу, на которой коммунисты высказали пожелание увидеть представителей военных оппозиционеров, назначили на 4 июля. Штауффенберг отказался принять в ней участие, но послал Рейхвейна продолжить переговоры. Встреча оказалась ловушкой гестапо. Рейхвейн и другие были арестованы. Сразу после этого начались массовые аресты коммунистического подполья, которое, как оказалось, было буквально наводнено нацистскими агентами. Среди арестованных 5 июля был Лебер.
Арест Лебера стал непосредственной угрозой всему Сопротивлению. Штауффенберг считал Лебера своим близким другом и ценил его настолько высоко, что наметил его кандидатуру на пост теневого канцлера вместо Герделера. Штауффенберг знал, что Лебера подвергнут самым изощренным пыткам, чтобы вынудить его назвать имена других руководителей Сопротивления и дать улики против них. В общем-то следовало ожидать арестов, как и повышения активности гестапо. Не так давно Гиммлер сказал Канарису, чью разведывательную службу успешно «поглотил своей», что совершенно точно знает о подготовке государственного переворота, но гестапо в нужный момент вмешается. Причина временного отсутствия активности гестапо по отношению к людям, об участии в заговоре которых уже было известно, заключалась в том, что необходимы были веские улики против руководителей. После этого он назвал имена Бека и Герделера. Канарис поспешно передал эту информацию Ольбрихту, который, в свою очередь, сильно встревожившись, предупредил Штауффенберга и других.
Согласно полученным гестапо данным, только за два дня до ареста Лебера была достигнута договоренность о взрыве одной из двух бомб, имеющихся у Штиффа. 3 июля Штифф и Штауффенберг встретились в Берхтесгадене, где Гитлер проводил первую половину июля, и разработали детали покушения совместно с генералом Фельгибелем — руководителем службы связи вермахта. Встреча произошла в доме генерала Эдуарда Вагнера, обер-квартирмейстера вооруженных сил, который присоединился к Сопротивлению в 1943 году. Обстоятельства казались самыми благоприятными, потому что в калейдоскопе гитлеровских военных назначений Рундштедт только что был заменен Клюге, который легче поддавался влиянию руководителей Сопротивления, чем Рундштедт.
Моральный дух в командовании Западным фронтом был далеко не на высоте. 17 июня Гитлер решился покинуть свою безопасную ставку, прилетел во Францию и был приведен в бешенство пораженческими докладами, сделанными Рундштедтом и Роммелем, которые требовали заключения мира до полного разрушения Германии. Он отказался разговаривать на эту тему, жадно съел поданное ему блюдо из риса и овощей, не забыв, однако, о предварительной дегустации другим лицом, чтобы убедиться в отсутствии яда, проглотил обычную горсть таблеток и поспешил обратно в Берхтесгаден. Незадолго до этого случайный Фау-снаряд взорвался возле его штаба. Учитывая, что русские уже подходили к восточным границам Польши, да и немецкие армии на западе находились на грани полного разгрома, Рундштедт и Роммель в конце месяца рискнули еще раз воззвать к здравомыслию Гитлера, посетив Берхтесгаден. В результате этой попытки Рундштедт был уволен.
Когда Тресков, задыкавшийся в изоляции на Восточном фронте, услышал о новом назначении Клюге, он решил возобновить свое влияние на генерал-фельдмаршала, для этого разделяющее два фронта расстояние не показалось ему слишком большим. Правда, перед этим он дошел до того, что предложил Штауффенбергу, пока Рундштедт еще оставался на посту, чтобы Шпейдель совершил грубую тактическую ошибку, которая позволила бы союзникам прорвать линии немецких укреплений. Теперь он отправил послание лично Клюге, предложив то же самое, и получил ироничный ответ, что прорыв так или иначе произойдет и для этого немецкому командующему вовсе не нужно вмешиваться. Клюге не спешил открыто присоединиться к заговорщикам и потому отказал Трескову в переводе с Восточного фронта в свой штаб. Он вовсе не желал постоянно иметь у себя под боком этого беспокойного человека. Штауффенберг, открывший перед Фроммом все карты, убеждая в необходимости освободиться от Гитлера, достиг не большего успеха, чем Тресков с Клюге. Это были люди одной породы — их политика, независимо от сказанного ими в личной беседе, заключалась в ожидании. Они хотели выждать, чтобы иметь возможность после переворота присоединиться к победившей стороне. Штауффенберг посоветовал Трескову оставаться на востоке, пока не будет вызван в Берлин. Теперь ожидаемое могло произойти в любой день. Штауффенберг решил лично осуществить покушение на жизнь фюрера.
В это же время предпринимались попытки скоординировать штабную работу Берлина и Парижа для момента переворота. Учитывая расхождение взглядов и отсутствие совещаний личного состава и налаженной связи, это было совсем не просто. Роммель все еще не соглашался с идеей убийства. Он считал весь заговор плохо спланированным и организованным. Однако существовали прочные связи между Штауффенбергом в Берлине, начальником штаба Роммеля Шпейделем и главой военной администрации во Франции Штюльпнагелем. Во многих отношениях военные лидеры во Франции были лучше подготовлены к перевороту, чем их коллеги в Германии, где командующий армией резерва Фромм представлял собой более сложную политическую загадку, чем Клюге. Клюге всегда колебался, и, когда он впервые появился во Франции, прибыв прямо от фюрера, он, казалось, мог только цитировать слова Гитлера. Но потом он быстро осознал неразрешимую сложность ситуации, в которую его поместил глава государства. По словам Шпейделя, Клюге понимал, что «Гитлер живет в мире иллюзий, когда же они рассеиваются, он начинает искать очередного козла отпущения». И он решил послать кузена Штауффенберга Цезаря фон Хофакера в Берлин, чтобы тот сообщил Беку о его согласии поддержать переворот всеми имеющимися в его распоряжении силами после смерти Гитлера. Но, как и Роммель, Клюге не желал участвовать в убийстве. Хофакер — человек, по словам Шпейделя, многочисленных «политических талантов, горячего темперамента и дара убеждения», в самый ответственный период, с 9 по 15 июля, действовал в качестве связующего звена между Берлином и немецкими командирами во Франции. Именно в это время было решено, что Роммель направит Гитлеру ультиматум, после чего будет считать себя свободным от обязательств перед фюрером и направит все свои силы и влияние на заключение мира с западными союзниками{20}.
Штауффенберг, вдохновленный сообщениями Хофакера из Франции и страстно желающий освободить из тюрьмы Лебера, подготовил два покушения на жизнь Гитлера с применением британских бомб, которые раздобыл Штифф. Они имели место 11 июля и 15 июля, в день, когда Роммель направил ультиматум.
В среду 11 июля Штауффенберга вызвали в Оберзальцберг для доклада Гитлеру о положении дел в армии резерва. Он вылетел специальным самолетом, захватив с собой портфель, в котором лежала одна из бомб замедленного действия. Опасаясь гестапо, он решил, что Гиммлера необходимо убить вместе с Гитлером, а если получится, то и Геринга вместе с ними. Это вполне понятное и заманчивое желание устранить одновременно как можно больше нацистских лидеров на деле оказалось блажью, которую Сопротивление не должно было себе позволять.
Штауффенберга сопровождал адъютант, капитан Клаузинг{21}, который должен был обеспечить, чтобы машина для возвращения в аэропорт после убийства была готова немедленно выехать. Штауффенберг собирался сделать доклад Гитлеру, запустить механизм взрывателя и выйти из комнаты, оставив в ней свой смертоносный портфель. Но, войдя в комнату для совещаний, Штауффенберг обнаружил, что ни Гиммлера, ни Геринга среди присутствующих нет. Извинившись, он покинул помещение и позвонил в Берлин Ольбрихту. Было решено отказаться от покушения. Поэтому, сделав доклад, крайне разочарованный Штауффенберг вернулся в аэропорт и принес обратно портфель с бомбой{22}.
Получив в начале июля от агентов из Германии информацию о неизбежности путча, Гизевиус решил вернуться в страну, чтобы не пропустить исторический момент. Он прибыл в Берлин 12 июля и сразу сообщил об этом всем главным заговорщикам. Он навестил Бека в его маленьком домике в Лихтерфельде, который чудом уцелел и стоял один среди руин разрушенных бомбежками зданий. Он повидался со старыми друзьями — Теодором и Элизабет Штрюнк. Теодор, служивший в абвере, приезжая по делам службы в Швейцарию, всегда сообщал Гизевиусу новости. Жилище Штрюнка с большим подвалом в последние дни стало местом сбора членов Сопротивления. 12 июля с Гизевиусом встретились Штауффенберг и Герделер. Герделер, хотя и держался прямо, выглядел усталым и постаревшим. Он постарался уклониться от встречи со Штауффенбергом, которого, как признался Гизевиусу, недолюбливал.
Штауффенберг приехал только после полуночи, и Гизевиус получил возможность с ним познакомиться. Полковник произвел на него сильное, но неоднозначное впечатление. Штауффенберг обладал здоровым телом, но покрытый черной повязкой глаз явно причинял ему постоянное беспокойство — к нему все время приходилось прикладывать ватные тампоны. Гизевиус почувствовал, насколько тяжело этому энергичному мужчине чувствовать себя калекой{23}. Штауффенберг опустился на стул, вытянул ноги, расстегнул китель и без церемоний потребовал кофе. Его голос был хриплым, но приятным. Ночь была жаркой, и Штауффенберг часто стирал рукой со лба выступившие капельки пота. Гизевиуса очень удивили простецкие манеры потомственного аристократа. Когда начался разговор о политике, Штауффенберг первым делом заявил, что уже слишком поздно начинать переговоры с Западом. По его мнению, Сталин будет в Берлине уже через несколько недель. Он говорил пылко, часто противореча сам себе. Гизевиус возражал, хотя и не скрывал своего восхищения смелостью Штауффенберга.
— Откуда вы знаете, что я установлю бомбу? — горячился он.
— Иначе бы вы сюда не приехали! — улыбнулся Гизевиус.
Как бы то ни было, на первой встрече у Гизевиуса сложилось твердое убеждение, что Штауффенберг пойдет до конца.
14 июля, несмотря на то что русские уже подходили к границе, Гитлер перевел свою ставку в Восточную Пруссию. Штауффенберг получил приказ прибыть на очередное совещание у фюрера, и было решено, что будет произведена очередная попытка покушения, пусть даже на одного только Гитлера. 11 июля план «Валькирия» не был задействован ввиду неопределенной ситуации на совещании в Бергхофе. Теперь же решили, что войска в Берлине должны быть приведены в состояние готовности к одиннадцати часам — заблаговременно до начала совещания в Растенбурге.
На следующий день — в субботу 15 июля — Штауффенберг и Клаузинг сопровождали Фромма в Восточную Пруссию. Ольбрихт, согласно договоренности, в одиннадцать часов дал первую команду о передвижении войск к центру Берлина. После этого он стал ждать в своем кабинете уведомления Штауффенберга об успехе покушения, чтобы запустить план «Валькирия» в действие. Герделер и Гизевиус ждали новостей в домике Бека в Лихтерфельде. Бек за прошедшее с начала войны время сильно изменился, чему в немалой степени способствовала его тяжелая болезнь. Он сильно нервничал, и его помощник по хозяйству позже рассказал, что каждое утро простыни, на которых спал хозяин, оказывались мокрыми от пота, и так продолжалось довольно долгое время. Герделер и Гизевиус приехали в Лихтерфельд около полудня, и Бек встретил их с нескрываемой радостью. «Как хорошо, что вы наконец здесь! — воскликнул он. — Это ожидание в одиночестве меня убивает!»
Но ожидание в компании очень скоро тоже превратилось в пытку. Совещание в Растенбурге началось в двенадцать часов. Прошел час, потом еще один, а новостей все не было. Вести светские беседы было невозможно. Гости Бека оставались у него в доме до шести часов. Гизевиус воспользовался телефоном-автоматом и позвонил своему другу Гелльдорфу — руководителю полицейского управления Берлина, чтобы узнать новости. Тот с претензией на конспирацию ответил: «Ты, конечно, уже знаешь, что вечеринка не состоялась». Позже Гизевиус узнал от Гелльдорфа подробности происшедшего. Оказывается, Гиммлер и Геринг снова отсутствовали на совещании. Штауффенберг позвонил в Берлин и получил указание действовать. Но, вернувшись в комнату для совещаний, он увидел, что фюрер поспешно ушел. Пришлось звонить Ольбрихту еще раз и информировать об очередной неудаче{24}. План «Валькирия» с трудом был остановлен, людям сообщили, что это были учения. Фромм очень разозлился и сделал выговор Ольбрихту.
16 июля Бек, Штауффенберг и Ольбрихт снова встретились в Берлине. Они больше не могли выносить неизвестность. Следующая попытка должна была стать последней. Теперь выполнение плана «Валькирия» можно было начинать только после устранения фюрера. Второй раз в учения никто бы не поверил. Именно поэтому 20 июля на Бендлерштрассе ждали новостей в бездействии. Накануне Штауффенберг собрал своих самых близких друзей и родственников в своей квартире возле Ванзее. Пришли его брат Бертольд, кузен Хофакер, Тротт и Фриц фон Шуленбург. Они говорили о политическом будущем Германии после смерти фюрера.
Прошло три дня, прежде чем Штауффенберг вновь получил возможность приблизиться к Гитлеру. Новости, поступившие 17 июля, привели военных в шок. На Восточном и Западном фронтах ожидалось одновременное наступление. А Роммель получил тяжелое ранение в голову во время обстрела его машины с воздуха. Последнее ставило под сомнение успех действий заговорщиков во Франции и явилось ударом по надеждам Штауффенберга на то, что присутствие Роммеля на стороне заговорщиков поможет успокоить волнения, которые могут возникнуть после падения Гитлера. По словам Шпейделя, «группа армий чувствовала себя словно осиротевший ребенок». Штауффенберг также лишился помощи Фалькенхаузена — еще одного генерала, симпатизировавшего Сопротивлению, который осуществлял командование в Бельгии и Северной Франции. 15 июля его уволили. Еще один удар последовал 18 июля — сообщение о скором аресте Герделера. Штауффенберг срочно предупредил его о необходимости уйти в глубокое подполье. Осознав, что никак не может продолжать общаться с товарищами, не подвергая их риску, пока ситуация так или иначе не разрешится, он неохотно удалился в Вестфалию — в Герсфельд, расположенный в двухстах милях юго-западнее Берлина. Ночь 15 июля Герделер провел в подвале дома Штрюнков вместе с Гизевиусом. Это была их последняя встреча.
Наконец пришел долгожданный приказ. Штауффенберг должен был прибыть в Растенбург на следующий день — в четверг 20 июля — с докладом о положении дел в некоторых дивизиях армии резерва. В кругах заговорщиков быстро распространилась новость о том, что ожидается еще одна попытка покушения.
Для Штауффенберга это был день, когда одно высшее усилие должно было положить конец бесконечной череде неудач и разочарований. Работая над докладом для человека, которого он собирался убить, полковник казался спокойным и даже пребывал в хорошем настроении. Поздно вечером он вышел из кабинета и по пути домой долго молился в одиночестве в католическом соборе Далема{25}. Этот поступок протестант Бонхёффер, пребывавший в тюремной камере, несомненно, одобрил бы всем сердцем.
Часть вторая
20 июля
День обещал быть жарким. Штауффенберг встал рано. Автомобиль, который должен был отвезти его из дома возле Ванзее на аэродром Рангсдорф, расположенный к югу от Берлина, прибыл в шесть часов утра. По пути Штауффенберг заехал за своим адъютантом лейтенантом Вернером фон Хефтеном, который взял с собой на аэродром своего брата Бернда, лейтенанта ВМФ, для компании. Его присутствие позволило ослабить нервное напряжение, поскольку в присутствии водителя нельзя было говорить о предприятии, занимавшем все их мысли. Машина быстро ехала по городским окраинам на аэродром, где заговорщиков ожидал Штифф.
В Рангсдорфе заговорщики, наконец, избавились от присутствия водителя. Штифф ждал их вместе со своим помощником — майором Роллем, и все пошли к самолету, выделенному генералом Вагнером для полета в Растенбург. Взлет был произведен в семь часов.
Бомбы весили около двух фунтов каждая{26}. Та, что получил Штауффенберг, была такого же типа, как и те, что он использовал в предыдущих попытках: английская бомба с бесшумным взрывателем, приводимым в действие при раздавливании стеклянного капсюля с кислотой, которая растворяет проволоку, освобождающую ударник. Промежуток времени до взрыва определялся толщиной проволоки, и Штифф использовал самую тонкую, какую сумел найти. Кислота разъедала ее в течение десяти минут. Штауффенберг аккуратно завернул бомбу в рубашку и положил в портфель — рядом с докладом Гитлеру. Вторая бомба была аналогичным образом спрятана в портфель адъютанта. Ее подготовили только на случай, если первая окажется неисправной. Тогда Штауффенбергу придется под каким-нибудь предлогом покинуть комнату для совещаний и взять другую. В любом случае ему предстояло раздавить капсюль с кислотой тремя имевшимися пальцами с помощью небольших щипцов.
До Растенбурга было около трехсот пятидесяти миль полета над прусскими равнинами, и вскоре после десяти часов утра самолет приземлился. Летчика предупредили о необходимости быть готовым к немедленному взлету в любой момент после полудня, и офицеры продолжили путь на автомобиле: ставка Гитлера находилась в лесу в девяти милях от аэродрома. Они миновали три контрольно-пропускных пункта, где предъявили специальные пропуска, выданные им для этого визита, охранявшим ставку эсэсовцам. Система защиты была настолько сложной, что генерал Йодль назвал «Волчье логово» (Вольфшанце), как часто именовали ставку фюрера, чем-то средним между монастырем и концентрационным лагерем с минными полями, колючей проволокой и забором, по которому пропускается электрический ток. Это было тихое, сумрачное место в самой глубине леса, которое отлично выполняло свое предназначение — охранять меланхоличные стратегические планы фюрера от реальностей войны.
Штауффенберг и его спутники без труда проникли внутрь этого зловещего сооружения. Теперь Штауффенберг уже размышлял о том, как им удастся выйти после взрыва бомбы. Успех зависел от скорости, и основной задачей Хефтена, помимо охраны запасного портфеля, было держать наготове машину, чтобы немедленно уехать после получения известия о смерти Гитлера. Но для начала следовало сделать дело, а до этого предстояло еще двухчасовое ожидание: совещание было назначено на час дня. Штауффенберг и Хефтен решили позавтракать — не зря говорят, что хорошая еда успокаивает нервы. Потом они навестили генерала Фельгибеля — главу службы связи вермахта.
Штифф и Фельгибель были единственными в Растенбурге высшими офицерами, участвовавшими в заговоре. После отъезда Штауффенберга в Берлин они должны были сделать все возможное для изоляции Растенбурга от внешнего мира, чтобы дать возможность заговорщикам в Берлине приступить к выполнению плана «Валькирия». Фельгибель, как руководитель центра связи Растенбурга, по плану был обязан передать информацию в Берлин, после чего или уничтожить, или каким-либо другим способом прекратить все радио– и телефонные контакты Растенбурга с Германией.
Штауффенберг и Фельгибель хорошо понимали друг друга, знали свои задачи, поэтому говорить в общем-то было не о чем. Штауффенберг покинул его, чтобы нанести формальный визит представителю сухопутных войск в ставке и заранее сообщить о том, что он планировал доложить Гитлеру по вопросу ситуации в армии резерва. После полудня он зашел к фельдмаршалу Кейтелю и уточнил детали своего участия в совещании. Кейтель с нетерпением дожидался его прихода, чтобы сообщить об изменениях в повестке дня. Штауффенберг пришел в ужас, решив, что его планы снова могут оказаться расстроенными, но постарался скрыть свое настроение и внимательно выслушал Кейтеля.
Заговорщики в Берлине знали, что информация о развитии событий поступит только после полудня. Совещание у Гитлера назначено на час дня, значит, сигнал от Фельгибеля может прийти в любой момент после этого времени. Только тогда можно будет задействовать план «Валькирия». А пока никто ничего не мог предпринять. Оставалось только одно — ждать.
Если Штауффенберг убьет Гитлера, нервным центром действия станет военное министерство на Бендлерштрассе, напрямую связанное со штабом командования в Цоссене, расположенном в двадцати милях к югу от Берлина.
В Цоссене заговорщики рассчитывали на действия армейского квартирмейстера генерала Вагнера. На Бендлерштрассе, где размещались службы генерала Фромма, приказ приступать к плану «Валькирия» в отсутствие Штауффенберга должен был отдать Ольбрихт, которого, как упорно продолжали надеяться заговорщики, убедившись в успехе, поддержит и Фромм. А тем временем Бек и Вицлебен будут вызваны на Бендлерштрассе, чтобы своим авторитетом поддержать все происходящее.
План «Валькирия» после выполнения ряда последовательных этапов сосредоточит все доступные силы армии резерва в Берлине и других основных центрах, чтобы лишить возможности маневра войска СС и гестапо, командиры которых будут арестованы. Одновременно аналогичные действия будут предприняты армией во Франции, где заговорщики все же рассчитывали на поддержку Клюге. Потеря Роммеля была большой неудачей, в результате которой Штюльпнагель остался единственным действующим генералом, вовлеченным в заговор. Поэтому его штаб, разместившийся в отеле на авеню Клебер в Париже, превратился в нервный центр заговора на Западе, хотя общее командование вооруженными силами 20 июля должно было осуществляться из бывшего штаба Роммеля в Ла Рош-Гийон, куда вечером приехал с фронта Клюге. Поэтому положение Штюльпнагеля в Париже было во многих отношениях схожим с положением Ольбрихта в Берлине. Оба имели командиров, никак не желавших дать свое имя и авторитет приказам, подготовленным для распространения в вооруженных силах. Сотрудничество вооруженных сил западной группировки во Франции было не менее важно, чем сотрудничество армии резерва в Германии.
Расставаясь со своими друзьями Штрюнками на местной железнодорожной станции, Гизевиус чувствовал лихорадочное возбуждение. Все понимали, что настал день, когда все будет выиграно или, наоборот, потеряно. Поэтому прощание вышло волнующим и торжественным. Гизевиус, отчаянно желая стать меньше ростом и не таким заметным, сел на поезд и поехал к Гелльдорфу. Там уже был еще один их общий друг — граф Бисмарк.
В этот день, когда все было поставлено на карту, люди не знали, о чем говорить друг с другом. Вот и у Гелльдорфа присутствующие вели светскую беседу о погоде и о повышенной влажности. Только после полудня прибыл посланный Ольбрихтом майор и привез карты с указанием зданий, которые предстояло занять тем же вечером. Майор нервничал, выказывал крайнюю подозрительность и в первый момент отказался разговаривать в присутствии посторонних — друзей Гелльдорфа. Гелльдорф рассмеялся и предложил для начала положить портфель, в который майор вцепился мертвой хваткой. Юноша немного расслабился, но его руки, раскрывавшие портфель и достававшие карту, все равно дрожали.
Карта оказалась не той, что нужно. Майор привез карту, подготовленную еще во время Сталинградской кампании и давно потерявшую актуальность. На ней были указаны здания и сооружения, много месяцев назад разрушенные во время воздушных налетов. Дальше в лес — больше дров. Последовавшая затем дискуссия по поводу будущих арестов привела к полной путанице. Гелльдорф категорически настаивал, что первой должна начать действовать армия и занять правительственные здания, а уж потом полиция приступит к арестам. Смущенный, приведенный в полное замешательство молодой майор уехал незадолго до часа дня, напутствованный Гелльдорфом по поводу следования армией согласованному плану. Полицию следовало нейтрализовать до тех пор, пока армия не сыграет свою роль в перевороте. После отъезда майора, прихватившего с собой и никому не нужную карту, Гелльдорф и заговорщики приготовились терпеливо ждать у молчащих телефонов.
Ольбрихт все утро провел в своем кабинете. Он тоже ждал. Генерал Гепнер, теневой командующий армией резерва, приехал около половины первого. Он был в гражданской одежде, но предусмотрительно принес с собой военную форму, которую оставил у Ольбрихта{27}. Оставалось достаточно времени, чтобы пойти перекусить. Акция Штауффенберга произойдет не раньше чем в час дня, а значит, информация от Фельгибеля поступит еще позже. За обедом они взяли по бокалу вина и произнесли тост за успех предприятия. Потом они вернулись в кабинет Ольбрихта ждать новостей{28}.
Чтобы скоординировать одновременные действия разных участников переворота, заговорщики полностью положились на телефон. Фельгибель позвонит в Берлин, с Бендлерштрассе позвонят в Париж, откуда потом будут даны (тоже в основном по телефону) команды, приводящие в действие план «Валькирия». Но телефон может стать штукой весьма ненадежной, особенно если им пользуется очень нервный абонент во время чрезвычайной ситуации в стране.
Так произошло с полковником Финком, генералом– квартирмейстером Клюге, который разместился в Париже на улице де Сюрен, принявшим еще утром таинственный телефонный звонок от квартирмейстера из Цоссена. Финк, участник заговора в Париже, услышал звонок, поднял трубку и услышал, как после паузы незнакомый голос произнес невнятное предложение, в котором было слово «учения». Потом на другом конце провода трубку положили. Финк, осторожный и очень опытный офицер, много лет занимавшийся административной работой, глубоко задумался. Кодовое слово «учения» уже однажды было передано — в субботу 15 июля. Но на этот раз он знал больше о том, что оно могло значить. Перед своим недавним прибытием в Париж он имел беседу со Штауффенбергом, а Хофакер всего пару дней назад под большим секретом сообщил ему последние берлинские новости. В сейфе у Финка лежали планы тайных действий армии. Тогда он позвонил Хофакеру и открытым текстом спросил:
— Все готово для «учений»?
— Конечно, — ответил тот и быстро положил трубку. Всем известно, что, чем меньше сказано по телефону, тем лучше.
Слово «учения» означало полную боевую готовность. После получения следующего сигнала из Берлина Финк был обязан отправить заранее обусловленное сообщение начальнику штаба Клюге генералу Блюментриту, предназначенное лично главнокомандующему. Он не завидовал миссии Штюльпнагеля, которому предстояло оказать давление на Клюге, чтобы тот все-таки поддержал переворот после смерти Гитлера силой оружия. Как и Роммелю, Финку не нравилась идея убийства фюрера. Тяжело вздохнув, полковник вытер пот со лба и постарался настроиться на повседневную работу, которую никто не отменял в этот жаркий июльский день.
Кейтель поспешно объяснил Штауффенбергу, что фюрер, как обычно, все изменил. Оказалось, что примерно в половине третьего в Растенбурге ждали прибытия Муссолини. По этой причине совещание перенесли на двенадцать тридцать, то есть через полчаса, и доклады должны быть короткими. Совещание будет происходить в обычном помещении — комнате, обшитой деревом, с бетонными стенами. Штауффенберг надеялся, что угроза воздушного налета заставит перенести совещание в подземный бетонный бункер, где эффект от взрыва был бы сильнее. Но теперь стало очевидно, что на это надежды нет. Следовательно, бомбу следует поместить как можно ближе к Гитлеру.
Штауффенберг предусмотрительно оставил фуражку и ремень в приемной Кейтеля. Ему потребуется причина, чтобы на несколько секунд покинуть начальника штаба и получить время на раздавливание капсюля. Это следует сделать до входа в комнату для совещаний, чтобы получить как можно больше ценных минут для выбора места установки бомбы и ухода.
Кабинет Кейтеля находился в трех минутах ходьбы от комнаты для совещаний, и начальник штаба спешил. Он нервно взглянул на свои наручные часы и попросил Штауффенберга следовать за ним. Они вышли вместе с помощниками Кейтеля, но по пути Штауффенберг «вспомнил» о забытой фуражке и ремне и заторопился обратно, туда, где он мог бы, пусть на очень короткое время, остаться один. Офицеры предложили искалеченному полковнику свою помощь, но тот быстро ушел. Кейтель, чрезвычайно раздраженный еще одним препятствием, крикнул вслед, чтобы тот не задерживался. Штауффенберг почти сразу вновь появился на пороге приемной. Он казался совершенно спокойным и с дружелюбной улыбкой отклонил предложение помочь нести портфель. Группа офицеров подошла к комнате для совещаний.
Гитлер уже находился за столом. Штауффенберг стиснул ручку портфеля. Он понимал, что кислота уже несколько минут разъедает проволоку, но сохранял спокойствие. В присутствии Кейтеля он сказал дежурному телефонисту, что ожидает звонка из Берлина: ему должны сообщить дополнительную информацию для доклада. Затем офицеры прошли к столу и заняли свои места. Совещание началось несколько минут назад, и первый докладчик рассказывал о ситуации на Восточном фронте. Вновь прибывшие офицеры поприветствовали фюрера.
Штауффенберг обвел единственным уцелевшим глазом комнату, чтобы оценить ситуацию. Комната для совещаний находилась в торце внушительного деревянного строения и была отделена деревянной перегородкой. Ее размеры были примерно восемнадцать на сорок футов. Напротив двери в стене было два окна, которые, как Штауффенберг сразу же отметил, были настежь распахнуты из-за жары. Это обстоятельство, конечно, существенно снизит эффект от взрыва. Почти всю площадь комнаты занимал стол с картами, вокруг которого стояли офицеры. Центральное место занимал Гитлер. Он стоял лицом к окнам и спиной к двери. Стол был массивным дубовым сооружением, опирающимся на две длинные деревянные тумбы. Тумбы были тяжелыми и, очевидно, очень прочными. Кроме того, Штауффенберг отметил, что на совещании нет ни Геринга, ни Гиммлера, ни Риббентропа.
Начальник оперативного отдела Генерального штаба генерал Хойзингер продолжил доклад. Он сказал, что ситуация к востоку от Лемберга очень серьезная, ухудшается с каждым часом и срочно необходимы резервы.
— Мой фюрер, — вмешался Кейтель, — может быть, вы послушаете по этому вопросу Штауффенберга?
Гитлер ответил, что обязательно вернется к этому вопросу позже, после того как Хойзингер закончит свое сообщение об обстановке на других участках Восточного фронта.
Штауффенберг решил воспользоваться тем, что доклад обещает затянуться.
— Господин фельдмаршал, — шепнул он Кейтелю, — мне необходимо сделать один срочный звонок. Вернусь через минуту.
Кейтель кивнул, и, пока в комнате звучал голос Хойзингера, приглушенный перенасыщенным влагой воздухом июльского полдня, Штауффенберг наклонился и придвинул свой портфель к тумбе, причем с той стороны, с которой находился Гитлер. Рядом стоял полковник Брандт — ни в чем не повинный эмиссар, который годом раньше пронес на самолет бомбы Трескова.
— Я оставлю здесь портфель, — негромко сказал он Брандту. — Нужно позвонить. — После этого Штауффенберг беспрепятственно обошел военных, столпившихся вокруг своего обожаемого лидера, и покинул комнату. Дело было сделано.
Штауффенберг быстрым шагом направился к кабинету Фельгибеля, считая оставшиеся до взрыва минуты. А в это время в комнате для совещаний Брандту, начальнику штаба Хойзингера, который как раз делал доклад, потребовалось подойти ближе к карте, разложенной на столе. Ему помешал портфель Штауффенберга, и он отодвинул его, также прислонив к тумбе, но уже с другой стороны, дальше от Гитлера. Кейтель, организатор совещания, поднял голову и огляделся. Следующим должен был докладывать Штауффенберг. К своему немалому раздражению, Кейтель обнаружил, что неорганизованный полковник все еще отсутствует. Не вовремя он, однако, решил звонить в Берлин. Он вышел в приемную, чтобы вернуть докладчика, но телефонист доложил, что Штауффенберг ушел{29}. Удивленный Кейтель вернулся на совещание, поспешно придумывая, как теперь быть.
А Штауффенберг почти бежал к кабинету Фельгибеля, до которого было около ста ярдов. Хефтен ожидал с запасным портфелем и готовой к немедленному отъезду машиной. Фельгибель и Хефтен стояли рядом, оглядываясь по сторонам и считая секунды. Они видели, как Штауффенберг с Кейтелем и другими офицерами зашел в помещение. И вот, наконец, он вышел обратно, причем без портфеля. Когда он приблизился, Хефтен сел в машину. Штауффенберг закурил сигарету и повернул голову в ту сторону, откуда вот-вот должен был раздаться взрыв. Гитлер в это время внимательно слушал заключительные фразы доклада.
Ровно в двенадцать сорок две бомба взорвалась. Шум был оглушающим. Часть здания разрушилась, оттуда доносились крики и стоны. Штауффенберг, уверенный, что Гитлер не мог уцелеть в таком катаклизме, сел в машину и покинул Фельгибеля, предоставив ему приходить в себя самостоятельно. Очнувшись от шока, Фельгибель должен был позвонить в Берлин{30}. Задачей же Штауффенберга было прорваться через посты, как можно быстрее добраться до аэродрома и вылететь в Берлин. Его ждали на Бендлерштрассе.
Пока машина петляла между постройками Растенбурга к первому контрольно-пропускному пункту, Штауффенберг имел все основания полагать, что его миссия успешно выполнена. Внешний эффект от взрыва был таков, словно в здание угодил стопятидесяти– миллиметровый снаряд — так он описал свои впечатления позднее. Одного человека взрывной волной выбросило в открытое окно. Целый и невредимый, он вскочил на ноги и бодро побежал к домику охраны, громко взывая о помощи. Над руинами стояло облако черного дыма, в котором проблескивали языки пламени. Стол был разнесен на куски, потолок упал, из окон вылетели стекла. Грохот взрыва разорвал спокойную тишину Растенбурга. Одни подумали, что рядом взорвалась ракета, другие — что начался воздушный налет. Стоны и крики боли смешались с деловитыми голосами людей, бегущих на помощь к месту катастрофы. В это время Фельгибель, к своему ужасу, увидел, что из руин, пошатываясь, выходит фюрер, поддерживаемый Кейтелем, который сумел-таки обнаружить своего вождя под грудой осколков, вытащить на свет божий и сопроводить для получения медицинской помощи. У фельдмаршала тлели волосы, правая рука была практически парализована, правая нога сильно обожжена. Кроме того, у него оказались поврежденными барабанные перепонки, в клочья изорвана форма, а спина, и особенно нижняя ее часть, так иссечена осколками, что сам он впоследствии говорил, что имел «зад как у бабуина». Взрыв не обошелся без жертв. Четыре человека были убиты на месте или доживали свои последние минуты, двое было тяжело ранены, многие получили легкие ранения и контузии{31}.
Через две минуты после взрыва Штауффенберг доехал до первого поста. Он выскочил из машины и потребовал доступа к телефону дежурного офицера. Сказав несколько коротких фраз в трубку, он заявил дежурному офицеру, что получил разрешение следовать дальше, и уже в двенадцать сорок четыре проехал мимо несколько ошалевших от такой наглости охранников. Машина быстро преодолела расстояние, отделявшее этот пост от внешнего периметра. Там обмануть охрану было уже куда сложнее. У эсэсовцев было время прийти в себя и удвоить бдительность. Штауффенберг воспользовался тем же способом, но на этот раз позвонил адъютанту коменданта. Однако эсэсовский сержант отказался принять на веру пересказ Штауффенберга состоявшегося разговора и, только когда лично услышал распоряжение, пропустил полковника. К этому времени сержант уже успел получить приказ никого не впускать и не выпускать. Проклиная задержку, Штауффенберг поспешил на аэродром, куда добрался вскоре после часа дня. По дороге Хефтен разобрал запасную бомбу на части и выбросил их в окно. Штауффенберг тем временем как мог подгонял водителя, заставляя его выжать из машины все, что возможно.
Фельгибель не мог поверить своим глазам. Гитлер не просто был жив — он передвигался на своих ногах! Не вполне понимая, что он в такой ситуации должен делать, он неуверенно двинулся вместе со всеми, кто спешил на помощь пострадавшим. Это давало ему несколько минут, чтобы сообразить, как лучше поступить. Сигнал, переданный им в Берлин, должен был дать ход или остановить операцию, заранее оговорено было только два варианта — да или нет. Заговорщики не предусмотрели возможности того, что покушение состоится, но окажется неудачным. В любом случае заговорщики заявили о себе. Среди них было много таких, кто расценит само покушение, независимо от того, удачное или нет, как сигнал к началу переворота. Хуже всего было то, что Штауффенберг теперь был недоступен, он уже летел на самолете, на котором не было радиосвязи, в полной уверенности, что добился успеха.
Во время взрыва Гиммлер трудился в своем штабе, расположенном в двадцати пяти километрах на озере Маурзее. Его сразу вызвали к фюреру, и он в панике устремился в Растенбург в сопровождении только одного телохранителя, Кирмайера. Поездка на машине по проселочным дорогам заняла у него всего полчаса.
По прибытии Гиммлер немедленно взял на себя расследование взрыва. Он позвонил в Берлин и приказал направить в Растенбург бригаду следователей и экспертов{32}. После этого вся связь Растенбурга с внешним миром была прервана примерно на два часа. Гитлер приказал, чтобы покушение на его жизнь хранилось в секрете. Он хотел, чтобы об этом никто не узнал. А тем временем Гиммлер продолжал допрашивать свидетелей. Ему не потребовалось много времени, чтобы связать взрыв и молодого одноглазого полковника, чьи действия представлялись в высшей степени подозрительными. Его странные перемещения и поспешный отъезд, безусловно, говорили о желании скрыться.
Два человека, принадлежавшие к числу заговорщиков, которые остались в Растенбурге, оказались в крайне опасной ситуации. Взволнованный и сбитый с толку Фельгибель не смог позвонить на Бендлерштрассе. Более реалистичный и циничный Штифф решил, что, судя по всему, учитывая неудачу покушения, переворота не будет. Значит, следует в первую очередь позаботиться о себе и о товарищах. Поэтому от последующих действий он воздержался.
Переживший страшный шок фюрер казался удивительно спокойным. Несмотря на мелкие ранения, он был преисполнен решимости встретиться с Муссолини, тем самым продемонстрировав, что его охраняет само Провидение. Куски его пострадавшей при взрыве формы были приготовлены специально для показа дуче как доказательство святости и неуязвимости немецкого фюрера. Поезд дуче, медленно продвигавшийся по истерзанной бомбежками Восточной Пруссии, опаздывал, и у фюрера появилось время прийти в себя от шока и лучше подготовиться к демонстрации своей святости.
Пока в Растенбурге еще не подозревали, что взрыв бомбы является сигналом к началу переворота. Штауффенберга сочли террористом-одиночкой. Даже Гиммлер, владевший большим объемом информации, чем остальные, не предполагал, что бомба в Растенбурге должна начать революцию в Германии и на Западе.
Первые зерна неразберихи в Берлине были посеяны телефоном. Услышав о взрыве в Растенбурге, министр пропаганды и гаулейтер Берлина Геббельс был потрясен. Он был бледен, молчалив и только нервно мерил шагами свой кабинет, пока не получил сообщение о том, что фюрер жив. После обеда он остался дома — ждать дальнейших новостей.
А в кабинете Гелльдорфа волнение нарастало вместе с июльской жарой. Было условлено, что участвовавший в заговоре полицейский офицер генерал Артур Нёбе позвонит, как только узнает что-нибудь определенное. Этого звонка ожидали в любой момент после часа дня — времени, на которое совещание у Гитлера было назначено первоначально. Когда время приблизилось к двум, напряжение стало невыносимым, и Гизевиуса уговорили нарушить молчание и позвонить Нёбе, который уже наверняка что-то знает. Гизевиус разыскал генерала по телефону и попросил разрешения приехать к нему. Разрешение не было дано. Нёбе ответствовал, что слишком занят, поскольку «в Восточной Пруссии» случилось что-то странное, и ему необходимо проинструктировать детективов, которые через полчаса вылетают на место. Нёбе изъяснялся весьма загадочно, но под конец все-таки согласился встретиться с Гизевиусом, но не у себя в кабинете, а в некоем людном месте, причем, в каком именно, он объяснил туманными намеками, которые Гизевиус не понял и ошибочно решил, что ему следует ехать в отель «Эксельсиор». Гизевиус и Нёбе нетерпеливо ожидали друг друга в совершенно разных местах почти до трех часов.
А тем временем Финк во Франции продолжал свою ежедневную работу, но мыслями все время возвращался к телефонному звонку, который мог поступить каждую минуту. Миновал час пополудни — ничего. Около двух часов его снова позвали к телефону — звонили из Цоссена. Финк взял трубку со смешанным чувством страха и любопытства. Тот же незнакомый голос произнес только одно слово — началось. Потом слово повторили еще раз, и Финк услышал щелчок — в Цоссене положили трубку. Переворот начался.
Финк сразу вызвал по телефону свою машину. В соответствии с планом он первым делом должен был ехать в штаб фронта и доложить о происшедшем начальнику штаба Клюге генералу Блюментриту, который в заговоре не участвовал. Генерал был приятным, добродушным человеком, Финк его хорошо знал и уважал, но, поскольку генерал был настоящим служакой и думал только об исполнении долга перед страной, Финк решил, что наиболее уместным будет очень короткий официальный доклад. Он прибыл после трех часов дня, проехал на машине через контрольно-пропускной пункт и пешком пошел по саду в кабинет генерала, располагавшийся в симпатичном особнячке. Блюментрит, как обычно, принял его очень приветливо.
— Господин генерал, — сказал Финк, — в Берлине произошел гестаповский путч. Фюрер мертв. Вицлебеном, Беком и Герделером сформировано временное правительство.
Последовало ледяное молчание. Был слышен только слабый шелест листьев, проникавший сквозь полуоткрытые окна. Финк внимательно наблюдал за генералом, не зная, как тот отреагирует на его доклад. К своему немалому облегчению, он понял, что Блюментрит принял сообщение спокойно.
— Я рад, — в конце концов сказал он, — что к руководству пришли именно эти люди. Они обязательно предпримут шаги к мирному урегулированию. — После длительной паузы он спросил: — Кто сообщил вам эти новости?
Ответ у Финка был готов.
— Военный губернатор, — сказал он.
Больше у Блюментрита вопросов не было, он только попросил дать ему возможность срочно позвонить в штаб в Ла Рош-Гийон, где временно расположился его командир Клюге, теперь официально совмещавший свои обязанности главнокомандующего с обязанностями Роммеля. Он поговорил со Шпейделем, начальником штаба армейской группировки, который еще три дня назад был штабом Роммеля. Шпейдель сообщил, что Клюге выехал на линию фронта и вернется только вечером.
Генерал не знал, насколько свободно можно разговаривать по телефону, он подозревал, что все телефоны прослушивались гестапо.
— В Берлине произошло много нового, — сказал он, подумал и драматическим шепотом добавил только одно слово: — Мертв.
Шпейдель сразу начал задавать вопросы. Блюментрит, не желая больше ничего говорить, согласился приехать в Ла Рош-Гийон и доложить обо всем Клюге лично. После этого, обсудив несколько общих текущих дел, словно ничего судьбоносного не произошло, Финк отбыл обратно в Париж.
Финк рисковал, заявляя, что узнал новости от военного губернатора Парижа. Он ничего не сказал о кодовых словах, сообщенных по телефону членами движения Сопротивления из Германии. Следовало принимать во внимание страх перед телефоном, который неизбежно усилит создавшаяся чрезвычайная ситуация. Не приходилось сомневаться, что люди предпочтут общаться лично и вести разговоры только с глазу на глаз, во всяком случае до тех пор, пока государственный переворот не совершится официально. Финк вернулся в свой кабинет, намереваясь дождаться развития событий. Он был уверен, что Штюльпнагель располагает той же информацией, что и он сам.
А Штюльпнагель был в полном неведении о происходящем и пребывал в нем до времени возвращения Финка в свой кабинет, то есть примерно до четырех тридцати.
Во второй половине дня все действия были временно приостановлены. Телефон — единственное связующее звено между центрами, в которых ждали информации и инструкций, молчал. В Растенбурге всякая связь с внешним миром была прервана. Пока оказывали первую помощь раненым, Гиммлер и его помощники из числа эсэсовских офицеров собирали показания свидетелей. Все указывало на то, что убийца — Штауффенберг. Чудом уцелевший Гитлер собирался встретиться с Муссолини, который так еще и не прибыл. Штауффенберг находился в воздухе. Он летел на выделенном Вагнером «Хейнкеле» в Берлин. Сердцем и мыслями он был вместе со своими товарищами на Бендлерштрассе, которые, как он предполагал, теперь активно действуют. Около трех часов недалеко от «Хейнкеля», уносящего в Берлин человека, которого Гиммлер назвал преступником, пролетел встречным курсом самолет со следователями гестапо на борту. В Берлине Ольбрихт пребывал в крайнем раздражении из-за потери ценного времени. Он не мог привести в действие план «Валькирия», пока не получил информацию из Растенбурга. В Цоссене и Париже заговорщики с нетерпением ждали приказов, а Фромм и Клюге, чья поддержка, хотя бы и молчаливая, была жизненно важной для достижения успеха, все еще ничего не знали о происходящем.
Примерно в половине четвертого связист Ольбрихта генерал Фриц Тиле наконец сумел установить связь с Растенбургом. Он первым нарушил молчание, установленное после часа дня. Слышимость была очень плохая, и ему удалось узнать только то, что было покушение на жизнь Гитлера. Причем не было ясности, жив фюрер или мертв. В этих обстоятельствах Ольбрихт решил, что был прав, задержав выполнение плана «Валькирия», но теперь ему следует дать ход. И первые сигналы об этом появились около трех тридцати.
Приблизительно в это же время в Рангсдорфе приземлился самолет со Штауффенбергом на борту{33}. Штауффенберг и Хефтен наконец получили возможность дать выход эмоциям, которые едва сдерживали в течение трехчасового полета. Они поспешили на поиски машины, которая должна была их ждать, чтобы доставить на Бендлерштрассе. Но машины не было{34}. В полном недоумении Штауффенберг приказал Хефтену позвонить на Бендлерштрассе. Ответил начальник штаба Ольбрихта Мерц фон Квирнгейм. И только тогда Штауффенберг узнал правду. Оказывается, сигналы к началу «Валькирии» пошли только теперь, поскольку Фельгибель так и не позвонил в Берлин. «Но ведь Гитлер мертв!» — вскричал Штауффенберг.
Делия Циглер, одна из секретарей, работавших и на Штауффенберга, и на Ольбрихта, вспоминает, что в тот день, когда сотрудникам сообщили о смерти Гитлера, несколько минут царило гробовое молчание. Одни в душе ликовали, другие оцепенели от ужаса, но всех объединяло одно: никто не осмеливался произнести ни слова. Полковник Бодо фон дер Гейде, убежденный нацист, полчаса молча просидел в своем кабинете, не в силах осознать факт, что Гитлера больше нет. Большинство сотрудников не знали, что именно произошло в Растенбурге, и к вечеру всеобщая нервозность возросла. В конце концов Гейде и еще один офицер — полковник Франц Гербер — потребовали объяснений у Ольбрихта, который, зная об их настроениях, отказался с ними разговаривать. Тогда эти офицеры втайне отправили на оружейный склад грузовик за оружием и боеприпасами.
Телефонный звонок из Рангсдорфа вдохнул жизнь в заговорщиков. Около четырех часов начали рассылаться приказы, предусмотренные планом «Валькирия». Дядя Бонхёффера — генерал фон Хазе, являвшийся военным комендантом Берлина, а также членом Сопротивления, — получил инструкции по телефону. На территории Германии все командиры получали приказы по телефону. Гелльдорфу было приказано готовиться к активным действиям. После этого Ольбрихт отправился выполнять свою самую трудную задачу — убедить своего командира — генерала Фромма — присоединиться к заговорщикам. Это было очень вовремя. Ведь приказы, о которых он ничего не знал и которые уже рассылались для руководства, были подписаны его именем, его и Штауффенберга.
Фромм слушал сообщение об обстановке на фронтах, когда доложили о приходе Ольбрихта, и прервал докладчика, чтобы узнать, зачем пожаловал начальник общего управления ОКХ. Не теряя времени, Ольбрихт сообщил, что Гитлер убит. Фромм сразу поинтересовался источником информации. Тогда Ольбрихт сослался на звонок Фельгибеля из Растенбурга{35}.
— Я предлагаю в создавшейся ситуации, — сказал Ольбрихт, — отправить всем командирам армии резерва кодовое слово «Валькирия», установленное для непредвиденных обстоятельств внутри страны, и тем самым передать всю исполнительную власть вооруженным силам.
К несчастью, Фромм не был готов принимать участие в решительных действиях такого рода, во всяком случае, до тех пор пока полностью не прояснит для себя ситуацию. Он сказал, что должен лично переговорить с Кейтелем. Ольбрихт, вполне уверенный в себе и желавший во что бы то ни стало перетянуть своего командира на сторону заговорщиков, сам снял трубку телефона на столе Фромма и попросил срочно соединить его с Растенбургом. Проблем со связью не было, и очень скоро к телефону подошел Кейтель.
— Что случилось в ставке? — спросил Фромм. — В Берлине ходят самые ужасные слухи!
— Какие еще слухи! — возмутился Кейтель. — Здесь все нормально.
— Говорят даже, что фюрера убили!
— Ерунда! — объявил Кейтель. — Покушение было, это правда, но, к счастью, неудачное. Фюрер жив, отделался мелкими царапинами. Но где, скажите на милость, сейчас находится ваш начальник штаба граф фон Штауффенберг?
— Он еще не вернулся.
После этого разговора Фромм понял, что никакие действия не нужны. Ольбрихт не знал, что сказать. Он слышал весь разговор, и все, что ему оставалось делать, это вернуться в свой кабинет и все как следует обдумать. Поскольку первые приказы «Валькирии» уже ушли, он оказался в чрезвычайно затруднительном положении. Он представил себе, как войска начали движение к Берлину, и похолодел. Куда же подевался Штауффенберг!
Штауффенбергу и Хефтену понадобилось три четверти часа, чтобы добраться до Бендлерштрассе. Они прибыли почти одновременно с генералом Беком, который беспрепятственно вошел в здание, одетый в гражданский костюм, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания и не делать переворот, который он номинально возглавлял, слишком милитаристским. Штауффенберг, который больше всего на свете желал немедленно включиться в работу, взбежал по лестнице в кабинет Ольбрихта и доложил обо всем, что видел собственными глазами. Он клялся, что Кейтель лжет. Гитлер не мог уцелеть. Если он и не погиб на месте, то определенно получил тяжелейшие ранения и теперь доживает свои последние минуты. Переворот должен продолжаться.
Штауффенберг сразу начал действовать. Гелльдорфу было сказано прибыть на Бендлерштрассе. Первые приказы «Валькирии» были отправлены командирам подразделений армии резерва в Германии. А что происходит в Париже? Штауффенберг позвонил Хофакеру, рассказал о страшном взрыве и потребовал, чтобы тот приступил к выполнению своей части плана. Он заверил Хофакера, что переворот развивается полным ходом, в данный момент войска занимают правительственные учреждения. Обрадованный и взволнованный Хофакер тут же направился проинформировать своего командира — генерала Штюльпнагеля.
Когда приехал Гелльдорф в сопровождении Бисмарка и Гизевиуса, им показалось, что на Бендлерштрассе странно пусто и спокойно. Никакой дополнительной охраны, равно как и признаков чрезвычайной ситуации, никто даже не проверяет пропуска. Они вошли в здание и поднялись в кабинет Ольбрихта. Только Гизевиус не мог справиться с волнением, оказавшись внутри «нервного центра переворота, который они все так долго ждали». Их встретили Ольбрихт и Бек. К своему удивлению, Гизевиус увидел и Штауффенберга, который стоял у стола Ольбрихта. Он лучился радостью и торжеством. Ольбрихт сообщил прибывшим то, что он считал официальной информацией о смерти Гитлера, сказал, что переворот — задача армии, а полиция должна предоставить себя в распоряжение армии. Он вещал с пафосом, по словам Гизевиуса, словно актер, произносящий хорошо заученную роль, пока его не перебил Бек.
— Минутку, — сказал Бек. — Я считаю, что мы должны сохранять полную объективность и проинформировать шефа полиции о том, что Гитлер, может быть, вовсе не умер. Сейчас мы должны решить, каким образом…
— Кейтель лжет! Нагло лжет! — возмущенно воскликнул Ольбрихт, а Штауффенберг рассмеялся.
— Нет, так нельзя, — запротестовал Бек, но Ольбрихт не желал затевать дискуссию, тем более с участием Гелльдорфа. Только было уже слишком поздно.
Гелльдорф и Гизевиус утратили иллюзии. — Не важно, лжет Кейтель или говорит правду, — упорствовал Бек. — Главное, что Гелльдорф должен знать: противная сторона утверждает, что покушение провалилось, и мы должны быть готовы, что такое же заявление будет сделано по радио. Что мы тогда скажем?
Но только Ольбрихт не желал слушать никаких возражений. Он настаивал, что Кейтель лжец, и Штауффенберг его поддерживал.
— Я все видел собственными глазами, — заверил полковник. — Я находился рядом с Фельгибелем в ставке, когда раздался взрыв. Эффект был такой, словно в здание угодил стопятидесятимиллиметровый снаряд. Там никто не мог уцелеть.
Тем не менее Бек настаивал, что с заявлением Кейтеля следует считаться и подготовить авторитетный ответ.
— Для меня, — заявил он, — Гитлер мертв. Это положение является основой для моих будущих действий. Неоспоримое доказательство того, что Гитлер, а не его двойник жив и здравствует, возможно, не появится еще долго. К этому времени в Берлине необходимо все закончить.
После этого Гелльдорф и Бисмарк уехали, оставив Гизевиуса на Бендлерштрассе. А тем временем пришел генерал Гепнер, желавший получить свой портфель. Он хотел переодеться в военную форму и сделал это в туалетной комнате Ольбрихта.
Теперь было необходимо настоять на сотрудничестве генерала Фромма. Ведь его телефоны вот-вот взорвутся звонками по поводу чрезвычайной ситуации, существования которой он не признавал. Когда Ольбрихт и Штауффенберг ушли к нему, Гизевиус, оставшись наедине с Беком, спросил, почему потеряно так много времени. Штауффенберг довольно долго добирался в Берлин из Восточной Пруссии, а до его прибытия никто ничего не делал. Бек пожал плечами, покачал головой и потер ладонью лоб.
— Не задавайте так много вопросов, — вздохнул он. — Вы же видите, как все волнуются. Мы ничего не можем изменить. Остается только надеяться, что все кончится благополучно.
Бек явно был сильно обеспокоен реальной ситуацией в Растенбурге.
Ближе к вечеру в Растенбурге собрались все нацистские лидеры. Не было только оставшегося в Берлине Геббельса. Они поспешили к фюреру, чтобы выразить свою радость по поводу чудесного спасения и возблагодарить руку Провидения, разрушившую коварные планы жестокого убийцы. Геринг во время покушения находился в своем штабе на севере страны. Услышав новости, он устремился в «Волчье логово». Риббентроп приехал из замка Штейнорт, Дённиц — из Берлина. Первые лица Германии съехались в Растенбург ко времени чаепития и приняли участие в проходившей в довольно мрачной обстановке встрече между Гитлером и Муссолини{36}.
Муссолини выглядел гораздо старше своих шестидесяти лет. Лишившись власти, он весь как-то съежился и, казалось, даже стал меньше ростом. Дуче приехал в сопровождении маршала Грациани на своем личном поезде. Воздух был влажен — моросил мелкий дождь, верхушки сосен были скрыты туманной дымкой. Гитлер ждал Муссолини на платформе построенной в «Волчьем логове» железнодорожной станции, названной Гёрлиц, от которой шла ветка к основной магистрали. Несмотря на жару, фюрер кутался в плащ. Он был бледен, правая рука забинтована. Обгоревшие волосы постригли, из ушей торчали ватные тампоны. Доктор Морель, личный врач Гитлера, утверждал, что пульс фюрера был в норме сразу после взрыва, но его движения казались замедленными, по крайней мере беспристрастному наблюдателю. Поездка от Гёрлица до личных апартаментов Гитлера заняла три минуты. За это время Муссолини рассказали, что случилось. Гитлер сообщил, что всего лишь несколько часов назад ему повезло, как никогда ранее. Слушая повествование о взрыве, Муссолини только выпучил глаза.
Гитлер первым делом продемонстрировал гостю руины комнаты для совещаний, где его жизнь подверглась чудовищной опасности и была чудесным образом спасена. Некоторое время дуче молча взирал на развалины. Затем Гитлер начал рассказывать, показал, где стоял, как склонился над столом, оперся на правый локоть. Потом он показал сильно пострадавшую при взрыве одежду. Муссолини пришел в ужас. Он никак не мог понять, как такое могло произойти в ставке, самом охраняемом месте Германии. Но он быстро восстановил самообладание и поздравил фюрера с удачей. Только для фюрера происшедшее было не просто удачей. Это было Божественное знамение, подчеркнувшее его высшую миссию.
— Я стоял здесь у стола, — сказал он. — Бомба взорвалась прямо у меня под ногами. Вы только посмотрите на форму! Взгляните на мои ожоги! Когда я думаю обо всем этом, то понимаю, что со мной ничего плохого не может произойти. Таково мое предназначение: следовать своей дорогой и довести предначертанную мне миссию до конца. Я ведь не впервые чудом избежал смерти. Но то, что произошло здесь, явилось кульминацией. Оставшись в живых, когда уцелеть, казалось, было невозможно, я теперь более чем когда-либо убежден, что великое дело, которому я служу, минует все трудности и все окончится хорошо. — Он возвысил голос и на минуту стал похож на некоего божественного пророка.
— Вы правы, мой фюрер! — воскликнул Муссолини. — Господь распростер над вами свою божественную длань. После чуда, случившегося сегодня в этой комнате, не может быть сомнений в победе нашего дела.
После этого все покинули место, где произошло чудо, и отправились в уцелевший кабинет, чтобы обсудить прозаические реалии войны.
В пять часов пополудни, прежде чем приступить к чаепитию с гостями, Гитлер приказал Гиммлеру вылететь в Берлин. Телефонная связь действовала уже больше часа, и стало очевидно, что в столице происходят какие-то непонятные события. В Растенбург вот-вот прилетят следователи гестапо, поэтому Гиммлер будет полезнее в Берлине. А пока Гиммлер позвонил в берлинское гестапо и приказал арестовать полковника Штауффенберга сразу по прибытии последнего в Берлин. Полковник СС Пифредер немедленно выехал в Рангсдорф в сопровождении двух детективов в штатском, но опоздал: самолет уже приземлился и Штауффенберг выехал в Берлин. Очевидно, две машины встретились где-то в пути.
Гитлер был всегда склонен принимать большие решения в кризисных ситуациях. Вот и теперь он прямо на месте назначил Гиммлера главнокомандующим армией резерва вместо Фромма. В течение нескольких секунд Гиммлер получил то, о чем мечтал многие годы, — командование армией в дополнение к контролю над полицией. В Берлин он отбыл со словами: «Мой фюрер, вы можете на меня положиться». Но прежде чем договориться о выделении специального самолета для перелета в Берлин, Гиммлер поехал в свою штаб-квартиру в Биркенвальде, чтобы захватить документы, необходимые для выявления всех основных участников заговора. Впоследствии он утверждал, что чудесное спасение Гитлера вернуло его к Богу. «Сохранив жизнь фюрера, — говорил он, — Провидение дало нам знак». В Берлин Гиммлер прибыл поздно вечером.
А Гитлер собрал своих гостей на чаепитие, получившееся несколько мрачноватым. К этому времени у всех гостей в большей или меньшей степени наступила реакция на происшедшие события, и они с опаской наблюдали за фюрером, который как ни в чем не бывало сосал таблетки и глотал пилюли. Никто не знал, кто оказался бы сильнейшим в борьбе за право стать его преемником, если бы фюрер в полдень умер. Геринг, официально являющийся вторым человеком среди нацистских лидеров, но фактически не имевший силы? Борман? Риббентроп? Дённиц? Или, может быть, Гиммлер, единственный человек в рейхе, имеющий реальную силу? Гости наблюдали и ждали. К Гитлеру часто подходили помощники, сообщали сведения о пострадавших. Чай, как обычно, был сервирован с соблюдением всех необходимых церемоний. Светловолосые, голубоглазые официанты бесшумно разносили напитки и сладости. Наступило некоторое затишье перед тем, как зазвучали торжественные заверения в верности, соревнующиеся друг с другом в велеречивости. Гитлер сидел молча. Вулканы, бушующие в его душе, еще ожидали своего часа, чтобы вырваться наружу. Первым заговорил Геринг.
— Мой фюрер! — воскликнул он. — Теперь мы знаем, почему наши победоносные армии отступают на востоке. Они преданы своими генералами. Но моя непобедимая дивизия Германа Геринга исправит положение!
— Мой фюрер! — вступил Дённиц. — Мои люди хотят, чтобы вы были уверены: они будут сражаться до победного конца или погибнут. Теперь, когда генералы отброшены в сторону, цитадель Британии падет!
— Мой фюрер! — вмешался Борман. — Это страшное покушение на вашу драгоценную жизнь сплотило нацию воедино. Саботаж генералов или гражданских лиц больше невозможен. Партия знает свои задачи и будет выполнять их с обновленной энергией.
— Мой фюрер! — не остался в стороне Риббентроп. — Теперь, когда с предателями будет покончено, все изменится. Мои дипломаты на Балканах позаботятся, чтобы все преимущества оказались в наших руках.
Эти изъявления преданности привели к взаимным упрекам. Не обращая внимания на присутствие Муссолини, позабыв о предателях, нацистские лидеры бросали друг другу обвинения, одно тяжелее другого. Адмирал Дённиц упрекнул Геринга в неудачах флота. Геринг атаковал Риббентропа, обвиняя последнего в некомпетентности в ведении дипломатической политики. Причем ответы Риббентропа настолько разозлили шефа люфтваффе, что он обозвал имперского дипломата виноторговцем и даже замахнулся на него своим жезлом. Когда детская перепалка достигла высшей точки, а в окна застучали тяжелые капли дождя, Гитлер неожиданно встал со своего места и дал волю своему гневу, нимало не смущаясь присутствием гостей. Могучая волна неистовства фюрера моментально заставила всех присутствующих позабыть о своих мелких дрязгах. Гитлер безумствовал, призывая все мыслимые кары на головы мужчин и женщин, осмелившихся встать на пути выполнения его священной миссии.
— Я уничтожу, — завывал он, — всех преступников, которые осмелились противопоставить себя Провидению и мне. Эти предатели собственного народа заслуживают страшной смерти, и они ее получат. Все участники заговора сполна заплатят за свое предательство, а также их семьи и родственники. Гнездо гадюк, пожелавших воспрепятствовать величию моей Германии, будет уничтожено раз и навсегда.
Во время этой обличительной тирады его глаза полыхали яростным пламенем, словно уже видели смертные муки жертв. Это была последняя встреча Муссолини и фюрера, и дуче отбыл восвояси растерянный и подавленный увиденным.
В пять часов Ольбрихт пошел к Фромму второй раз. На этот раз его сопровождал Штауффенберг — начальник штаба Фромма. Ольбрихт с ликованием сообщил командующему армией резерва, который еще не знал, что уже таковым не является, что Штауффенберг был личным свидетелем взрыва и совершенно точно знал, что Гитлер мертв.
— Это невозможно, — сказал Фромм. — Кейтель сказал, что в ставке все в порядке.
— Фельдмаршал Кейтель, как обычно, лжет, — невозмутимо сообщил Штауффенберг. — Я сам видел, как Гитлера вынесли мертвым.
— Поэтому, учитывая сложившуюся ситуацию, мы передали командирам подразделений кодовый сигнал, предусмотренный на случай внутренних беспорядков, — добавил Ольбрихт.
Услышав это, Фромм вскочил, стукнул кулаком по столу и заорал:
— Это самоуправство! Вы нарушаете субординацию! И кто это «мы»? Кто конкретно отдал приказ?
— Мой начальник штаба полковник Мерц фон Квирнгейм.
— Немедленно пришлите его сюда!
Прибывший Квирнгейм не отрицал, что передал кодовые слова, и Фромм поместил его под арест. Этого Штауффенберг уже не мог вынести. Он решил, что единственный способ повлиять на Фромма — это сказать ему правду. И он решительно поднялся со своего места.
— Генерал Фромм, — заявил он, — я лично привел в действие бомбу во время совещания в ставке Гитлера. Взрыв был такой силы, как будто в помещение попал стопятидесятимиллиметровый снаряд. Никто из находившихся в комнате не мог уцелеть.
Фромм обернулся к Штауффенбергу и проговорил:
— Граф, покушение сорвалось. Вы должны немедленно застрелиться.
— Я не собираюсь делать ничего подобного, — ответствовал Штауффенберг.
— Генерал Фромм, — вмешался Ольбрихт, — надо действовать. Если мы не нанесем удар сейчас, наша страна будет уничтожена навеки.
Фромм внимательно посмотрел на говорившего:
— Ольбрихт, значит ли это, что вы тоже участвуете в перевороте?
— Да, господин генерал, но я не вхожу в ту группу, которая возьмет на себя управление Германией.
— Тогда я официально объявляю, что с этого момента вы трое находитесь под арестом.
— Вы не можете арестовать нас! — воскликнул Ольбрихт. — Очевидно, вы так и не поняли, что происходит и кто находится у власти. Это мы можем вас арестовать.
Окончательно рассвирепев, Фромм выскочил из– за стола и бросился на Ольбрихта с кулаками. Присутствовавшие при этом Клейст и Хефтен синхронно выхватили револьверы и одновременно приставили их к толстому животу Фромма. Тот отступил.
— У вас есть пять минут, чтобы принять решение, — изрек Ольбрихт, и Фромм уступил. Он сник и без возражений под конвоем проследовал в комнату своего адъютанта, где телефонные линии были перерезаны.
Перед отъездом из Растенбурга Гиммлер попросил у Гитлера подписанный приказ о назначении его командующим армией резерва. Никто не потрудился сообщить об этом на Бендлерштрассе. Арестовав Фромма, заговорщики поспешили назначить своего командующего. И Гепнер, удалившийся в туалет Ольбрихта, чтобы переодеться в военную форму, вышел оттуда полноправным преемником Фромма{37}. Со свойственной ему пунктуальностью он дождался приезда из Цоссена Вицлебена, чтобы это назначение было закреплено в письменной форме и подписано теневым верховным военным командующим.
Однако его первой заботой стало состояние Фромма. От призрака весьма авторитетного командующего не так легко было избавиться. Гепнер сразу направился наверх в помещение, где содержали генерала, предложил ему помощь, извинился за неудобства, которые ему приходится переносить, и заверил, что никто не причинит ему вреда. Он объяснил Фромму, что происходит, и перечислил людей, которые руководят событиями, включая себя.
Эта старомодная куртуазность чрезвычайной ситуации оказалась гибельной. Войска, поддерживающие переворот, едва успели начать движение. На Бендлерштрассе находилась лишь дежурная охрана, никем не усиленная. Когда же Бек, как глава государства, спросил у Ольбрихта, на какую защиту они могут рассчитывать в такой деликатный момент, ответ его полностью обескуражил.
— Кому подчиняются охранники? — поинтересовался Бек в присутствии Гизевиуса. — Что они будут делать, если появится гестапо? Станут ли они вас защищать?
Ольбрихт, с головой погрузившийся в решение текущих вопросов, ответил, что, по его мнению, должны, но точно он не знает. Этот ответ весьма обеспокоил Бека. Его тревога усилилась еще более, когда Вицлебен — теневой командующий объединенными силами, несмотря на вызов, не появился на Бендлерштрассе. Гепнер, побеседовавший с Фроммом, доложил, что бывший командующий армией резерва хочет уйти домой и готов дать слово чести, что не будет предпринимать никаких действий против заговорщиков. Бек был готов его отпустить. Но Гизевиус заявил, что ему не нравится такая мягкость к врагам, отказавшимся присоединиться к перевороту. Его надо не отпускать домой, а расстрелять. Да и что значит слово чести? Он напомнил Штауффенбергу, что тот в свое время тоже давал Фромму слово чести не причинять вред Гитлеру. Штауффенберг пришел в ярость, но тут вмешался Бек и приказал, чтобы Фромм оставался там, где он находится.
Гизевиус рвался действовать более решительно. Как быть с Геббельсом, который все еще на свободе и находится в Берлине? Что делать с радиостанциями, до сих пор открытыми для нацистов? Что делать с гестапо, от действий которого заговорщики вовсе не гарантированы? Раздосадованный этими вопросами со стороны гражданского лица, Бек попросил, чтобы Гизевиус оставил его в покое и дал поговорить со Штауффенбергом без свидетелей. В это время последовал неожиданный звонок от Кейтеля Ольбрихту, но разговор не состоялся, поскольку заговорщики слишком долго решали, кто должен подойти к телефону. Кейтель дал отбой раньше, чем они пришли к какому бы то ни было решению. Возможно, если бы Ольбрихт переговорил с Кейтелем, он бы узнал, что уже является одним из сотрудников Генриха Гиммлера.
Часы показывали половину шестого. Телефоны звонили непрерывно. Бек недовольно ворчал, поскольку от Вицлебена все еще не было новостей. В это время в кабинет, где Бек разговаривал с Гизевиусом, вошел полковник СС Пифредер в сопровождении двух детективов. Охрана на входе их не остановила. Полковник был типичным эсэсовским громилой, но вел себя вполне корректно. По словам Гизевиуса, он щелкнул каблуками — причем щелчок получился громким, словно пистолетный выстрел, — и выбросил вперед руку в нацистском приветствии. Он потребовал встречи с полковником Штауффенбергом, сославшись на приказ руководителя службы имперской безопасности{38}.
Гизевиус знал, что этот человек — один из главных гестаповских следователей, и ощутил острую тревогу. Его появление на Бендлерштрассе означало, что гестапо в курсе дела и начало действовать, хотя признаков масштабного гестаповского рейда пока не было.
Появившийся Штауффенберг сказал Гизевиусу, что он должен был задержать Пифредера и его людей: они пытались допросить его о событиях в Растенбурге.
Гизевиус пришел в ужас.
— Почему вы сразу же не застрелили этого убийцу? — вскричал он.
— Всему свое время, — ответствовал Штауффен– берг.
— Но, Штауффенберг, этот человек не может оставаться здесь и наблюдать за всем происходящим. А если он сбежит?
Гизевиус видел, что Штауффенберг забеспокоился, и потребовал, чтобы полковник больше не ждал прибытия солдат в город, а сформировал отряд офицеров из числа находящихся на Бендлерштрассе офицеров, чтобы убить Геббельса и шефа гестапо Мюллера. Штауффенберг согласился с тем, что эту идею стоит рассмотреть, хотя его планы переворота были связаны с немедленным входом в Берлин войск для занятия правительственных учреждений и гестапо.
Между тем возникли непредвиденные трудности с начальником берлинского гарнизона генералом фон Корцфлейшем. Он прибыл на Бендлерштрассе, чтобы лично выяснить, что происходит. Он слышал об убийстве Гитлера и о получении приказа двигаться на Берлин. Он был заинтригован, поскольку приказ был направлен не через него, а напрямую в подчиненные ему войска. Фон Корцфлейш потребовал встречи с Фроммом, когда же его привели к Гепнеру, которого представили как преемника Фромма, он отказался с ним говорить. Пришлось вмешаться Ольбрихту, а потом для прояснения обстановки был вызван и Бек{39}. Фон Корцфлейш категорически отказался от сотрудничества с заговорщиками и открыто заявил о своей преданности Гитлеру. Даже неизменно спокойный Бек пришел в ярость, но и это не помогло. Оставалось только задержать фон Корцфлейша на Бендлерштрассе. Вместо него был поспешно назначен генерал фон Тюнген.
Теперь под арестом на Бендлерштрассе содержались уже три старших офицера: командующий армией резерва Фромм, ее начальник гарнизона Корцфлейш и гестаповец Пифредер. Когда же Корцфлейш попытался бежать, никому и в голову не пришло стрелять в него. Но после этого на Бендлерштрассе все же появилась усиленная охрана.
Незадолго до шести часов Гелльдорф, до сих пор не получивший ни точной информации, ни приказа действовать, потерял терпение и послал на Бендлерштрассе своего адъютанта, чтобы тот поговорил с Гизевиусом. Последний решил лично наведаться к Гелльдорфу. У него как раз был Нёбе. Оба офицера со спокойствием ко всему готовых фаталистов пили кофе и ждали инструкций, которые так и не поступили, или хотя бы какой-нибудь информации от армии, в распоряжение которой Гелльдорф был готов предоставить своих людей. Насколько было известно Нёбе, гестапо до сих пор не поняло, что в стране происходит государственный переворот. Вот это конспирация! Но вечер, по крайней мере, принес с собой прохладу, и за то спасибо.
Войска, на немедленную поддержку которых в Берлине рассчитывали заговорщики, состояли из батальона охраны под командованием майора Отто Эрнста Ремера со штабом в Деберице, а также учебных подразделений ряда военных учебных заведений Деберица, Крампница, Ютерборга и Вюнсдорфа (в Крампнице и Вюнсдорфе располагались танковые училища с учебными батальонами). Батальон Ремера, который был укреплен до силы полка, являлся главной надеждой заговорщиков. Хотя сам Ремер в заговоре не участвовал, в нем был замешан его непосредственный начальник — военный комендант Берлина генерал фон Хазе. Ремер, назначенный на эту должность недавно, был храбрым солдатом, о чем свидетельствовало его награждение Рыцарским крестом с дубовыми листьями. Хазе считал его человеком далеким от политики, который будет подчиняться приказам, не задавая при этом вопросов. Когда поступил сигнал о начале выполнения плана «Валькирия», Хазе вызвал Ремера к себе в штаб на Унтер-ден-Линден и рассказал об убийстве Гитлера. После этого он приказал ему оцепить министерские здания на Вильгельмштрассе и Управление имперской безопасности.
Приказы, подготовленные на Бендлерштрассе для передачи разным командирам лично или по телефону, были довольно подробны. В них перечислялись улицы, министерские и прочие здания, казармы СС и важные центры связи, которые следовало оцепить и занять. Отдельные подразделения должны были занять вещательные станции. В письменных приказах делался упор на «энергичное лидерство» и «внезапность». Указывалось, что необходимо арестовать Геббельса и взять под охрану министерство пропаганды.
В дополнение к распространению приказов военным подразделениям, расположенным в пределах или в окрестностях Берлина, в четыре часа сорок пять минут было объявлено военное положение, а генералам в провинциях была разослана новая структура командования за подписью Вицлебена. За объявлением в шесть часов и шесть пятнадцать последовали уточняющие приказы, изданные за подписью Штауффенберга. Они дублировали те, что действовали в Берлине и предусматривали занятие государственных учреждений и центров связи, освобождение концентрационных лагерей, вхождение сил СС в армию, арест местных нацистских лидеров. Новости о получении этих приказов открыли глаза военачальникам в Растенбурге, а также руководству СС и гестапо в Берлине. Только так они осознали, что в стране действительно происходит военный путч. Из Растенбурга сплошным потоком потекли команды по телефонам.
В Берлине — центре радиосвязи — приказы о занятии узлов вещания вовсе не считались первоочередными. Заговорщики рассматривали их как часть общей стратегии, а не как действие первой необходимости, выполняемое специально для этой цели организованными отрядами. Когда требовались четкие и решительные меры, наблюдалась только путаница и неразбериха и никаких объяснений того факта, что заговорщики не только не захватили существующие радиостанции, но и не установили собственный радиопередатчик на Бендлерштрассе{40}.
Путч на улицах Берлина протекал с разной интенсивностью. Очевидной помехой был недостаток связи между руководителями у телефонов на Бендлерштрассе и офицерами на улицах. Людей приходилось перевозить на грузовиках к их постам на улицах, и эти перемещения отнимали много времени. Самыми эффективными стали операции, которыми командовал майор Ремер. По его личному свидетельству, возглавляемые им отряды заняли позиции в шесть тридцать. Предполагалось, что войска в Берлине поддержат танки, направленные полковником Вольфгангом Глеземером, руководителем танковой школы в Крампнице, но Глеземер прибыл на Бендлерштрассе и категорически отказался участвовать в военном путче. Он был временно задержан Ольбрихтом, но успел послать записку своему адъютанту с приказом не давать танки повстанцам. Позже он солгал Ольбрихту, что изменил свою точку зрения и готов возглавить танковые отряды от имени заговорщиков, на этом основании обрел свободу и вывел из города танки, которые из-за путаницы в приказах туда все-таки пришли.
Неуверенность и неопределенность действий чувствовалась во всем рейхе. Аресты, предусмотренные приказами, были проведены в Мюнхене и частично в Вене{41}. Но в большинстве случаев армейские командиры, независимо от того, что они обещали по телефону Штауффенбергу или Беку, вовсе не стремились обострять отношения с войсками СС и местными нацистскими гаулейтерами. Приказы Вицлебена подоспели примерно в то же время, что и объявление по радио о неудаче покушения. Поэтому, какими бы ни были взаимоотношения между армией и местными партийными чиновниками, последовал период затишья. В Гамбурге, где гаулейтер Карл Кауфман и командир армейского подразделения были близкими друзьями, они весь вечер просидели вместе и шутили на тему, кто кого должен арестовать — поступающие друг за другом приказы были слишком противоречивыми.
Шлабрендорф, находившийся вместе с Тресковом в России в штабе группы армий «Центр», терпеливо ждал. По телефону с Бендлерштрассе ему сообщили, что покушение было успешным и Гитлер мертв. Сразу за этим последовало объявление по радио, в котором утверждалось, что Гитлер жив. Оба офицера получили приказ немедленно вылететь в Берлин, но, предчувствуя недоброе, они решили некоторое время выждать.
Во Франции переворот хотя и проходил неспешно — а куда торопиться, ведь солнце так приятно пригревает и до ласкового моря рукой подать, — но все же порядка в нем было намного больше. Пока Финк ехал обратно на улицу де Сюрен, а Блюментрит — в Ла Рош– Гийон, Штюльпнагель услышал о телефонном звонке из Берлина. Новости передавались офицерами из уст в уста, всякий раз обрастая все большим количеством подробностей, увы, по большей части вымышленных. «Гитлер мертв. Гиммлер и Геринг, похоже, тоже. Взрыв был ужасной силы!» Один из офицеров, спешивший по улице, чтобы сообщить новость товарищу, расхохотался, когда попавшийся ему навстречу француз, увидев немецкого офицера, вскинул руку в нацистском приветствии и прокричал: «Хайль Гитлер!»
Для Штюльпнагеля полученные новости стали началом тяжелой кропотливой работы. Хофакер и другие офицеры окружили своего командира. Все от полноты чувств крепко пожимали друг другу руки. Хофакера распирало от гордости — теперь ему предстояла новая, более ответственная работа. Ведь, несмотря на свои молодые годы, он был теневым послом во Франции, будущим переговорщиком с престарелым маршалом Петэном.
Штюльпнагель первым делом удостоверился, что все его подчиненные знают свои обязанности по плану «Валькирия». Он сказал, что СД и старшие офицеры СС в Париже должны быть арестованы и при оказании ими сопротивления можно стрелять. Потом на свет была извлечена карта, где были отмечены дома и комнаты, занятые руководством СС и СД. Это была неоценимая помощь при аресте опасных противников. Каблуки щелкнули, и молодые офицеры Штюльпнагеля с энтузиазмом устремились выполнять поставленные перед ними задачи. Его преданная секретарша графиня Подевильс, отпросившаяся в этот день к зубному врачу, вернувшись вечером на работу, была очень удивлена царившим повсюду оживлением. Из соображений ее безопасности Штюльпнагель не посвящал ее в дела, связанные с заговором. Посовещавшись с комендантом Парижа генералом Гансом фон Бойнебургом, Штюльпнагель сидел один в своем кабинете, когда раздался телефонный звонок. Это был звонок от генерала Фромма из Берлина.
Но только на линии был не Фромм. Его имя использовалось, чтобы избежать ненужных подозрений. У телефона был Бек.
— Штюльпнагель?
— Да.
— Вы знаете о последних событиях?
— Конечно.
— Хорошо. Вы с нами?
Штюльпнагель не колебался с ответом.
— Господин генерал, — сказал он, — я этого очень долго ждал.
— Мы сделали, что собирались, — сказал Бек, — но точной информации пока нет. Вы с нами, что бы ни случилось?
— Конечно, — ответил Штюльпнагель. — Я уже отдал приказ об аресте СД. Очень скоро лидеры СС тоже будут под замком. Наши войска, как и их командиры, абсолютно надежны.
Штюльпнагель не услышал, а скорее почувствовал, как Бек, остававшийся в самом сердце гитлеровской Германии, облегченно вздохнул. На прощание Бек подчеркнул, что точных новостей о событиях в Растенбурге пока нет и есть некоторые сомнения в том, что фюрер действительно погиб.
— Мы все очень рискуем, — вздохнул Бек. — Теперь для нас обратной дороги нет, придется идти до конца.
— Вы можете мне доверять, — просто ответил Штюльпнагель.
— Мы можем рассчитывать на Клюге?
— Полагаю, вам лучше переговорить с ним лично, господин генерал, сейчас я соединю вас с его штабом.
Воодушевленный безусловной поддержкой Штюльпнагеля, Бек сразу согласился, и звонок был переведен в штаб Клюге в Ла Рош-Гийон.
Клюге только что вернулся в штаб с фронта, где провел совещание с командирами 5-й танковой армии, занятой в операциях в секторах Кан и Сент-Ло. Он очень устал и после долгой поездки в открытом автомобиле весь покрылся пылью. Он быстро умылся, переоделся и позвонил домой начальнику штаба группировки генералу Гансу Шпейделю.
Шпейдель передал фельдмаршалу отчет об оперативной обстановке касательно наступления союзников в Нормандии, после чего добавил, как о деле, имеющем второстепенное значение, что звонил Блюментрит с сообщением о якобы имевшем место покушении на жизнь фюрера и о существующей вероятности того, что фюрер мертв. Шпейдель сказал, что лучше бы Блюментрит приехал в Ла Рош-Гийон и сообщил все имевшиеся у него сведения лично. Радио постоянно включено, но пока ничего подобного не передавали. Шпейдель не сумел оценить реакцию Клюге. Фельдмаршал просто поблагодарил его за сообщение и повесил трубку. Телефон сразу снова зазвонил. Примет ли фельдмаршал звонок от генерала Фромма из Берлина?{42}
Геббельс, единственный из главных нацистских лидеров, пребывавший в столице 20 июля, в два часа пополудни, как обычно, обедал в своей официальной резиденции на Герман-Герингштрассе. Его помощник Рудольф Земмлер, сменившийся с дежурства, беспрепятственно добрался до своего дома в пригороде. У Геббельса было не больше информации, чем у заговорщиков на Бендлерштрассе или в гестапо. Он только знал, что было произведено покушение на жизнь фюрера, но Божественное провидение спасло его. К своему немалому удивлению, он обнаружил, что не может связаться с Растенбургом. Делать было нечего, оставалось лишь ждать.
Только в половине шестого Геббельс получил инструкции по телефону, причем напрямую от Гитлера. Муссолини еще находился в Растенбурге, поэтому фюрер был краток. В Растенбурге подозревали, что в Берлине проходит военный путч. Следовало безотлагательно сделать объявление по радио, чтобы развеять циркулирующие слухи о смерти фюрера и отменить чрезвычайные приказы, как стало известно, распространяемые в Германии. Телефонные звонки из различных военных подразделений, встревоженных появлением приказов «Валькирии», поступали ежечасно. Народ требовал информации. Следовало принять срочные меры, и Геббельсу было поручено немедленно подготовить радиопередачу, в которой объявить о том, что Гитлер жив и здравствует.
Министр пропаганды совсем было собрался приступить к написанию сценария, когда в его резиденцию прибыл хорошо знакомый ему писатель и лектор капитан Ганс Хаген, состоявший в должности советника, и принялся настаивать на безотлагательной встрече. Он начал нести нечто невразумительное относительно путча, организованного фельдмаршалом фон Браухичем, бывшим главнокомандующим, которого Гитлер отправил в отставку еще в 1938 году. Геббельс, среди автократических привычек которого первое место занимали нетерпимость и вспыльчивость, не имел времени общаться с Хагеном, хотя тот, безусловно, был лояльным нацистом. Оказывается, в тот день Хаген читал свою очередную лекцию в Деберице и находился с Ремером, когда тот получил приказ привести своих людей в боевую готовность и прибыть на Унтер-ден-Линден для дальнейшего инструктажа. Хаген проявил несвойственную ему настойчивость, и Геббельсу пришлось его принять.
Его рассказ стал первой, несколько искаженной версией правды, услышанной нацистами, что вполне вписывается в череду событий того дня, но Геббельс ему не поверил.
Когда сигнал «Валькирии» о приведении войск в боевую готовность поступил второй раз в течение одной недели, Ремер и Хаген вначале отнеслись к нему как к очередному приказу сверху, хотя иностранные рабочие, которых он должен был касаться, вели себя, как всегда, покорно. Но Хаген был готов поклясться, что утром того же дня видел давно оставившего действительную службу фельдмаршала фон Браухича, который был одет в полную военную форму и ехал в военное министерство. Ремер объяснил, что у него сразу появилось некое неприятное чувство — ein ungutes Gefuhl, — которое вкупе с информацией о покушении на жизнь Гитлера, полученной от фон Хазе, и приказом оцепить министерские здания убедило его в том, что имеет место переворот, коим руководит Браухич. Учитывая личное знакомство Хагена с Геббельсом, Ремер согласился, чтобы лектор взял мотоцикл и съездил в министерство пропаганды, чтобы узнать правду.
По его собственным словам, Хаген ворвался в министерство, вбежал в кабинет одного из знакомых чиновников и «выбросил оттуда даму, которая что-то записывала под диктовку». Потом он заверил удивленного служащего, что не является ни пьяным, ни безумным, и потребовал допуска к Геббельсу.
Геббельс внимательно слушал взволнованное повествование до тех пор, пока оно не подошло к смерти фюрера. Тут Геббельс вмешался и сообщил, что Гитлер жив и вполне здоров.
— Я пару минут назад разговаривал с ним лично, — сообщил министр. — Это правда, покушение на его жизнь действительно имело место, но фюрер чудом спасся. Поэтому приказов, на которые вы ссылаетесь, быть не должно, они не имеют смысла.
— Господин министр, — сказал Хаген, глядя из окна на улицу, — взгляните, на грузовиках проезжает рота из нашего батальона. Предлагаю немедленно послать за нашим командиром.
Геббельс сам убедился, что происходит нечто странное. Слушая Хагена, он делал для себя быстрые пометки. Теперь он отодвинул бумагу в сторону и приказал срочно соединить его с «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» — полком эсэсовских телохранителей фюрера, расквартированным в Лихтерфельде — в пяти милях от центра Берлина. Он привел полк в боевую готовность, но одновременно объяснил Хагену, что хотел бы любой ценой избежать открытого столкновения между армией и СС.
— А теперь идите и передайте своему командиру, чтобы немедленно явился ко мне, — сказал Геббельс.
Он проводил Хагена до двери и, когда тот уже перешагнул порог, схватил его за рукав:
— Скажите, Ремер — человек надежный?
— Я могу поручиться за него своей жизнью, господин министр.
— Прекрасно, тогда идите и скажите, что, если он не будет у меня в течение двадцати минут, я, как гаулейтер Берлина, подниму «Лейбштандарт», исходя из предположения, что его удерживают в качестве пленного на Бендлерштрассе.
Через некоторое время в кабинет постучался его помощник, принесший удивительные новости: прибыл некий лейтенант в сопровождении трех солдат с намерением арестовать его по приказу коменданта Берлина. Геббельс достал из ящика стола револьвер и приготовился к встрече. Вошел молодой лейтенант. Юноша явно трепетал от страха перед столь знаменитой всесильной личностью, как доктор Геббельс. Министр, не дав ему опомниться, обрушил на несчастного гневную речь, обвинив в связи с предателями родины. Он кричал, что фюрер жив и порядок очень скоро будет восстановлен. В конце концов он просто вытолкал ошалевшего лейтенанта из кабинета, наказав, чтобы он сообщил своим офицерам, что фюрер жив и здоров. Лейтенант поспешно удалился. Все это время дверь в кабинет оставалась открытой, так что сцену могли наблюдать посторонние свидетели.
А тем временем Хаген сел в коляску доставившего его в министерство мотоцикла и приказал водителю срочно разыскать Ремера. Они начали объезжать посты, на которых выясняли, что командир был, но уже ушел. На каждом посту Хаген оставлял сообщение о предательстве. Он очень спешил, памятуя о лимите времени, установленном Геббельсом. В конце концов он обнаружил Ремера на Унтер-ден-Линден и передал ему приказ Геббельса. Ремер уже и сам заподозрил неладное. Впоследствии он утверждал, что, когда уходил с совещания у генерала фон Хазе, он слышал, как генерал вполголоса отдавал приказ об аресте Геббельса, причем не военнослужащим охранного батальона, а патрульной службе. «Из этого я сделал вывод, — писал он, — что мне не доверяют». Он принял меры к обеспечению своей безопасности. Взяв с собой адъютанта, который мог бы стать свидетелем, он подошел к Хазе и спросил, можно ли видеть Геббельса. Хазе запретил{43}.
Если верить Ремеру, он, проигнорировав запрет непосредственного командира, отправился к Геббельсу на свой страх и риск. Сделав это, он отдал себя в руки безжалостному профессионалу, человеку, обладавшему умом, силой и энергией, чтобы добиться своей цели любой ценой. Военные на Бендлерштрассе, несмотря на свою профессиональную подготовку, знания стратегии и тактики, были любителями, их джентльменское поведение и недостаток жесткости привели к поражению.
Ожидая Ремера, Геббельс вернулся к тексту не написанного им радиосообщения. Снова позвонил Гитлер и высказал возмущение тем, что по радио так ничего и не прозвучало. Геббельс быстро подготовил короткое сообщение, продиктовал его по телефону на радиостанцию, и в шесть сорок пять оно было передано в эфир на длине волны, принимаемой всей Европой.
«Сегодня, — было сказано в нем, — было совершено покушение на жизнь фюрера с применением взрывчатых веществ». После этого был зачитан список убитых и раненых. «Фюрер серьезно не пострадал, получив лишь легкие ожоги и царапины. Он немедленно возобновил работу и, как и было запланировано, принял дуче, с которым провел длительную беседу. Вскоре после покушения к фюреру присоединился рейхсмаршал». Закончив дело, Геббельс стал с нетерпением ждать майора Ремера.
Клюге ничего не заподозрил, принимая личный звонок от генерала Фромма. Возможно, подумал он, последует разъяснение таинственных сообщений Блюментрита. Но когда он поднес трубку к уху, то понял, что голос говорившего принадлежит вовсе не Фромму. Собеседник не представился, но он узнал в нем Бека, который рассказал о принятых в Берлине и Германии мерах. Клюге выслушал это, никак не выразив своего отношения. Затем Бек перешел к делу.
— Клюге, вы должны немедленно и совершенно открыто перейти на нашу сторону.
Но пока Бек говорил, в кабинет Клюге вошел его адъютант и положил на стол запись радиосообщения, переданного в шесть сорок пять. Клюге пробежал глазами текст, задержавшись на фразе «Фюрер серьезно не пострадал, получив лишь легкие ожоги и царапины. Он немедленно возобновил работу и…»
Не упоминая о том, что он видел текст радиосообщения, Клюге перебил Бека.
— Какова реальная ситуация в ставке фюрера? — настойчиво проговорил он.
И снова честность Бека не позволила ему солгать. Он признал, что существуют некоторые сомнения относительно происшедшего в Растенбурге.
— Да какая разница, — в конце концов возмутился он, — если мы уже начали действовать?
— Да, но…
— Клюге, я спрашиваю у вас лишь то, что действительно имеет значение. Одобряете ли вы то, что мы здесь начали, и готовы ли вы подчиняться моим приказам?
Клюге колебался. Текст переданного по радио сообщения лежал перед его глазами.
А Бек продолжал настаивать:
— Клюге, вы не должны сомневаться. Вспомните, о чем мы не так давно говорили и к каким решениям пришли. Я спрашиваю вас еще раз, будете ли вы подчиняться моим приказам?
Но Клюге одолевали дурные предчувствия. Поразмыслив, он ответил:
— Я должен посоветоваться со своими офицерами. Перезвоню через полчаса.
Но Клюге не оставили в покое. До приезда Блюментрита и Штюльпнагеля, которых он попросил пригласить на предстоящее совещание, раздался еще один телефонный звонок. На проводе был друг Клюге генерал фон Фалькенхаузен, недавно смещенный в Бельгии, с которым Бек тоже имел разговор. Фалькенхаузен поинтересовался, верит ли Клюге в смерть Гитлера и может ли сообщить, что произошло в действительности. Фельдмаршал снова пообещал, что позвонит, как только будет располагать достоверной информацией. Господи, ну почему его никак не хотят оставить в покое!
Сразу же после сообщения Геббельса по радио Штауффенберг отправил послания всем командирам армии резерва, опровергающие информацию министра пропаганды.
«Переданное по радио сообщение — ложь. Фюрер мертв. Полученные вами приказы должны быть выполнены как можно быстрее»
Гизевиус ушел от Гелльдорфа и вернулся на Бендлерштрассе. Было уже около семи часов, и он срочно потребовался Ольбрихту и Беку. Ольбрихт расстроился, услышав официальное сообщение по радио. Только теперь он поверил, что Гитлер жив и здравствует, и это потрясло впечатлительного генерала. Он хотел поговорить с Гизевиусом и решить, что делать дальше.
— Конечно, мы уже не можем все прекратить, — сокрушался он. — Ведь мы уже не сможем утверждать, что ничего не было, правда?
— Конечно нет, — ответил Гизевиус и отправился к Беку, расположившемуся в кабинете Фромма. Бек пожелал, чтобы Гизевиус подготовил текст радиопередачи — ответ на официальное сообщение и сам его зачитал вместо заранее подготовленного текста, который теперь не соответствовал действительности. Хотя, согласно более позднему свидетельству Гепнера, Бек заявил, что должен выйти в эфир раньше Гизевиуса, впоследствии он решил, что первоначальное заявление будет лучше принято, если будет исходить от гражданского лица. В любом случае генерал Линдеман, который должен был вещать от имени заговорщиков, исчез вместе с текстом заявления. Герделер, который в его отсутствие на Бендлерштрассе буквально разрывался, не мог выступать, да и Бек передумал. Гизевиус, которому весьма польстило назначение официальным оратором даже в такой непредсказуемый момент, начал готовить речь. Она, по его мнению, должна была прозвучать как призыв к объединению.
Гизевиус тщетно пытался думать — мешал царящий повсюду шум. Телефоны звонили беспрерывно. Всем абонентам срочно требовались Фромм и Штауффенберг. Полковник метался от телефона к телефону, неустанно повторяя: «Кейтель лжет. Гитлер мертв. Вы должны сохранять решительность». На звонки генералов из разных провинций Штауффенберг отвечал, как начальник штаба Фромма, всеми силами пытаясь сдержать быстро уменьшающуюся волну бунта.
— Хороший генерал должен уметь ждать, — философски заметил Бек, в то время как в поведении Гепнера появились первые признаки отчаяния.
Вагнер, все еще остававшийся в Цоссене, отказался говорить с Беком по телефону. Было известно, что Вицлебен находится в пути на Бендлерштрассе. Единственный обнадеживающий звонок поступил от Штюльпнагеля из Парижа. Но оптимизм быстро увял из-за холодного ответа Клюге.
— Клюге! — раздосадованно воскликнул Бек, положив трубку на рычаг. — Как это на него похоже!
Вицлебен прибыл около семи тридцати. Его физиономия была красной от ярости. В руке он держал маршальский жезл. Все присутствующие встали и щелкнули каблуками. Даже Штауффенберг отдал честь вошедшему.
— Что здесь творится? — заорал Вицлебен, но тут заметил Бека. К чести теневого главнокомандующего объединенными силами, он все же выказал некоторое уважение к генералу — теневому регенту Германии. — Разрешите доложить о прибытии, господин генерал, — сказал он и сразу отвел Бека и Штауффенберга в сторону для беседы, которая очень быстро переросла во взаимный обмен упреками. В соседней комнате переругивались Ольбрихт и Гепнер.
— В любом перевороте не обойтись без риска.
— Начинать путч стоит, только если существует по крайней мере девяностопроцентная вероятность удачного исхода.
— Ерунда! Пятидесяти одного процента вполне достаточно…{44}
По словам секретаря Делии Циглер, Ольбрихт и его начальник штаба Мерц фон Квирнгейм назначили совещание офицеров на восемь часов вечера. Это вновь подхлестнуло гнев Гербера и фон дер Гейде, которые вместе со своими приспешниками вышли из комнаты в таком состоянии, что секретарь была вынуждена призвать их к порядку.
— Пожалуйста, господа, сохраняйте спокойствие. Что бы ни делал генерал Ольбрихт, он прав, и вы это знаете.
Позвонил Гелльдорф и потребовал сообщить ему новости. Гизевиус, о выходе которого в эфир все как– то позабыли — не до этого было, вызвался поехать к нему. Для свободного перемещения по Берлину ему выдали пропуск, написанный на толстой коричневой бумаге с подписью Штауффенберга. Он вышел из здания, чтобы отыскать машину для поездки через выставленные кордоны в полицейское управление Гелльдорфа на Александерплац.
— Солдаты батальона охраны уже здесь! — в восторге завопил Ольбрихт. — Обязательно скажите об этом Гелльдорфу!
Но по дороге на Александерплац Гизевиус с тревогой увидел, как рота охранников покинула свои позиции.
Майор Ремер прибыл к Геббельсу около семи часов. Он полностью исчерпал установленный для него лимит времени. По его собственным словам{45}, он приехал один, министр тотчас принял его и спросил, является ли майор убежденным национал-социалистом. Ремер ответил, что является убежденным сторонником фюрера, никогда ему не изменял и только хотел бы знать, жив Гитлер или мертв. Геббельс ответил, что Гитлер жив и не пострадал, и даже несколько минут назад лично звонил из Растенбурга. Его предала клика амбициозных генералов. Ремер, ощутив свою причастность к истории, поклялся хранить верность фюреру. И Геббельс понял, что победил. «Он пожал мне руку и долго смотрел в глаза», — вспоминал Ремер. Так было принято у нацистов в периоды наивысшего накала страстей с момента их прихода к власти.
Затем Геббельс начал действовать, проявив себя неплохим психологом. Прежде всего, он сделал срочный звонок Гитлеру, когда же фюрер подошел к телефону, передал трубку майору Ремеру. Майор уже встречался с Гитлером лично — фюрер вручал ему награду. В любом случае отрывистый, резкий голос Гитлера невозможно было спутать с другим. И все же собеседник поинтересовался у Ремера, узнает ли он голос. После этого он сообщил, что не пострадал при взрыве и что в Берлине разворачивается преступный заговор. Гитлер сказал, что до прибытия в Берлин рейхсфюрера СС Гиммлера, который теперь стал командующим армией резерва, Ремер будет подчиняться непосредственно ему. А пока безопасность Берлина находится в надежных руках Ремера, которого фюрер производит в полковники.
С этого момента Ремер поддерживал тесную связь с Геббельсом, к которому присоединился Шпеер — молодой, но подающий большие надежды министр вооружений и боеприпасов Гитлера. Новоявленный полковник поспешил навести порядок в своем рассредоточенном войске. Он приказал людям оставить свои позиции и собраться в саду резиденции Геббельса. Было уже около восьми часов вечера. Автомобиль, увозящий Гизевиуса к Гелльдорфу, проехал мимо одного из взводов Ремера, который как раз снимался с места.
Блюментрит приехал в Ла Рош-Гийон, чтобы обсудить с Клюге создавшуюся ситуацию. Примерно в это же время, то есть около семи часов вечера, Штюльпнагель и офицеры его штаба выехали на двух машинах из Парижа в штаб фельдмаршала. Закончив разговор с Беком и Фалькенхаузеном, Клюге принял Блюментрита и передал ему текст радиообращения Геббельса.
Клюге сохранял сдержанность в высказываниях до тех пор, пока копия детального приказа по соединению, в шесть часов вечера отправленного Вицлебеном с Бендлерштрассе в главный штаб Клюге в Сен– Жермен-ан-Ле, не оказалась у него на столе в Ла Рош-Гийон. Клюге прочитал его с искренним удивлением. «Банда безответственных партийных лидеров, людей, никогда не бывших на фронте, попыталась использовать создавшуюся ситуацию, чтобы нанести испытывающей немалые трудности армии удар в спину и захватить власть в свои руки. В этот час смертельной опасности правительство рейха, в целях поддержания законности и порядка, объявило чрезвычайное положение…»
Читая дальше, Клюге обнаружил, что ему предлагается взять на себя командование всеми силами СС, прочими должностными лицами Германии и полицией на западе и принять меры к оказанию сопротивления.
Значит, Гитлер должен быть мертв, а государственный переворот стал свершившимся фактом. Вицлебен не мог ему солгать — не такой это был человек. Это меняло все. Клюге оживился. Теперь совершенно безнадежное положение немцев во Франции могло измениться благодаря немедленному заключению перемирия. Огонь Фау-ракет по Британии следует немедленно прекратить.
Зазвонил телефон. На связи был дежурный офицер из Сен-Жермен-ан-Ле. Оказалось, что поступил еще один приказ, на этот раз от Кейтеля из Растенбурга. В нем сообщалось, что Гитлер жив и при покушении даже не пострадал, что новым командующим армией резерва назначен Гиммлер, а приказы, подписанные Фроммом, Вицлебеном или Гепнером, недействительны. Следует подчиняться только приказам, на которых стоят подписи Гиммлера или Кейтеля{46}.
Клюге был ошеломлен. Его желание присоединиться к заговорщикам моментально улетучилось. К нему вернулась обычная привычка тщательно рассматривать все имеющиеся факты, прежде чем принять решение. Он приказал Блюментриту раздобыть больше информации и отказался принимать окончательное решение до полного прояснения обстановки. Но получить достоверные факты оказалось не так-то просто. Блюментрит без особого труда дозвонился до Растенбурга, но не смог поговорить ни с одним облеченным властью лицом. Кейтель? Йодль? Варлимонт? Они все на совещании. После четверти часа бесплодного ожидания он положил трубку и сообщил Клюге о неудаче. Затем Блюментрит связался с командиром частей СС в Париже генералом Обергом, но тот знал не больше, чем другие. Его источником информации было тоже радиообращение Геббельса. Тогда у Блюментрита появилась очень, на его взгляд, продуктивная идея. Как насчет генерала Штиффа, его бывшего коллеги по Восточному фронту? Ему удалось связаться со Штиффом довольно легко, при этом он даже не подозревал, насколько оказался близок к сердцу заговора. Но после того, как бомба не выполнила свою работу и фюрер остался жив, Штифф отмежевался от заговора. Он всячески старался обезопасить себя, утверждая, что Гитлер, безусловно, жив, а сообщение по радио — чистая правда.
— Откуда вы взяли эту ерунду о смерти фюрера? — поинтересовался он.
— Получили сообщение по телетайпу, — ответил, взяв трубку, Клюге.
— Нет, нет, — убежденно заверил Штифф. — Гитлер жив и здоров.
Клюге больше не сомневался. Все было кончено.
— Чертова игрушка сработала вхолостую, — сказал он и пожал плечами. Он сам неоднократно уверял Герделера, что переворот не может быть успешным, если Гитлер останется в живых. Было бы величайшей глупостью теперь пытаться заниматься полумерами. Пока ждали приезда Штюльпнагеля и командующего 3-м воздушным флотом люфтваффе фельдмаршала Шперле, который также был приглашен на совещание, Клюге поделился своими тяжелыми думами с коллегой и старым другом Блюментритом. В то время как Шпейдель был занят текущими делами, Клюге признался Блюментриту в том, что давно его угнетало. Правда, он умолчал о встрече с Беком и Герделером в Берлине.
— Вы знали или, по крайней мере, подозревали, что я был связан с этими людьми. Это были дни, когда надежда еще не умерла. А вот сегодня надеяться уже не на что. Нет смысла. Летом 1943 года, когда я еще был в Смоленске, ко мне дважды приезжали посланцы Бека и Вицлебена. Они пытались убедить меня согласиться с их политическими планами. В первый раз мы беседовали довольно долго, но уже во второй раз у меня появились большие сомнения. И я сказал, что они не должны рассчитывать на меня. Тогда они отправились к Гудериану, который только что был уволен, но он тоже не захотел с ними связываться.
Наступил вечер. Часы показывали половину девятого. Люди Ремера собрались у дома Геббельса. Они ждали выступления первого оратора рейха. Он кратко обрисовал ситуацию, после чего в своей обычной манере обрушился на преступников, замысливших покушение на жизнь фюрера. Теперь батальону охраны предстояло выполнить историческую задачу — исправить тот вред, который уже нанесен, и избавить Берлин от угрожающих ему опасностей. Затем вперед выступил Ремер и сообщил, что фюрер лично поручил ему это великое дело. Выступления произвели большое впечатление. После этого Ремер приступил к повторному развертыванию своего войска, одновременно предупреждая всех офицеров, с которыми вступал в контакт, о необходимости сообщить правду своим командирам.
А Гизевиус столкнулся с некоторыми трудностями. Ему не удалось проехать в штаб Гелльдорфа. Пришлось оставить машину и пробираться в здание с задней двери. Когда ему наконец удалось встретиться с Гелльдорфом и Нёбе, они уже знали об отступничестве батальона охраны, о том, что Ремеру приказано арестовать заговорщиков, а Гиммлер находится на пути в Берлин, чтобы подавить бунт. Гизевиус пришел в отчаяние и предложил перехватить Гиммлера и убить его.
Гелльдорф и Нёбе не стали слушать подобную чепуху. Их главной задачей теперь стало спасение собственных жизней. В какой-то мере им повезло. Из-за неумелых действий генералов они, собственно говоря, ничего не сделали. Все было кончено, и Гизевиусу было предложено идти на все четыре стороны. Никого больше не волновало, что Гизевиус в это время должен был заниматься своими консульскими проблемами в Швейцарии. Это уже было его личное дело.
— Исчезните, — просто сказали ему.
А Гелльдорф даже сделал широкий жест и предложил ему машину, но не надолго, чтобы только выбраться из центра Берлина.
— Я поеду на Бендлерштрассе, — заявил Гизевиус.
Гелльдорф уставился на него в немом изумлении.
— Вы сошли с ума? — поинтересовался он.
— А разве вы, Гелльдорф, являясь человеком чести, не почувствуете ко мне отвращение, если я не вернусь к Беку?
— Ни в коем случае! — ответствовал Гелльдорф. — Эти генералы годами плевали на нас. Они пообещали нам все, а что получилось? Дерьмо! Дерьмо!
Гизевиус все же направился на Бендлерштрассе, но дорога оказалась перекрытой. К этому времени он уже понял, что возвращение в военное министерство является никому не нужным и довольно глупым актом самопожертвования. Водитель попробовал проехать другой дорогой, но оцепление, судя по всему, было сплошным. Тогда Гизевиус попросил ехать в противоположную сторону — от центра Берлина — и отвезти его в Шарлоттенбург, расположенный в двух милях к западу за Тиргартеном. Дальше водитель все равно не поехал бы. Выйдя из машины, Гизевиус разорвал свой внушительный пропуск с подписью Штауффенберга — безмолвный свидетель короткого взлета и падения полковника — и решил найти убежище в подвальных комнатах дома Штрюнков. Ему было что рассказать, в обмен на предоставленную крышу над головой.
На Бендлерштрассе Фромм, арестованный около четырех часов дня, так и сидел один в небольшой комнате. В восемь часов вечера Гепнер удовлетворил его просьбу о переводе этажом ниже в его личные апартаменты в обмен на обещание не делать ничего, что могло бы представить угрозу перевороту. Ему даже дали бутерброды и бутылку вина. Спустя полчаса встречи с Фроммом потребовали три генерал-майора, сотрудники его штаба, отказавшиеся поддержать заговорщиков. И Гепнер это требование тоже удовлетворил, хотя им пришлось согласиться на взятие под стражу. Но охранник, приставленный к этим людям, оказался настолько легкомысленным, что офицерам без труда удалось сбежать через запасной выход, о существовании которого им сообщил Фромм. Он хотел, чтобы офицеры привели помощь. Примерно в это же время Вицлебен покинул здание военного министерства через главный вход. Он пребывал в крайнем раздражении — путч потерпел крах. В своем «мерседесе» он уехал в загородное имение, расположенное в пятидесяти милях к югу от Берлина. В пути он сделал только одну остановку в Цоссене, чтобы поделиться мыслями с генералом Вагнером, с которым и провел большую часть времени, вместо того чтобы поддерживать Бека на Бендлерштрассе.
В девять часов по радио было передано сообщение о том, что через несколько часов к немецкому народу обратится сам Гитлер.
После долгой поездки из Парижа Штюльпнагель, Хофакер и их спутники около половины девятого прибыли в штаб Клюге в Ла Рош-Гийон. Их лишь на несколько минут опередил командующий 3-м воздушным флотом люфтваффе фельдмаршал Шперле. Он с порога заявил Клюге, что считает это нелегкое путешествие совершенно ненужным, и тут же отбыл обратно в Париж. Его уже не было в штабе, когда машины Штюльпнагеля въехали в ворота и остановились у входа в замок, который когда-то был резиденцией герцога де Ларошфуко. Величественное сооружение стояло в долине Сены в окружении живописных меловых скал Иль-де-Франс и прохладным летним вечером казалось мирным и абсолютно спокойным.
Клюге принимал офицеров в том же кабинете, которым пользовался Роммель. Изумительные гобелены и стол, изготовленный еще в эпоху Ренессанса, по договоренности между Роммелем и теперешним герцогом убрали в часовню, стоящую в некотором отдалении у подножия меловой скалы. Кстати, герцог с семейством оставался в замке — в одном его крыле. Клюге тотчас пригласил офицеров к себе. Штюльпнагель вошел первым, за ним полковник Хофакер вместе с родственником генерала Шпейделя доктором Максом Хорстом — ближайшим соратником Хофакера по заговору. Хорст сам вел машину на пути из Парижа.
И судьбоносное совещание началось. Кроме Клюге в нем участвовали главные сторонники переворота Штюльпнагель, Хофакер и Шпейдель, сохранявший нейтралитет Блюментрит, а также Макс Хорст, прибывший для оказания моральной поддержки заговорщикам.
Клюге выглядел спокойным. Казалось, его вовсе не затронуло напряжение, владевшее Хофакером и Штюльпнагелем. Было согласовано заранее, что Хофакер, имевший адвокатский опыт, будет говорить от имени всех остальных в последней попытке вовлечь главнокомандующего в заговор. По словам Блюментрита, Хофакер в течение четверти часа весьма красноречиво вещал о необходимости избавить Германию от Гитлера и немедленно положить конец войне. Он изложил Клюге все факты в том виде, в котором их знал сам.
— Начиная с осени 1943 года, — сказал он, — я поддерживал связь между Беком и моим кузеном Штауффенбергом, с одной стороны, и парижской группой генерала Штюльпнагеля — с другой. — Он обращался к фельдмаршалу, зная о беседе, состоявшейся между Клюге и Беком в Берлине годом раньше.
Клюге слушал, никак не показывая ни своего одобрения, ни возмущения. В парке за окном, где Роммель так любил гулять, стараясь облегчить горечь поражений, быстро темнело.
— Фельдмаршал, — сказал Хофакер, глядя прямо в глаза Клюге, — то, что сейчас происходит в Берлине, не является определяющим фактором. Значительно важнее решения, принятые здесь, во Франции. Я призываю вас, во имя будущего нашей страны, поступить так, как поступил бы фельдмаршал Роммель, если бы сидел на этом месте. О своих намерениях он рассказал мне, когда мы виделись в последний раз — это было 9 июля. Я умоляю вас, господин фельдмаршал, порвать с Гитлером и взять процесс освобождения на Западе в свои руки. В Берлине власть находится в руках генерала Бека — будущего главы государства. Сделайте то же самое здесь. Не только армия, но и вся нация будет вечно вам признательна. Положите конец кровавой бойне на Западном фронте, и, быть может, тогда самая страшная катастрофа в истории нашей страны не произойдет.
Клюге не ответил. Быть может, он пока просто не знал, что сказать, только чувствовал некое внутреннее инстинктивное несогласие. Он молча рассматривал свои руки. Клюге поверил Штиффу, утверждавшему, что Гитлер жив, иначе говоря, что верховный главнокомандующий, которому он некогда приносил присягу верности, все еще у власти. А значит, для него, Клюге, выбора не было. Он мог появиться только в случае смерти фюрера. Фельдмаршал встал и сделал несколько шагов по комнате.
— Да, господа, — задумчиво проговорил он, — вышла осечка.
Штюльпнагель подался вперед, на его лице появилось выражение крайней озабоченности.
— Но я считал, господин фельдмаршал, что вы все знаете.
— Конечно нет, — резко ответствовал Клюге, — я и понятия не имел.
Штюльпнагель покинул группу молчащих офицеров и вышел на террасу, окруженную розовыми кустами. Что ему теперь делать? В Париже уже начались активные действия. Первые аресты произведены по его приказам. Отдавая их, он не сомневался, что Клюге его поддержит, тем более если окажется перед совершившимся фактом. Из глубокой задумчивости его вывел вежливый и спокойный голос Клюге.
— Господа, — сказал фельдмаршал, — могу я пригласить вас поужинать со мной?
Немецкое радио периодически прерывало трансляцию бравурной вагнеровской музыки, чтобы сообщить о предстоящем выступлении Гитлера. Прибытие Гиммлера поздним вечером в Берлин совпало с выступлением частей СС в поддержку подразделений майора Ремера. Шелленберг, глава внешней разведки Гиммлера, был предупрежден гестапо как раз вовремя, чтобы вернуть в Берлин майора Отто Скорцени (офицера, ставшего известным благодаря похищению диктатора Муссолини после падения последнего), который в это время спокойно отдыхал в спальном вагоне идущего в Вену ночного экспресса. Когда поезд остановился на одной из станций, майор услышал свое имя, выкрикиваемое станционным радио. Он сошел с поезда и через некоторое время доложил о своем прибытии Шелленбергу. По его словам, он нашел высших должностных лиц СД в состоянии, граничащем с паникой, из-за событий в Берлине. Успокоив своих начальников и обеспечив их охраной, Скорцени, по его словам, отправился выяснить, что в действительности происходит. Он провел вечер, переезжая от одного командира к другому, которые, по его мнению, должны были что-то знать, но на деле оставались в полном неведении относительно происходящего.
Гиммлер, теперь ставший новым командующим армией резерва, оказался достаточно мудр, чтобы не появляться на Бендлерштрассе. С аэродрома он поехал прямо домой к Геббельсу. С помощью Геббельса и Кальтенбруннера он организовал центр расследования, чтобы произвести первые аресты и допросить виновных.
В маленькой столовой фельдмаршальских апартаментов в герцогском замке был устроен ужин при свечах. Вечер получился весьма далеким от приятного. Создавалось впечатление, что офицеры собрались в доме, который только что посетила смерть. Они расселись за столом в соответствии со званиями. Молчание нарушал только голос Клюге, теперь звучавший до странности оживленно и беззаботно. На него больше не давила тяжесть необходимости принятия тяжелого решения, и он ел с большим аппетитом — за долгие часы, проведенные на линии фронта, он успел изрядно проголодаться. И фельдмаршал завел разговор о текущих фронтовых делах. Шпейделю было приказано позаботиться о подкреплении для Нормандии. Но Штюльпнагель и Хофакер молчали, потрясенные причудливой нереальностью происходящего. Им предстояло принять целый ряд нелегких решений.
В конце концов Штюльпнагель решился сказать Клюге правду.
— Фельдмаршал, — с тяжелым вздохом проговорил он, — могу я поговорить с вами с глазу на глаз?
Когда Клюге взглянул на генерала, в его глазах мелькнуло раздражение, но он все-таки согласился. В сгустившемся полумраке мерцали огоньки свечей. Клюге и Штюльпнагель вышли в соседнюю комнату. Оставшиеся за столом люди молчали. Тишина царила еще несколько минут и была нарушена ворвавшимся обратно фельдмаршалом. Тот в ярости закричал, обращаясь к Блюментриту:
— СД и генерал Оберг должны быть вот-вот арестованы! Или, может быть, уже арестованы! Господин фон Штюльпнагель отдал соответствующие распоряжения без ведома своего командующего! Он даже не удосужился поставить меня в известность! Это неслыханное нарушение субординации!
Клюге приказал Блюментриту немедленно отменить приказы об арестах, предложив воспользоваться для этой цели телефоном.
— Иначе, — кричал он, покраснев от гнева, — я слагаю с себя ответственность за все, абсолютно за все.
Только было уже слишком поздно. Блюментрит вернулся и доложил, что аресты уже ведутся.
— Почему вы мне не позвонили? — сухо поинтересовался Клюге, взирая на Штюльпнагеля с откровенной неприязнью.
— Я не смог дозвониться ни вам, ни Блюментриту.
Клюге взял себя в руки и пригласил генералов вернуться за стол. Но теперь ел и пил только он. Остальные присутствующие взирали на фельдмаршала в гробовом молчании. Было уже около одиннадцати часов. Наступила ночь.
Здание военного министерства на Бендлерштрассе было окружено по приказу полковника Ремера. Заговорщики очутились в осаде. Новоявленному полковнику пришлось столкнуться с немалыми трудностями, определяя, на чьей стороне находятся различные подразделения, собравшиеся в районе военного министерства. Особое внимание он уделил танкам генерала Гудериана, прибывшим по неизвестно чьему приказу, — сам генерал отсутствовал по причине отпуска.
Выяснение, кто кому предан, и на Бендлерштрассе было в самом разгаре. Штауффенберг и Ольбрихт еще не сложили оружие и отчаянно пытались удержать свои позиции, сражаясь по телефонам{47}. Уже после наступления темноты на связь вышел начальник штаба Штюльпнагеля, уполномоченный произвести аресты, с просьбой прояснить ситуацию.
— Все идет по плану, — последовал стандартный ответ, — все сообщения по радио — ложь.
Но только Ольбрихт, не отходивший от телефона, не сумел навести порядок в собственном доме. Многочисленные члены его штаба, настроенные враждебно или индифферентно по отношению к заговору, вскоре узнали, что военный комендант Берлина генерал фон Хазе — дядя Бонхёффера — отказался от борьбы.
Около половины одиннадцатого, после тщетной попытки подвести дополнительные войска, чтобы защитить Бендлерштрассе, Ольбрихт собрал всех тех, кто, по его мнению, был верен заговору, и распорядился организовать оборону здания, поскольку его штурм является неизбежным. Но среди собравшихся было много офицеров, либо молчаливо не одобрявших все предприятие, либо решивших, что участвовать в нем в условиях явного провала слишком опасно{48}. Когда предлагают занять оборону для последнего и решительного боя, об этом хорошо читать в какой-нибудь исторической книге, но участвовать в подобном лично — это уж слишком. Именно так думал подполковник Гербер — ярый нацист из штаба Ольбрихта. Он решительно вышел вперед к столу генерала и потребовал объяснений, от кого следует защищать здание и, главное, почему. Он считал, что задачей офицеров военного министерства является обеспечение отправки подкреплений на фронты. При чем здесь какая-то непонятная «Валькирия»?
— Господа, — сказал Ольбрихт, — мы уже давно с возрастающим беспокойством следим за развитием событий. Вряд ли стоит сомневаться, что все шло к катастрофе. Необходимо принять экстренные меры, чтобы ее предотвратить. Именно это сейчас и делается. Я прошу вашей поддержки.
Вопрос Гербера не был праздным. Он тоже внимательно следил за ситуацией и принял свои собственные меры предосторожности. На втором этаже у него и его сторонников имелся небольшой склад оружия, принесенного из близлежащего арсенала. Поэтому эти офицеры, больше не тратя время на лишние разговоры, покинули кабинет Ольбрихта и решительно отправились вниз.
За те несколько минут, что у него остались, Ольбрихт успел порадоваться приезду полковника Мюллера — заместителя командира пехотного училища в Деберице. Тот просил, правда слишком поздно, разрешения использовать своих людей для захвата радиостанции и охраны военного министерства. Он вернулся в Дебериц только поздно вечером и выяснил, что необходимо помочь участникам переворота. В десять сорок пять Ольбрихт с радостью подписал приказ.
Ровно в десять пятьдесят Гербер со своими союзниками при полном вооружении прошествовали мимо Делии Циглер и ее коллеги Анни Лерхе и вошли в кабинет Ольбрихта. Вместе с Ольбрихтом находились Петер Йорк, Ойген Герштенмайер и брат Штауффенберга Бертольд. Фон дер Гейде навел автомат на Ольбрихта и сказал:
— Мне кажется, здесь имеет место заговор, направленный против фюрера. Мои товарищи и я храним верность присяге. Мы требуем встречи с генералом Фроммом.
— Вы вооружены, — ответил Ольбрихт, — а я нет. Сила на вашей стороне. Но прежде всего я бы хотел попросить вас пройти со мной к генералу Гепнеру.
А тем временем Делия Циглер выскочила из приемной, чтобы предупредить об опасности Бека и Гепнера, которые находились в кабинете Фромма, расположенном чуть дальше по коридору. По пути она встретила Штауффенберга и Хефтена. Они вдвоем вбежали в приемную Ольбрихта, но сразу же оказались снова в коридоре, поскольку их встретили выстрелы. Штауффенберг получил ранение в левую руку. Делия Циглер видела, как полковник скривился от боли.
В течение следующих десяти минут в коридорах и кабинетах звучали крики и выстрелы — противники заговора собирали своих сторонников. Бек, Гепнер, Ольбрихт, Штауффенберг и Хефтен были окружены, остальных заговорщиков поместили под стражу. Некоторым удалось выбраться из здания. Среди них был Герштенмайер, которому не повезло — его остановили и вернули обратно{49}.
Фромма освободили, и он, сжимая в руках пистолет и пылая гневом, вернулся к командованию. Правда, оно продлилось недолго. Он знал, что его сместили, и понимал, что должен как следует постараться, чтобы реабилитироваться в глазах Гиммлера. Хефтен сделал движение, словно хотел застрелить генерала, но Штауффенберг его остановил.
— Господа, — заявил Фромм, — теперь я собираюсь обойтись с вами так же, как вы обращались со мной. Вы арестованы. Сдайте оружие.
— Уверен, что вы не станете просить меня, своего командира, сделать это, — сказал Бек. Он потребовал, чтобы ему оставили пистолет «для личных целей», после чего добавил: — Вы не осмелитесь лишить старого товарища этой привилегии.
— Хорошо, только держите его направленным на себя, — сказал Фромм.
— В прежние времена в подобной ситуации… — начал Бек, но Фромм отлично понимал, что сейчас не время для проявления сентиментальности. Он резко перебил старого генерала и предложил сделать то, что он намеревался.
Бек растерянно взглянул на свою руку с пистолетом, потом обвел прощальным взглядом своих товарищей и выстрелил себе в голову. Пуля оцарапала лоб, по лицу Бека потекла кровь. Он упал на стул, явно пребывая в состоянии шока.
По приказу Фромма два офицера попытались забрать пистолет из ослабевшей руки генерала, но Бек попросил дать ему еще один шанс уйти из жизни самому. Фромм холодно согласился.
— А сейчас, господа, — обратился он к остальным, — если хотите написать письма, у вас есть несколько минут.
Ольбрихт и Гепнер попросили по листку бумаги, чтобы написать записки женам. Штауффенберг и другие офицеры молча стояли и ждали, что будет дальше. Фромм вышел из комнаты, чтобы распорядиться о подготовке расстрельной команды. Только так он сможет оправдаться в глазах фюрера. Охранники Ремера были готовы помогать ему во всем.
Вернулся он в сопровождении офицеров батальона охраны. Оглушенный и неспособный к действиям, Бек скорчился на стуле, по его лицу медленно текла кровь. На другом стуле полулежал Штауффенберг, ослабевший от потери крови. Это нисколько не тронуло Фромма, который был преисполнен решимости очиститься от любых подозрений. Он объявил, что военный трибунал, заседание которого он только что провел, «от имени фюрера» приговорил четырех арестованных офицеров к смерти. При этом он указал на Ольбрихта, Штауффенберга, Хефтена и Мерца фон Квирнгейма. Имена Штауффенберга и Хефтена он даже не пожелал произнести вслух — только махнул в их сторону рукой. Приговор, по его словам, должен быть приведен в исполнение немедленно. Он уже приказал батальону охраны создать расстрельную команду из десяти человек.
Ольбрихт и Гепнер еще писали. Фромм велел им поторопиться, «чтобы не усложнять положение других». Рукав формы Штауффенберга уже промок от крови. Четырех офицеров повели вниз. Штауффенберг опирался на руку Хефтена, чтобы не упасть. Во дворе уже стоял армейский грузовик, фары которого освещали сцену трагедии. И солдаты, и офицеры торопились поскорее покончить с расстрелом, поскольку ожидался воздушный налет. Крики во дворе привлекли внимание секретаря Фромма, который выглянул из окна как раз вовремя, чтобы увидеть, как Штауффенберга и его товарищей ведут на смерть.
Фромм, оставшийся наверху, «из дружеских побуждений» предложил Гепнеру ту же возможность, что и Беку, — покончить жизнь самоубийством. Гепнер ответил, что не чувствует за собой вины, за которую стоило бы платить жизнью. Он предпочел арест и суд. И Фромм отправил его в тюрьму Моабит.
Следовало еще решить, как быть с Беком. Старик пребывал в полубессознательном состоянии, но, когда к нему подошли, очнулся и попросил дать ему другое оружие.
— Если и на этот раз ничего не получится, — слабым голосом пробормотал он, — прошу вас, помогите мне.
Бек сделал еще один выстрел, который снова оказался неудачным.
— Помогите старику, — сказал Фромм.
Эту «честь» предоставили сержанту, который обнаружил старого генерала без сознания и застрелил его выстрелом в шею{50}.
А в это время внизу во дворе Клаус фон Штауффенберг громко крикнул «Да здравствует наша священная Германия!» и рухнул на землю под огнем верных служак Ремера.
Ужин закончился, свечи догорели. Клюге, чувствуя скорее облегчение, чем гнев, провожал Штюльпнагеля к выходу. Он говорил очень медленно, стараясь, чтобы каждое слово запечатлелось в памяти собеседника.
— Вы должны немедленно ехать в Париж и освободить всех арестованных. Ответственность за это лежит только на вас, на вас лично.
— Мы не можем повернуть назад, господин фельдмаршал, — сухо сообщил Штюльпнагель. — Обратной дороги попросту не существует.
— На карту, — вмешался Хофакер, — поставлена ваша честь, господин фельдмаршал, а в ваших руках — честь армии и жизни миллионов.
— Если бы только свинья сдохла, — цинично заметил Клюге.
Фельдмаршал проводил офицеров во двор, где их ожидали машины.
— Считайте, что с этого момента вы освобождены от своих обязанностей, — сказал он и, секунду подумав, добавил: — Переоденьтесь в гражданскую одежду и постарайтесь исчезнуть.
Штюльпнагель проигнорировал добрый совет и официально отдал честь хозяину. Фельдмаршал слегка поклонился, но не пожал офицерам руки, как он обычно поступал, и вернулся в замок.
Аресты в Париже начались в десять тридцать. Их производили военнослужащие ударных частей гарнизонного полка под надзором коменданта Парижа генерала Бойнебурга, его заместителя генерала Бремера, начальника штаба полковника Юнгера и командира гарнизона полковника Кревеля. Ни один из них не являлся членом Сопротивления, но они понимали и одобряли все, что делали. Когда на город опустилась темнота, солдаты и офицеры собрались под тенистыми деревьями Буа-де-Булонь. Было решено, что парижанам не стоит видеть, как немцы арестовывают немцев в оккупированной столице. Для кадровых военных эсэсовцы были «черными ублюдками», и их арест говорил о близком окончании войны, а о чем солдат может мечтать сильнее, чем о возвращении домой.
Стремительный удар был нанесен ночью. В результате было арестовано около 1200 человек, занимавших ключевые посты в СС и гестапо. При этом не было сделано ни единого выстрела. Ни эсэсовцы, ни гестаповцы не оказали сопротивления, и уже к полуночи все было кончено. Правда, нескольким офицерам все же удалось прорваться сквозь оцепление и передать сигнал тревоги в Берлин. Но только помощи оттуда не последовало. Операция в Париже оказалась образцом, которому Берлин мог только завидовать.
В комнате номер 405 роскошных офицерских апартаментов в отеле «Рафаэль» собрались соратники Штюльпнагеля. Офицеры чувствовали все возрастающую тревогу. В Берлине происходило что-то непонятное. Информации не было. Около девяти часов вечера из Ла Рош-Гийон позвонил Штюльпнагель и сказал, что разговор с Клюге не дал результата. Звонков становилось все больше, и заговорщики почувствовали, что остаются в изоляции. Представители военно– морского флота и военно-воздушных сил в Париже уже имели категорический приказ не подчиняться указаниям Вицлебена из Берлина, а подразделения безопасности ВВС даже предприняли попытку прекратить аресты эсэсовцев, поскольку считали, что их производят члены французского Сопротивления, одетые в немецкую форму. Неразбериха усиливалась. В Ла Рош-Гийоне и Сен-Жермен-ан-Ле надрывались телефоны. Звонили из всевозможных парижских штабов армии, авиации и флота. Дежурные офицеры, ничего не слышавшие о заговоре, не могли разобраться в потоке следовавших друг за другом приказов, в котором одни отменяли другие. На все вопросы и требования объяснений они не могли дать вразумительного ответа. Клюге и старшие офицеры западной группы войск в Ла Рош-Гийоне совещались с военным губернатором Франции.
— Вы здорово попали, — сказал дежурный офицер из Сен-Жермен-ан-Ле полковнику Юнгеру, находившемуся в штабе коменданта города в Париже.
В одиннадцать часов на четвертый этаж отеля «Рафаэль» взбежал полковник Линстов. Он так запыхался, что не мог говорить, и остановился в дверях комнаты 405, стараясь унять бешеное сердцебиение и перевести дух.
— В Берлине все кончено, — обретя дар речи, выкрикнул он. — Только что звонил Штауффенберг. Он сообщил ужасные новости. Убийцы уже выламывали дверь его кабинета.
Гонцу дали воды, он слегка ожил и снова отправился в соседний отель «Мажестик» на поиски новой информации. Он уже сообщил Блюментриту в Ла Рош-Гийоне, что на улицах Парижа вовсю идут аресты. Здания практически опустели, но телефонисты были за работой. В полночь к Линстову присоединился Бойнебург. Комендант явился, чтобы доложить Штюльпнагелю об успешном завершении арестов. Он нашел полковника в полном смятении, а поступающие новости были одна ужаснее другой. Офицерам оставалось только перейти улицу, присоединиться к своим коллегам в отеле «Рафаэль» и ждать приезда Штюльпнагеля. А пока Бойнебург распорядился не отменять приказы об освобождении арестованных.
Офицеры находились в гостиной отеля «Рафаэль», когда прибыл Штюльпнагель. Его лицо горело, а руки оставались ледяными.
После смерти Штауффенберга Фромм разослал сообщение следующего содержания: «Путч, организованный безответственными генералами, подавлен. Все лидеры расстреляны. Приказы, подписанные генерал-фельдмаршалом фон Вицлебеном, генерал– полковником Гепнером, генералом Беком и генералом Ольбрихтом, отменяются. После временного ареста я снова принял командование»{51}. Он также произнес короткую, но помпезную речь с балкона как раз над тем местом, где только что были казнены четыре человека.
Теперь второй группе заговорщиков, арестованных на Бендлерштрассе, куда входили Петер Йорк, Ойген Герштенмайер и Бертольд фон Штауффенберг, предстояла отправка во двор — на встречу с расстрельной командой. Но прежде чем снова зазвучали выстрелы, прибыл Кальтенбруннер с категоричным приказом Гиммлера прекратить бессмысленное убийство ценных свидетелей. Приехавшие вместе с ним эсэсовцы надели на оставшихся в живых арестованных наручники и увезли с собой для допроса.
Фромм сделал вид, что не заметил явного покушения на свой авторитет. С нарочитым энтузиазмом пожав руку Кальтенбруннеру, он сказал:
— Я ухожу домой. Вы в любой момент сможете связаться со мной по телефону{52}.
А тем временем Скорцени рыскал по Бендлерштрассе, нагоняя ужас на оставшихся служащих, и в конце концов занял здание министерства от имени Гиммлера.
Словно прогноз о надвигающемся урагане, немецкая радиостанция продолжала с удручающей монотонностью повторять обещание скорого выступления фюрера перед народом Германии. Задержка в четыре часа, которые прошли с момента первого объявления до того, как в эфире зазвучал его резкий, невнятный голос, при более удачных обстоятельствах могла бы оказать бесценную помощь Сопротивлению. Она объяснялась в основном необходимостью доставки специальной аппаратуры из Кёнигсберга, до которого было около семидесяти миль, в Растенбург. Когда наконец вагнеровская музыка была прервана и Ганс Фрицше — главный нацистский диктор — торжественно объявил, что сейчас будет говорить фюрер, было уже около часа ночи. Наступило 21 июля. Прошло больше десяти часов после того, как первые судьбоносные новости из Растенбурга дошли до сотрудников на Бендлерштрассе.
Голос Гитлера звучал в эфире монотонно и резко.
«Мои товарищи, мужчины и женщины, граждане Германии. Сегодня я уже не знаю, сколько раз на меня совершались покушения. И сегодня я обращаюсь к вам, во-первых, чтобы вы услышали мой голос и убедились, что я цел и невредим, а во-вторых, чтобы вы узнали о преступлении, аналога которому не найти в немецкой истории».
Гизевиус, находившийся в относительной безопасности в подвале дома в Шарлоттенбурге, вопросительно взглянул на своих соратников. Вне всяких сомнений, этот голос был им всем хорошо знаком: вульгарная речь, отрывистые фразы — так формулировал свои мысли только фюрер.
«Ничтожная кучка амбициозных, бесчестных и преступных офицеров организовала заговор, имевший целью устранить меня и одновременно уничтожить Верховное командование германских вооруженных сил. Бомба, заложенная полковником графом фон Штауффенбергом, взорвалась в двух метрах справа от меня. Она серьезно ранила нескольких преданных сотрудников моего штаба. Один из них умер. Я сам абсолютно невредим, отделался лишь небольшими царапинами и легкими ожогами. Я считаю это подтверждением воли Провидения, пожелавшего, чтобы я продолжал двигаться к главной цели моей жизни, что я и делал до сих пор…»
Мертвые тела офицеров, расстрелянных во дворе военного министерства по приказу Фромма, — Штауффенберга, Ольбрихта, Хефтена и Мерца, в это время как раз увозили с Бендлерштрассе для погребения без всяких почестей.
«Заговорщики обманули себя сами. Их голословное заявление о том, что я якобы мертв, опровергается тем, что я обращаюсь к вам, мои дорогие друзья. Круг заговорщиков очень мал. Он не имеет ничего общего с духом Вооруженных сил Германии и немецкого народа. Это просто небольшая шайка преступников, которая будет безжалостно уничтожена».
Преследуемый гестапо Герделер в это время скрывался в поместье Раненсдорф, принадлежавшем его другу барону Паломбрини.
«Поэтому я приказываю гражданским организациям не подчиняться распоряжениям любых органов власти, которые эти захватчики пытаются контролировать. Ни одна военная инстанция, ни один офицер или солдат не должны подчиняться приказам этих людей. Наоборот, долг любого гражданина — арестовать этих людей, а при оказании сопротивления — застрелить на месте».
Штюльпнагель, утративший последнюю надежду, слушал голос фюрера, стоя в гостиной отеля «Рафаэль». Рядом с ним находились сотрудники его штаба, заранее собравшиеся, чтобы отметить его триумфальное возвращение в Париж, открыв несколько бутылок шампанского.
«Чтобы навести порядок, я назначил рейхсминистра Гиммлера командующим армией резерва. <…> Я убежден, что после уничтожения ничтожной кучки предателей и заговорщиков мы создадим в своей стране атмосферу, которая так нужна солдатам на фронтах».
В это время в штабе группы армий на Восточном фронте вконец измотанный ожиданием Тресков отправился спать. К нему заглянул Шлабрендорф и сообщил новости. Вскочивший было Тресков со стоном опустился на подушку.
— Я застрелюсь, — в отчаянии проговорил он.
«Кажется немыслимым, что тысячи, нет, миллионы людей на фронтах отдают свою жизнь, а банда амбициозных и убогих созданий, оставаясь дома, пытается свести на нет их усилия. На этот раз мы намерены свести с ними счеты так, как это умеют делать национал– социалисты…»
Гестапо уже держало Мольтке, Бонхёффера, Донаньи, Мюллера и Лангбена в камерах. Теперь тюремные двери захлопывались за генералами с Бендлерштрассе.
«Вероятно, далеко не все могут предположить, какая судьба выпала бы Германии, если бы заговорщики добились успеха. Я благодарю Провидение и Создателя, но не за то, что он сохранил меня. Моя жизнь всецело посвящена работе для моего народа И я благодарен Всевышнему за то, что он позволил мне продолжать делать свое дело.
Тяжело раненный Роммель лежал в военно-воздушном госпитале в Берни.
«Я снова с радостью приветствую вас, мои боевые соратники. <…> В случившемся я вижу знак судьбы, которая указывает мне продолжать свою работу. Я так и сделаю».
Геббельс отвернулся от радиоприемника и скривился от омерзения. По его мнению, Гитлер достиг только одной цели — в очередной раз выставил себя напоказ. Конечно, фюреру следовало предварительно проконсультироваться с ним, министром пропаганды. Он, безусловно, подсказал бы главе государства, что говорить и как. Паническая речь, вроде только что прозвучавшей, явилась исключительно не вовремя.
Геббельс пошел к Гиммлеру. Ночью необходимо допросить как можно больше заговорщиков, которых наряды эсэсовцев постоянно доставляют к нему в дом.
Часть третья
1
В мрачном особняке на Герман-Герингштрассе всю ночь горел свет. Официальная резиденция Геббельса была временно превращена одновременно в суд и тюрьму. Когда подозреваемых привозили для допроса Геббельсом или Гиммлером, их размещали под охраной в разных комнатах особняка, где вскоре не осталось свободного места. Телефоны звонили не переставая{53}.
Гелльдорф прибыл сам, старательно делая вид, что понятия не имел о происходящем вокруг него и что он явился как раз для того, чтобы разобраться в обстановке. Это не помогло, и он очутился под замком в музыкальном салоне. Фромм, очевидно передумав уходить домой после своей подлой попытки уничтожить всех заговорщиков, которые могли скомпрометировать его, тоже появился в резиденции. Прямо с порога он решительно гаркнул: «Хайль Гитлер!» Этот жирный краснолицый человек, носивший очки в роговой оправе, за которыми суетливо бегали глаза, производил неприятное впечатление. Ему разрешили воспользоваться телефоном, чтобы объяснить жене свое отсутствие в столь поздний час, и даже принесли в курительную комнату бутылку вина, чтобы помочь ему прийти в себя после столь длинного и богатого событиями дня. Среди арестованных также находились комендант Берлина Хазе и Гепнер. Привезли в особняк Геббельса и Корцфлейша, но тот на допросе сумел доказать свою невиновность. Хазе заявил, что умирает от голода, и настоял, чтобы ему принесли еду и напитки. Когда он потребовал вторую бутылку вина, пришлось обратиться за специальным разрешением к Геббельсу, который с сардонической улыбкой ответствовал, что вторую бутылку генералу, конечно, можно дать, но не следует ему позволять опустошить весь винный погреб.
Фромм ожидал, что его встретят с уважением и признают его заслуги — человека, который так мудро и прозорливо перевел все стрелки на заговорщиков. Он был потрясен презрением, с которым к нему отнеслись следователи.
— Вы, однако, очень спешили отправить нежелательных свидетелей в ад, — сухо заметил Геббельс. Он обвинил Фромма в трусости и указал на «неприличную поспешность» его действий.
— После освобождения, — позже сказал Гиммлер, — он поступил как персонаж плохого фильма. — И генерал тоже отправился в заключение.
Рано утром атмосфера оставалась чрезвычайно напряженной. Ни Геббельс, ни Гиммлер не испытывали уверенности в том, что владеют ситуацией. Они только знали, что покушение на жизнь фюрера являлось частью заговора, корни которого пока еще не были обнаружены. Никто точно не знал, какие силы стоят за взрывом в Растенбурге, и приходилось постоянно опасаться, что в ближайшие часы может последовать еще одно покушение. Генералы, командовавшие армиями на Восточном и Западном фронтах, являлись еще одним неопределенным фактором. Геббельс мог только предполагать, насколько серьезно они замешаны в заговоре. Но время шло, и вместе с этим росло его убеждение, что ответственные за неудачный заговор не могут тягаться с ним — быстрым, умным, беспощадным.
— Это была телефонная революция, — сказал он своим помощникам, — которую мы подавили несколькими винтовочными выстрелами. Но если бы у наших противников было чуть больше опыта, энергии и решительности, винтовки были бы уже бесполезны.
Ровно в четыре часа утра допросы завершились.
— Господа, — объявил Геббельс, — путч окончен. — Он проводил Гиммлера к машине и крепко пожал ему руку.
Обратно в дом он вернулся очень довольный. В сопровождении своей правой руки — Наумана и фон Овена — он медленно поднимался по лестнице и помпезно вещал, часто делая паузы, чтобы подчеркнуть сказанное. У дверей своих личных апартаментов он ненадолго присел на низкий столик и покачал в воздухе ногой.
— Это было как гроза, после которой воздух стал чище, — сказал он и оперся локтем на бронзовый бюст Гитлера. — Когда после полудня начали поступать ужасные новости, кто мог надеяться, что все окончится так быстро и так благополучно? Ведь были моменты, когда ситуация казалась угрожающей. За то время, что я рядом с фюрером, это уже шестое покушение на его жизнь. Но ни одно из предыдущих не было таким опасным. Если бы заговорщики добились успеха, мы бы с вами сейчас здесь не сидели, в этом у меня нет ни малейших сомнений.
Геббельс зло высмеял всех заговорщиков, кроме Штауффенберга.
— Что за человек! — восхищенно воскликнул он. — Мне его почти жаль. Какое потрясающее хладнокровие! Какой ум! Какая железная воля! Несправедливо, что столь выдающийся человек оказался в окружении такого количества идиотов.
Геббельс встревожился бы намного больше, если бы знал, насколько успешными оказались действия заговорщиков в Париже. Пока он допрашивал Фромма и Хазе, офицеры, собравшиеся в отеле «Рафаэль», слушали льющуюся из репродукторов музыку Вагнера — очевидное свидетельство того, что радиостанции Германии все еще находятся в руках нацистов. Сами они уже давно посадили ведущих офицеров гестапо, СС и СД под замок. Что же случилось в Берлине?
В штабах различных военных подразделений, расположенных в Париже и его окрестностях, заступившие на ночное дежурство офицеры присматривались к непонятной ситуации с кошачьей осторожностью. Когда дежурный из штаба командования военно-воздушных сил позвонил дежурному в штабе генерала Оберга, командиру частей СС, он с немалым удивлением услышал ответ: «Сегодня связи нет». После этих коротких слов линия разъединилась. Служебные телефоны беспрестанно трезвонили, накрывая Париж невидимой сетью, сотканной из вопросов, на которые не было ответов, и ситуация не прояснялась. Увертки, уклончивость и недоговоренность в ту ночь стали нормой. Так продолжалось до тех пор, пока около часа ночи адмирал Кранке, самый решительный нацист из всех парижских командиров, решил, что Клюге больше нельзя доверять. Ведь тот являлся частью проклятой армии и определенно избегал всяческих контактов с ним. Терпение адмирала истощилось, и он поднял по тревоге военно-морские силы, находившиеся под его командованием. Эти люди, сказал он Юнгеру, очень скоро освободят Оберга, если этого не сделает сам Штюльпнагель.
Находившийся в отеле «Рафаэль» Штюльпнагель понимал, что его конец близок. Позвонил Юнгер и сообщил об угрозах Кранке, а стоящий рядом Бойнебург требовал какого-нибудь решения. Следует освободить Оберга или нет? Кранке, ярость которого требовала выхода, теперь обрушился на Линстова по телефону «Рафаэля». Это скандал! Немцы идут на немцев на улицах Парижа! В конце концов Штюльпнагеь сдался и приказал освободить пленных. При этом он добавил, чтобы Оберга привезли в «Рафаэль» для беседы. Линстов быстро свернул свой разговор с адмиралом, сказав, что в морских пехотинцах нет необходимости и что освободить арестованных распорядился лично Штюльпнагель.
На долю Бойнебурга выпала весьма опасная дипломатическая миссия восстановить власть СС в Париже. Он вошел в номер отеля «Континенталь», где содержались Оберг и его люди. С моноклем в глазу и улыбкой на физиономии он подошел к Обергу и отдал ему честь гитлеровским приветствием.
— Господа, — сказал он, — у меня для вас хорошие новости. Вы свободны. — И пока преимущество было еще на его стороне, он передал негодующему Обергу приглашение Штюльпнагеля встретиться с ним в отеле «Рафаэль».
Было два часа ночи. Оберг, вознамерившийся во что бы то ни стало получить объяснения, засунул возвращенный ему пистолет в кобуру и зашагал рядом с Бойнебургом к отелю «Рафаэль», а его офицеры поспешили снова водвориться в своих владениях. По правде говоря, Оберг не был тяжелым человеком, и с ним вполне можно было договориться. Он даже обменялся рукопожатием со Штюльпнагелем, когда тот объяснил ему, что задержание было ошибочным, хотя и имело благую цель — защитить его от враждебных действий. Поверил в это Оберг или нет, остается неизвестным, но, во всяком случае, он не отказался смыть все недоразумения предложенным ему шампанским. Конечно, немцы не должны драться с немцами на чужой земле. В переполненной комнате снова зазвучали громкие голоса и смех, и, когда в три часа в Париж прибыл Блюментрит, чтобы по приказу Клюге принять дела у Штюльпнагеля, освобожденного от своей должности, он с изумлением увидел, что Оберг, Штюльпнагель и Бойнебург пьют шампанское, словно старые друзья. Блюментриту тоже налили. Только Хофакер исчез. Он больше не мог вынести напускную веселость, за которой маячил лик смерти. Он потихоньку ускользнул, переговорил со своим другом Фалькенхаузеном{54} и поспешил упаковать немногочисленные пожитки, лихорадочно обдумывая план спасения. Блюментрит, человек по натуре добродушный, очень обрадовался, что дело разрешилось миром. Он вполне мог бы сгладить острые углы и постараться, чтобы происшедшее обошлось без последствий. Но Клюге, как и Фромм в Берлине, уже принял меры самозащиты, которые, по его мнению, должны были ликвидировать неопределенность его положения. Он отправил подробный отчет о деятельности Штюльпнагеля Гитлеру. Но фельдмаршалу, как и Фромму, не повезло: благодаря собственной моральной трусости он оказался скомпрометированным и в глазах нацистов, и в глазах заговорщиков.
На протяжении короткой летней ночи Шлабрендорф на Восточном фронте пытался образумить Трескова. Его друг был настроен на самоубийство.
— Они меня все равно скоро вычислят, — повторял он, — и сделают все, чтобы вытащить из меня имена товарищей. Чтобы этого не произошло, лучше я сам лишу себя жизни.
План Трескова заключался в следующем: он хотел умереть на линии фронта, чтобы это выглядело как смерть в бою. О его спокойную непреклонность разбивались все попытки Шлабрендорфа уговорить друга подождать и посмотреть, выйдут ли на него нацисты. Тресков не желал менять принятое решение.
Когда пришло время прощаться, Тресков еще раз повторил, что не сомневается в правильности попытки покушения на жизнь Гитлера. Он произнес слова, впоследствии ставшие известными.
— Теперь на нас взвалят все грехи, — сказал он. — Но только мое убеждение непоколебимо. Мы все сделали правильно. <…> Через несколько часов я предстану перед Богом и буду призван к ответу за свои действия и ошибки. Я верю, что сумею защитить все, что осознанно сделал в борьбе против Гитлера. Когда-то Господь пообещал Аврааму пощадить Содом, если в городе окажется хотя бы десять праведников. Я надеюсь, что он сбережет Германию именно благодаря тому, что мы сделали, и не уничтожит ее. Никто из нас не должен жаловаться на судьбу. Любой, кто решает присоединиться к движению Сопротивления, надевает на себя рубашку Несса. Ценность человека велика лишь тогда, когда он готов пожертвовать жизнью за свои убеждения».
Тресков поехал на линию фронта, где покинул своих товарищей и отправился один на опаснейший участок ничейной земли, за которым начинались русские позиции. Вскоре после этого спутники Трескова услышали выстрелы. Создавая видимость перестрелки, он произвел несколько выстрелов в воздух, после чего подорвал себя ручной гранатой.
Штюльпнагель перед лицом неминуемого ареста, допроса и смерти был собран и спокоен. Примерно в семь часов утра 21 июля он ушел с вечеринки, если, конечно, происходившее в офицерском клубе можно было так назвать, и уничтожил все бумаги, которые оставались в его личных апартаментах. Пока гестаповцы и эсэсовцы наслаждались жизнью, пожиная плоды победы, заговорщики ускользали по одному, чтобы уничтожить компрометирующие документы — что-то рвали на мелкие клочки, что-то сжигали, задыхаясь от едкого дыма, в офицерских туалетах. Затем Штюльпнагель направился в свой кабинет в отеле «Мажестик», чтобы разобраться с опасными документами там. Его секретарь, графиня Подевильс, в восемь часов утра нашла его за работой.
Роковой приказ поступил часом позже от Кейтеля. Штюльпнагелю предписывалось немедленно прибыть в Берлин, причем было настоятельно рекомендовано лететь самолетом. Только у генерала были другие планы. Он решил ехать на машине. Отправив сообщение, что прибудет в Генеральный штаб на следующее утро ровно в девять часов, он попрощался с коллегами и в одиннадцать тридцать покинул свой кабинет, чтобы перекусить в «Рафаэле» перед дальней дорогой. После этого Штюльпнагель сел в машину, но не успел отъехать, как заметил бегущую к нему графиню Подевильс. Преданная секретарша почувствовала, что видит своего генерала в последний раз, и захотела еще раз попрощаться. Когда машина тронулась в путь, женщина разрыдалась.
В тридцати милях к востоку от Парижа машина сломалась. Штюльпнагелю пришлось ожидать замены до трех часов. Донельзя измотанный, генерал несколько часов подремал в гараже. Когда путешествие возобновилось, начался весьма опасный участок пути лесной зоны Аргонна, где в засадах часто поджидали отряды маки. Они проехали Верден, пересекли Маас, и тут Штюльпнагель удивил водителя, приказав ему сделать крюк к Седану{55}. Там находилось поле боя, где храбро сражались и погибли многие солдаты его полка. Штюльпнагель, глядя в карту, развернутую на коленях, точно командовал, куда ехать. Возле Вахеравиля генерал приказал остановиться. Он сказал, что хочет немного прогуляться и снова сядет в машину у следующей деревни.
Близился вечер, и спутники Штюльпнагеля нервничали. Они отъехали на небольшое расстояние и остановились на обочине дороги. В это время и раздались выстрелы. Немцы развернули машину и помчались к тому месту, где оставили генерала. Его нигде не было видно. Не зная, где искать, они спустились к берегу расположенного поблизости канала и увидели Штюльпнагеля. Его тело плавало в воде лицом вверх, а руки стискивали горло. Спутники вытащили генерала на сушу. Должно быть, его подстрелили партизаны. Один глаз был выбит пулей, вошедшей в голову справа. Когда немцы поняли, что Штюльпнагель еще жив, его как могли перевязали и отвезли в госпиталь Вердена. Его ремня, фуражки и Рыцарского креста так и не нашли.
Когда новость о происшествии достигла Парижа, по французской столице начали распространяться самые разнообразные слухи. Что это было? Самоубийство? Нападение партизан? Или, может быть, новые методы гестапо? Никто не знал. Помощника Штюльпнагеля Баумгарта, беспокойно дремавшего в своем номере в отеле «Галлия», разбудил телефонный звонок. Еще не до конца проснувшись, он схватил трубку, убежденный, что кто-то предупреждает его о грядущем визите гестапо. Его страх отнюдь не уменьшился, когда он услышал в трубке незнакомый голос. Некто, не пожелавший назваться, сказал, что Штюльпнагеля ранили террористы и он находится в военном госпитале Вердена.
— Вы отправитесь к нему завтра, — добавил странный голос.
— Кто вы? Что вы хотите?! — воскликнул расстроенный и сбитый с толку Баумгарт, но неизвестный собеседник уже повесил трубку. На следующий день Баумгарт узнал от Линстова, что тот всю ночь пытался дозвониться до его номера в «Галлии», но телефон не отвечал, что было очень странно. Тем не менее Баумгарт немедленно вызвался поехать в Верден. Там он узнал, что генерала прооперировали, сделали переливание крови и он будет жить, но, поскольку пуля перебила зрительные нервы, останется слепым. Он также выяснил, что медики уверенно говорят о попытке самоубийства.
Герделер, несмотря на то что общение с ним стало чрезвычайно опасным, еще не растерял друзей. В дни, непосредственно предшествовавшие покушению, он находился в Берлине, проводя по нескольку часов в домах своих друзей и знакомых. В конце концов его коллега генерал Герхард Вольф, служивший в транспортном управлении полиции, настоял на его отъезде (на полицейской машине с фальшивыми номерами) в Херцфельде, где было относительно безопасно. Там он его оставил поздно вечером 19 июля, предоставив самостоятельно дойти пешком до поместья его друга барона Паломбрини, который к тому времени уже находился под подозрением гестапо за укрывательство заговорщиков.
Человек, который уже мог стать канцлером Германии, был подавлен и встревожен. Он не сказал Паломбрини, почему так отчаянно нуждался в убежище: чем меньше хозяин знает, тем лучше для него. В пятницу, на следующий день после покушения, ему удалось ускользнуть из поместья в другое укрытие, расположенное немного дальше, причем сделал он это очень вовремя. Вскоре после его ухода гестапо арестовало Паломбрини. В Берлине в это же время был арестован Попиц.
Гизевиусу повезло немного больше. Он прекрасно понимал, что гигантский рост делает его заметным в любой толпе. Поэтому он оставался в подвале дома Штрюнков до семи часов утра, после чего отправился в переполненном вагоне пригородного поезда в центр Берлина, чтобы поискать связи, которые помогли бы ему выбраться из Германии. В первый день ему не удалось найти ничего подходящего, однако ночь он провел в доме еще одного друга — Ганса Коха, который, хотя и был очень осторожным человеком, предложил Гизевиусу свое гостеприимство. Выбраться из Германии ему не удавалось еще шесть месяцев.
Фон Хассель, находившийся вместе с сыном Вольфом в Потсдаме, решил остаться в Берлине и спокойно ожидать неминуемого ареста. Он и его супруга очень страдали из-за вынужденной разлуки в эти последние дни свободы, однако он оставил ей четкие инструкции относительно урегулирования их частных дел. Фон Хассель написал жене в Мюнхен, где каждый день велись воздушные налеты, что Бек «умер на боевом посту», и очень сожалел о кончине «этого благородного человека».
Хофакер в панике поспешил к своим парижским друзьям. Им владела только одна мысль: уехать за границу и скрываться. Вечером 21 июля сотрудники штаба Штюльпнагеля, участвовавшие в заговоре, собрались у него, чтобы обсудить, как вести себя дальше. После этого Хофакер взял себя в руки и согласился с тем, что разумнее всего будет на следующий день, в субботу, появиться на службе и попросить отпуск для отъезда в Германию. А уж оказавшись в Германии, он сможет исчезнуть и делать то, что сочтет нужным. В тот же вечер Бойнебург устроил еще одну «примирительную» вечеринку для Оберга и его старших офицеров, по окончании которой Оберг подарил коменданту города, сутками раньше отдавшему приказ о его аресте, изящно оформленную коробку сигар, приобретенную на черном рынке Парижа.
А Бонхёффер продолжал отбывать заключение в тюрьме Тегель. 21 июля он написал оттуда длинное письмо о необходимости веры, в котором, в частности, указал: «Как может человек позволить себе возрадоваться успеху или впасть в уныние от горечи поражения, если все это ничтожно по сравнению со страданиями Господа! Надеюсь, вы меня понимаете, несмотря на краткость изложения. Я очень благодарен за то, что мне было дано это понять. Я осознаю, что никогда бы не сумел постичь эту истину, если бы не выбрал именно такой путь. Вот почему я думаю с благодарностью о прошлом и о настоящем. Возможно, вас удивит тон моего письма. Но если я чувствую необходимость высказать свои мысли, с кем я должен поделиться? Да поможет нам Бог пережить это время, но прежде всего да направит он нас по пути к себе!»
2
21 июля рука гестапо стала более сильной и энергичной. Время относительной свободы для людей, находившихся под подозрением, закончилось. Кальтенбруннер стал главой специальной комиссии, вплотную занявшейся заговором 20 июля. Повсеместно шли допросы, в процессе которых нередко применялись пытки, — так приказали Гитлер и Гиммлер. Опасения, что заговор может повториться, заставляли нацистских лидеров стремиться любой ценой выявить имена всех его участников, даже если это участие было лишь косвенным. Поэтому при допросах нацисты не гнушались даже самых жестоких методов{56}.
После неудачной речи Гитлера рано утром в пятницу Геббельсу и Гиммлеру было предоставлено решить, что именно нацисты пожелают довести до сведения внешнего мира о событиях 20 июля. После визита в Растенбург Геббельс 26 июля произнес по радио весьма искусную речь, в которой максимально использовал новые полномочия, данные ему накануне фюрером, назначившим его ответственным за ведение тотальной войны. Министр пропаганды получил приказ поставить под ружье новую армию численностью миллион человек. Он говорил о «жестоком ударе исподтишка», нанесенном фюреру Штауффенбергом, которого назвал «злобным и порочным человеческим существом», собравшим вокруг себя «ничтожную кучку предателей». Позор, павший из-за этого на весь народ, необходимо смыть подъемом активности на фронтах войны. Это был заговор, заявил он, «подготовленный в стане врага», хотя для закладки бомбы британского производства рядом со священной особой Гитлера были использованы «презренные ублюдки, носившие немецкие имена». «После всего этого, — вдохновенно вещал Геббельс, — я могу сказать только одно: если избавление фюрера от страшной опасности не является чудом, тогда на свете больше нет чудес. <…> Мы можем быть уверены, что Всевышний не мог проявить нам свою волю яснее, чем посредством чудесного спасения фюрера». В узком кругу он говорил: «Понадобилась бомба под задницей, чтобы фюрер стал видеть очевидное».
Гиммлер, водворившись на Бендлерштрассе, не отпускал Скорцени до 22 июля. В день своего назначения командующим армией резерва он решил, что события 20 июля лежат на совести всей немецкой армии. Об этом он заявил 3 августа в речи перед гаулейтерами в Позене. Он заявил, что царящий в армии дух следует коренным образом изменить, проведя публичные показательные процессы над виновными.
Затем Гиммлер поведал миру, как лично он отомстил Штауффенбергу и остальным заговорщикам (вернее, их телам), которые сумели избежать допроса гестапо.
«Они были зарыты в землю так быстро, что оказались похороненными вместе со своими Рыцарскими крестами. На следующий день их выкопали из могил, чтобы установить личности. После этого я приказал сжечь тела, а прах развеять в поле. Мы не желаем, чтобы на земле осталось хотя бы какое-то напоминание об этих людях. Они не заслужили даже могилы».
Судебные процессы в Берлине начались 7 августа, при этом аресты все еще продолжались, равно как и зверские допросы. В первые же выходные после покушения расследование началось и в Париже. Хофакер, внешне совершенно спокойный, субботний день провел за столом в своем кабинете, а на следующее утро посетил собрание офицеров, устроенное Блюментритом, ставшим преемником Штюльпнагеля. После этого Оберг приступил к допросам. Первыми следовало задать вопросы Линстову, Баумгарту и графине Подевильс. Линстов, обладавший излишне чувствительной натурой и слабым здоровьем, занервничал, смешался и сказал достаточно, чтобы возбудить первые подозрения о прямой связи Штюльпнагеля с заговором. Он был помещен под домашний арест в своем номере в отеле «Рафаэль», где под влиянием нервного напряжения совсем потерял голову. Даже не подумав о возможных последствиях, он сбежал из отеля, чтобы найти утешение в кругу товарищей.
В воскресенье вечером Хофакер получил документы, позволявшие ему отправиться в отпуск, но он продолжал проявлять нерешительность и оставался в Париже, встретился с друзьями, чтобы обсудить, как вести себя в Германии, и по причинам, которые установить уже никогда не удастся, не уехал и на следующий день. Возможно, он почувствовал, что опасность лично для него уменьшилась или, наоборот, возросла уверенность в себе. А возможно, он беспокоился о судьбе своей жены и пятерых детей, которые могли пострадать, если он начнет скрываться. В общем, какими бы ни были причины его колебаний, в конечном итоге оказалось, что он выжидал слишком долго. Оберг исключил Хофакера из числа подозреваемых, но Берлин нет. Поздно вечером в понедельник он получил еще одно предупреждение об опасности и рекомендацию скрыться, но не внял им и остался в Париже. Во вторник утром он был арестован гестапо в доме своих друзей. В тот же день были арестованы Финк и Линстов и отправлены в наручниках и гражданской одежде в Германию для допроса и суда.
Оберг, будучи в прошлом военным, старался действовать, соблюдая осторожность. 25 июля в личной беседе он получил полное признание от Штюльпнагеля в Вердене. В тот же день Хофакер тоже продемонстрировал полную откровенность во время допроса Обергом в «Мажестике» в присутствии Блюментрита. Штюльпнагель брал всю вину на себя, да и Хофакер всячески старался избегать разоблачений, если в них могли быть замешаны другие люди{57}. Он ничего не сказал ни о своей миссии в Ла Рош-Гийон, ни об аргументах, которыми пытался воздействовать на несговорчивого Клюге. Оберг выслушал признание молча и весьма благожелательно.
Как только врачи разрешили перевезти Штюльпнагеля, его отправили из Вердена в Берлин, где поместили для допроса вместе с Линстовом и Хофакером. Согласно донесениям гестапо, Линстов на допросах признался, что присоединился к Штюльпнагелю, поскольку все сотрудники штаба военного коменданта в Париже предполагали, что эсэсовцы устроили в Берлине путч, и армия должна была принять меры к нераспространению этой беды во Франции. Также он заявил, что, когда речь зашла о подчинении приказам с Бендлерштрассе, он не хотел отрываться от товарищей. Кальтенбруннер в своем донесении о Линстове, отправленном Борману, писал, что «клика офицеров» больше заботилась о сохранении верности друг другу, чем фюреру. В документах гестапо о Штюльпнагеле говорилось, что он на допросах решительно отказался дать толкование своим действиям, чтобы избежать обвинений.
Процесс Штюльпнагеля, Линстова, Финка и Хофакера состоялся 20 августа. Записи о ходе его не сохранились. Секретное донесение о процессе, написанное для Бормана одним из его сотрудников, содержит информацию о том, что Штюльпнагель вел себя как настоящий солдат, спокойно признал свою вину и был «kurz, knapp, lebendig» — кратким, точным, осторожным. Хофакер тоже вел себя очень мужественно, иногда даже вызывающе. В донесении сказано: «Хофакер в конце сделал неслыханно (ungeheuerlich) хвастливое заявление. Он сказал, что 20 июля имел такое же право действовать, как Гитлер после мюнхенского путча в ноябре 1923 года. Хофакер, похоже, не сознает, что стал предателем». Штюльпнагель и Линстов были повешены на Плетцензее 30 августа, Финк — 31 августа. Хофакера продержали в гестаповской тюрьме до 20 декабря в надежде выбить из него полезные сведения.
26 июля в Берлине фон Хассель в последний раз пообедал в «Адлоне» вместе со своими сыновьями Вульфом и Гансом Дитером. 24 июля он случайно встретился в Грюневальде с Гизевиусом. Последний тщетно ожидал случая выбраться из Германии и, по словам Хасселя, был подавлен неудачей заговора и своим неучастием в его активной подготовке. А Гизевиус описывал, что «голова Хасселя была странно наклонена, словно он старался спрятаться от ужасной опасности, которая шествовала за ним по пятам». Впоследствии Гизевиус вспомнил, что при взгляде на Хасселя подумал: «Вот идет человек, за которым следует смерть».
28 июля фон Хассель был арестован в своем кабинете. Он встретил агентов гестапо сидя за столом, словно они были обычными посетителями. В тот же день среди ночи два гестаповца пришли к нему в дом в Мюнхене, разбудили жену и приступили к обыску. Ильзе фон Хассель удалось отвлечь их внимание от фотоальбома, где лежали последние странички из дневника ее супруга. Агенты арестовали ее вместе с дочерью и отвезли в мюнхенское гестапо.
28 июля Вульф фон Хассель явился в берлинское гестапо и потребовал, чтобы ему разрешили разделить судьбу отца. Он сказал, что знал все, что известно его отцу, и если гестаповцы арестовали отца, то обязаны задержать и его. Но гестаповцы сочли этот поступок глупым жестом и отпустили его в Мюнхен, где он энергично взялся за освобождение матери и сестры, утверждая, что они невиновны, как и он сам. Вульфу удалось освободить женщин. Правда, их ограничили в передвижении, обязали оставаться в районе Эбенхаузен, где они жили.
31 июля Герделер все еще скрывался от гестапо. Наступил его шестидесятый день рождения. 25 июля он вернулся в Берлин, где жил поочередно у разных товарищей. Он знал, что гестапо известно о его назначении теневым канцлером, а Би-би-си передало, что за его голову установлена награда в один миллион марок. Герделер «отпраздновал» день своего рождения в доме мелкого клерка Бруно Лабедцки, который даже не знал его, но по доброте душевной предоставил стол и кров. Чтобы занять свое время, Герделер написал небольшой трактат о будущем Германии, которое, по его утверждению, должно было зависеть от соблюдения христианских принципов. Он никогда не одобрял убийства. «Вы не должны убивать», — не уставал повторять он. Неудачу Штауффенберга он расценил как знак свыше. Он сказал племяннице, фрау Гельд, что не надеется на спасение и понимает опасность, которой подвергаются те, кто предоставляет ему убежище.
Желая в последний раз увидеть свой дом в Западной Пруссии и поклониться могилам родителей, Герделер ночью 8 августа выехал из Берлина, имея при себе лишь рюкзак и трость. Пропуска у него не было, поэтому окольный путь до Мариенбурга занял два дня и две ночи. Ночь с 10 на 11 августа он провел в зале ожидания Мариенбургского вокзала. Утром он заметил слежку и понял, что его узнали. Пришлось потратить день, чтобы, петляя по городу и окрестностям, оторваться от хвоста. На следующее утро — 12 августа — совершенно измотанный, Герделер зашел поесть и передохнуть в небольшую гостиницу в Конрадсвальде, где его узнала старая знакомая. Она не остановилась перед предательством{58}. Когда за ним пришли, Герделер сделал слабую попытку скрыться в ближайшем лесу, но, когда его окружили, сопротивления не оказал.
Через пять дней — 17 августа — Шлабрендорфа разбудили рано утром и сообщили, что он арестован. Когда наступил тот самый момент, о котором он так часто с ужасом думал и которого ждал почти месяц, что-то удержало его от самоубийства. Он даже не воспользовался двумя реальными возможностями побега от своих охранников, пока его везли из Польши в Берлин. У него появилось некое внутреннее убеждение, что ему необходимо пройти через заключение и допросы и тогда он останется в живых. К тому же он опасался за семью, за которую могло взяться гестапо, если он сбежит. Итак, 18 августа его доставили на Принц-Альбрехтштрассе и поместили в одиночную камеру.
В то время как Шлабрендорфа везли в Германию, Клюге получил от Гитлера весьма холодное уведомление об увольнении, доставленное его молодым преемником — фельдмаршалом Вальтером Моделем. Модель вел себя очень вежливо, однако Клюге был ошеломлен страшной новостью. Гитлер даже не потрудился направить ему личное послание о смещении с должности. Блюментрит не мог сообщить фельдмаршалу ничего успокаивающего. Клюге чувствовал себя ответственным за тяжелое положение во Франции. Ла Рош-Гийон уже обстреливали быстро наступающие союзнические войска. Так, 18 августа Клюге тоже оказался перед фактом будущего допроса в Германии. Он написал письма Гитлеру, своей жене, сыну и выехал в Берлин на служебном автомобиле. Водитель несколько раз слышал, как фельдмаршал разговаривал сам с собой. Около Вердена Клюге приказал остановиться, чтобы перекусить. Лежа на коврике в тени развесистого дерева, он принял яд и умер. В письме Гитлеру он сообщил об этом предполагаемом шаге.
«Мой фюрер, я всегда признавал ваше величие, вашу железную волю, которая поддерживала вас и национал– социализм в трудные минуты. Вы провели великую и почетную битву. <…> Проявите свое величие еще раз и положите конец безнадежной борьбе. <…> Я ухожу от вас, оставаясь ближе к вам, чем вы это представляете».
Шлабрендорф вскоре оказался в группе воистину выдающихся заключенных. Периоды одиночного заключения нарушались вызовами на допросы и посещениями душевой, куда также приводили других обитателей тюрьмы. Среди них были Остер, Хассель, Герделер, Мюллер, Попиц, Лангбен и даже Канарис и Фромм. Хотя заключенным было запрещено разговаривать, все же им удавалось переброситься несколькими словами. Охранники часто проявляли показное дружелюбие, бывшее одним из методов добывания информации у людей, которые никогда не знали, что их ждет в ближайший час, и потому их нервы были напряжены до предела. Зачастую кто-то из охранников, обычно старый полицейский служака, выказывал враждебность к Гитлеру и симпатию к его врагам, а некоторые заключенные, назначенные на выполнение хозяйственных работ, старались сделать то малое, что они могли, для людей, являвшихся членами движения Сопротивления.
Первый допрос Шлабрендорфа вел комиссар Хабекер из криминальной полиции. На заключенного надели кандалы и отвели в комнату для допросов. Хабекер стал требовать признания, утверждая, что имеет показания многих свидетелей и не сомневается, что Шлабрендорф напрямую замешан в покушении на жизнь Гитлера. Но только Шлабрендорф интуитивно почувствовал, что гестапо почти ничего не знает о его деятельности, и решил все отрицать. У него было некоторое представление о методах гестапо — ложь о множестве свидетелей, поддельные документы и письменные показания. Шлабрендорф упорно отрицал все, и гестапо перешло к следующей стадии допросов.
Первым делом его сковали цепями по рукам и ногам и оставили в таком состоянии на весьма продолжительный период. Это лишь в первое время укрепляет стремление бороться, а потом ведет к тяжелой депрессии. Как и остальные узники, Шлабрендорф жил впроголодь и мог быть вызван на допрос в любое время дня и ночи. Допросы зачастую продолжались много часов. Шлабрендорф неустанно повторял, что ничего не знал ни о заговоре, ни о его участниках. Следствие зашло в тупик. Гестапо нужно было не столько признание Шлабрендорфа о его собственном участии, сколько информация о других заговорщиках.
По словам Шлабрендорфа, меры третьей степени и пытки усиливались с ростом разочарования допрашивающих: долгие периоды ожидания в приемной перед вызовом к следователю, разная техника допроса, быстро сменяющие друг друга. За оскорблениями и побоями следовали спокойная беседа, затем призывы к чести и совести, разговоры о присяге, потом снова оскорбления… Все это было рассчитано на уничтожение воли к сопротивлению. Комиссар часто бил Шлабрендорфа по лицу, но что было стократ хуже — он позволял этим заниматься своей секретарше, двадцатилетней девице, которая получала явное удовольствие, нанося удары закованному в кандалы и наручники беспомощному человеку, и даже часто плевала на него. Шлабрендорф держался стойко и приводил следователей в еще большую ярость, спокойно указывая на незаконность их действий.
Однажды ночью Шлабрендорфу пригрозили пытками, если он будет продолжать упорствовать, но он не сдался. Пытал его сам Хабекер вместе с секретаршей. Вначале сковывали руки наручниками за спиной, после чего пальцы поочередно вставляли в специальный аппарат, который загонял шипы в кончики пальцев.
Затем аналогичным устройством зажимались его ноги и бедра, а его самого привязывали к специальному каркасу, наподобие кровати, накрывали голову одеялом и при помощи винтов загоняли в нижние конечности острые зубцы. А далее — средневековое растяжение на раме, которая позволяла растягивать привязанное тело либо постепенно, либо болезненными рывками. Вслед за этим — избиение жертвы тяжелыми битами, так что его тело, связанное в наклонном положении, постоянно падало вперед всей своей тяжестью на голову и лицо. Комиссар сам руководил пытками и откровенно наслаждался зрелищем. Все эти методы были направлены не только на причинение сильной боли допрашиваемым, но и на достижение максимально возможных их унижений.
Пытки закончились только после того, как Шлабрендорф потерял сознание. Когда его волокли в камеру, даже охранники пришли в ужас. Его бросили на кровать. Одежда и нижнее белье, превратившиеся в лохмотья, были пропитаны кровью. Шлабрендорф был силен физически, но все же на следующий день не смог подняться из-за сердечного приступа. Ему дали немного прийти в себя, после чего пытки возобновились.
Шлабрендорф знал, что другие заключенные подвергаются такому же обращению. Впоследствии он писал: «Мы все обнаруживали, что человек способен выдержать куда более сильную боль, чем он мог себе представить. Те из нас, кто никогда не молился, научились этому в застенках и почувствовали, что молитва, и только молитва может дать утешение в таких нечеловеческих условиях и добавить выносливости. Мы также убедились, что благодаря молитвам наших друзей и родственников в нас вливаются потоки силы».
Когда комиссар пригрозил Шлабрендорфу еще более зверскими пытками, тот начал готовиться к самоубийству. Затем он неожиданно придумал, как можно сделать признание, представившееся ему совершенно безопасным. Он же мог безбоязненно сказать, что его друг Тресков «намеревался оказать давление на Гитлера, чтобы вынудить того уйти с поста верховного главнокомандующего вооруженными силами, уступив его одному из фельдмаршалов»! Невероятно, но это признание удовлетворило гестапо. Следователи в собственных глазах оказались победителями, и Шлабрендорфа избавили от дальнейших пыток. Позднее ему сообщили, что он был признан виновным по четырем пунктам обвинения. Будучи христианином, барристером, офицером и аристократом, он вел крайне подозрительную деятельность. Его формально уволили из армии на суде чести, проведенном в его отсутствие под председательством Кейтеля.
Самую удивительную и противоречивую реакцию на гестаповские методы проявил Герделер. Как утверждает его биограф Герхард Риттер, «он был убежден, что полиция все равно вырвет у него правду, и с самого начала решил ей помогать». По словам Кальтенбруннера, исчерпывающие показания Герделера и его «точная информация» оказались чрезвычайно ценными. Его ставили в пример другим заключенным как человека, чье образцовое поведение при допросах заслуживает высочайшей похвалы.
Результатом стал всеобщий страх, воцарившийся среди узников, которые были убеждены, что Герделер не выдержал пыток и во всем признался. А поскольку ему всегда сопутствовала репутация человека неосторожного и неблагоразумного, люди уверились в его предательстве. Однако не следует забывать, что, когда Герделер был арестован, главные действующие лица заговора уже были мертвы или находились под арестом. Его роль в заговоре, так же как и роли остальных, по большей части уже была известна из захваченных документов. Кроме того, Герделер не был готов поддержать покушение на жизнь Гитлера. По его мнению, поспешные действия Штауффенберга и его вмешательство в политику были грубыми ошибками, и именно они в конечном итоге стали причиной поражения заговора. Главный процесс 7–8 августа уже состоялся, и на нем прозвучали признания, заявления и разоблачения.
Иначе говоря, реакция Герделера на допросы была противоположной реакции Шлабрендорфа. Создается впечатление, что он решил вывалить на следователей груз улик, которые необходимо проверять и перепроверять, но которые, по его мнению, никому не могли принести вреда большего, чем уже принесен. Не отказываясь говорить, он избавил себя от зверских пыток, хотя через многочисленные специально создаваемые заключенным неудобства ему все же пришлось пройти. Их описал Риттер, который после 20 июля тоже попал в тюрьму. Речь идет о «перегреве камер, слишком тесных, особенно по ночам, кандалах, ярком свете, направляемом в лицо узника, который пытается спать, голодании». Мюллер, чья камера находилась рядом с камерой Герделера, утверждал, что неоднократно слышал, как тот «выл от голода».
Герделер хотел обмануть мучителей своей мнимой разговорчивостью, делая заявления, одни из которых были абсолютной правдой, другие — полуправдой, а часть продуманной ложью, направленной на дезориентацию гестаповцев. Шлабрендорф утверждает, что Герделер спас ему жизнь, согласившись во время мимолетной встречи в тюрьме отрицать их знакомство. Риттер также побывал на допросе с Герделером и заявил, что тот делал удивительно полные, всеобъемлющие заявления, которые в то же время были сформулированы очень умно и «в критических моментах окрашены так, что могли быть поставлены мне скорее в заслугу, чем в вину. Он, казалось, инстинктивно уловил те линии, на которых я пытался строить свою защиту, и слушавшие его следователи верили каждому слову, потому что он повторял то, что говорил я». Очевидно, Герделер имел целью спасти себя и своих друзей, затянув следствие до неизбежного краха Германии и на Восточном, и на Западном фронтах. Однако его признания вели к аресту многих людей, имевших отношение к заговору, и его стали подозревать в предательстве.
В конце концов, по утверждению Риттера, в расследовании Кальтенбруннера приняло участие более четырех тысяч следователей и прочих должностных лиц, и при этом было арестовано около семи тысяч человек. Основная часть этой гигантской работы была выполнена в течение восьми недель после 20 июля. Следователи трудились день и ночь. Когда же расследование заговора против Гитлера, углубляясь и расширяясь, затронуло уже события 1938 года, это так потрясло фюрера, что он запретил представление в суд документальных свидетельств, среди которых были бумаги Бека и Канариса, найденные в Цоссене, без специальной санкции, и процессы были несколько задержаны.
Риттер объясняет и защищает вовлечение Герделером такого большого числа людей в заговор не только стратегией, направленной на затягивание любых итоговых акций Гитлера, но и идеалистической попыткой наглядно продемонстрировать степень ненависти к фюреру, существовавшей во всех сферах жизни Германии — в академических, официальных, экономических и политических кругах, в церкви и вооруженных силах. Очевидно, Герделер непоколебимо верил, что каждый гражданин в столь решающий для страны момент обязан открыто выйти вперед и заявить о своих убеждениях, а не прятаться в тени, пока другие становятся мучениками идей, которые должны разделить все здравомыслящие люди. Кальтенбруннер откликнулся на такой подход и делал свои донесения фюреру как можно более подробными, чтобы во всех деталях продемонстрировать Гитлеру размах заговора против него{59}. Пока Кальтенбруннер и его аппарат день и ночь допрашивали заговорщиков, анализировали информацию и писали донесения, Герделер, оставаясь в тюрьме, принялся излагать свои мысли на бумаге, по окончании отдавая свои признания следователям.
Он предстал перед судом только 7–8 сентября, где столкнулся с прямыми оскорблениями Фрейслера в адрес Хасселя и Лейшнера. В отличие от них Герделер, хотя ему и был вынесен смертный приговор, не был казнен до следующего года. Гестапо не могло позволить себе разбрасываться такими ценными свидетелями.
Хассель некоторое время провел в концентрационном лагере Равенсбрюк, где его видела Пуппи Сарре. Она отметила его невозмутимость и уверенные манеры, которые не смогли не впечатлить даже эсэсовских охранников. Его жизнь в лагере, по словам его сына Вульфа, который не оставлял попыток облегчить судьбу отца, была терпимой. Но 15 августа он был снова доставлен в Берлин, и начались допросы в гестапо. Оставшееся время Хассель посвятил написанию воспоминаний о своем детстве и писем, если ему позволяли. «Тюремная камера, — утверждал он, — хорошее место, чтобы начать мемуары. Видишь свою жизнь и себя самого избавленным от всяческих иллюзий».
3
Руководитель Народной судебной палаты Роланд Фрейслер превзошел даже знаменитого судью XVII века Джефриса{60}, устроив новые «кровавые ассизы», закончившиеся обвинением заговорщиков без соблюдения должных юридических процедур. Гитлер называл Фрейслера «наш Вышинский».
Гиммлер был убежден, что судебные процессы должны стать публичной демонстрацией судьбы, которая ожидает каждого, осмелившегося пойти против режима. Фрейслер, председательствовавший вместе с генералом Германом Рейнеке, руководителем штаба национал-социалистического руководства ОКВ, который постоянно находился рядом с ним, знал, что должен смешать заговорщиков с грязью{61}. Геббельс организовал, чтобы велась киносъемка и звукозапись первого процесса 7–8 августа, на котором среди других обвиняемых должны были выступать Вицлебен, Гепнер, Штифф, Хазе и Петер Йорк{62}. Суд должен был стать проявлением мести нацистов, осуществляемой под личиной народного правосудия, генералам, которых они ненавидели.
Гитлер также назначил членов суда чести в составе Кейтеля, Рундштедта и Гудериана, чтобы уволить из армии всех офицеров, имеющих хотя бы отдаленное отношение к путчу. Поэтому их судили как граждан, навлекших позор на свой мундир.
Во время процесса Фрейслеру исполнилось пятьдесят лет. Его жизненный путь начался в Первую мировую войну, тогда еще совсем молодым человеком он оказался военнопленным в России. Позднее, став коммунистом, он возглавил Совет рабочих и солдат, который временно управлял Касселем в 1918 году. В 1925 году вступил в партию нацистов. Затем стал заместителем министра в Прусском государственном министерстве юстиции, а когда в Берлине возникла так называемая Народная судебная палата, он был назначен ее руководителем. Это случилось в 1942 году. Поскольку Фрейслер счел это назначение шагом назад в своей карьере, он стремился как можно нагляднее продемонстрировать свою преданность идеалам нацизма — целью его честолюбивых стремлений был пост министра юстиции. Он был грамотным юристом — проницательным, остроумным, никогда не лез за словом в карман. Ему были чужды сомнения и милосердие. Предстоящий процесс он рассматривал как знаменательную веху в своей карьере и готовился на нем блистать. Он был не столько смышлен, сколько талантлив, скорее хитер, чем умен, но нельзя забывать, что Мольтке видел в нем «искру гения». Как и Геббельс, он был блестящим оратором, обладал громким, хорошо поставленным голосом, которым умел пользоваться так, чтобы достичь максимального эффекта. И когда Фрейслер оскорблял стоящего перед ним человека, это действовало убийственно, поскольку он почти никогда по-настоящему не выходил из себя.
Зал, в котором проходили процессы, — палата для пленарных заседаний берлинского суда — был заполнен до отказа. Здесь было душно и очень жарко — горели яркие лампы, позволявшие вести киносъемку. Фрейслер, будучи руководителем, сидел в центре длинного стола, по обеим сторонам от председателя поместились члены суда. Слева располагалось место секретаря. Обвиняемый находился непосредственно перед председателем, справа и слева от него сидели охранники. Другие заключенные, чьи дела суду предстояло рассмотреть, ожидали вместе со своей охраной справа от судей. В зале было предусмотрено около двухсот мест для зрителей. Палата была украшена тремя огромными знаменами со свастиками и бюстами Фридриха Великого и Гитлера. Мраморные вершители судеб немецкого народа с холодным достоинством взирали на людей, собравшихся, чтобы послушать нападки Фрейслера — холодный сарказм вперемешку с выкриками (правда, тщательно продуманными и рассчитанными).
На формальности времени не тратили. Обвиняемых привели в зал одетыми в плохо сидящую гражданскую одежду, что выдавало намерение выставить их в невыгодном свете перед камерами. У тех, у кого были зубные протезы, отобрали и эту необходимую вещь. Брюки были без ремней и подтяжек, поэтому их приходилось придерживать руками. Можно представить, как это нервировало и унижало несчастных, находившихся в центре всеобщего внимания. Согласно мнению одного из свидетелей, «заседания были карикатурой на судебный процесс. Эта тенденция отразилась даже в том, как председательствующий судья вошел в зал. На его физиономии застыло театрально свирепое, безжалостное выражение. Создавалось впечатление, что он предварительно долго практиковался перед зеркалом. Вылитый второй Робеспьер. На этом отталкивающем лице с большими, притворно проницательными глазами, наполовину прикрытыми тяжелыми веками, не было и следа гуманности. Его пронзительный голос, словно труба, в нарушение всех соображений секретности, очевидно, был слышен даже на соседних улицах. Он предпочитал напыщенный стиль, к месту и не к месту перемежал свою речь старыми немецкими пословицами, снова и снова повторял одну и ту же фразу».
Неожиданные оскорбительные выкрики Фрейслера, которыми он обычно прерывал любые попытки обвиняемых сделать заявление, были настолько несдержанными, что репортеры кинохроники жаловались на невозможность качественной звукозаписи. Один из осужденных впоследствии говорил: «Стоит ли удивляться, что люди, гордые и мужественные в борьбе, не могли почти ничего сказать в свою защиту? Обвиняемые имели возможность произнести краткую реплику, только когда бдительный тигр, притаившийся в кресле председателя, на мгновение расслаблялся».
Согласно обычному порядку, сложившемуся в немецких судах, председатель допрашивал обвиняемых лично. Поэтому Фрейслер, пользуясь своим привилегированным положением, ставил все вопросы так, чтобы приуменьшить заслуги обвиняемых. Если он не оскорблял их, то зло насмехался над неудачами. Когда называли очередное имя и человек выходил вперед, у Вицлебена автоматически дергалась и приподнималась правая рука — это было нечто вроде нервного тика. Фрейслер немедленно воспользовался ситуацией и объявил это непроизвольное движение нацистским приветствием. Взглянув на Вицлебена, словно удав на кролика, он громогласно потребовал объяснить, какое право имеет человек в его положении пользоваться нацистским приветствием, священным для дела, которое он предал?
После зачтения обвинительного акта Фрейслер, обведя пристальным взглядом зал, потребовал, чтобы была произведена тщательная проверка всех, кому выпала честь присутствовать{63}. Продемонстрировав таким образом свою власть, удовлетворенный Фрейслер обратил все свое внимание на Штиффа — первого из обвиняемых, вызванного на допрос.
Штифф стоял очень прямо. Его слегка сутулая фигура казалась незначительной в неряшливой гражданской одежде, которую он был вынужден носить. Он говорил официально и правильно — как истинный солдат, не показывал никаких эмоций в ответ на намеренное унижение. Фрейслер вознамерился представить его лжецом.
«Фрейслер. Не будет преувеличением, не так ли, если я скажу, что все вначале сказанное вами полиции было ложью? Это так?
Штифф. Я…
Фрейслер. Да или нет?!
Штифф. Я не упомянул о некоторых вещах.
Фрейслер. Да или нет?! Не надо уверток! Вы лгали или говорили чистую правду?
Штифф. Впоследствии я сказал чистую правду.
Фрейслер. Я спросил, говорили ли вы правду на первом полицейском допросе.
Штифф. Тогда я не сказал всей правды.
Фрейслер. Что ж, прекрасно. Имей вы мужество, вы бы сразу ответили прямо: я им лгал».
Затем последовали вопросы о том, когда Штифф впервые услышал о заговоре, прежде всего, благодаря своим контактам с Тресковом и Беком.
«Фрейслер. Посещали вы или нет полковника фон Трескова летом 1943 года?
Штифф. Посещал.
Фрейслер. Говорил ли он вам, что войне следует положить конец, проведя соответствующие переговоры, и что для достижения этой цели фюрера следует устранить?
Штифф. Да.
Фрейслер. И что этого можно добиться, взорвав бомбу на совещании в ставке?
Штифф. Да.
Фрейслер. Вы доложили об этом вышестоящему начальству?
Штифф. Я упомянул об этом в разговоре со своим непосредственным командиром генералом Хойзингером, заместителем начальника Генерального штаба.
Фрейслер. Помимо этого, докладывали ли вы кому– нибудь еще из руководства?
Штифф. Нет.
Фрейслер. Доложили ли вы нашему фюреру?
Штифф. Нет, я этого не сделал.
Фрейслер. Правда ли, что на вашу встречу с генералом Ольбрихтом, состоявшуюся несколько позже, был приглашен Тресков?
Штифф. Да.
Фрейслер. Правда ли, что тогда же вы были представлены генерал-полковнику Беку? Тогда он носил именно такое звание.
Штифф. В тот день или в какой-то другой, я не помню. В любом случае я был ему представлен.
Фрейслер. Правда ли, что генерал-полковник Бек проповедовал такие же идеи?
Штифф. Да.
Фрейслер. И тогда вас спросили, готовы ли вы присоединиться к ним?
Штифф. Да.
Фрейслер. Правда ли, что вместо того, чтобы ударить его по лицу, вы попросили время подумать?
Штифф. Да, это правда».
Штифф не мог ничего сделать, ему оставалось только признать факты, о которых стало известно следствию во время предшествующих процессу допросов. Процесс стал сценой для публичного обличения заговора и его участников. При допросе узников у Фрейслера не возникло никаких трудностей в получении всех необходимых свидетельств. В единственном случае его дешевый и злой сарказм столкнулся с сопротивлением. Это произошло, когда он решил представить обвиняемых предателями немецкого народа.
«Фрейслер. Правда ли, что, когда мы в октябре 1943 года отступали от Днепра, подлый душегуб (Mordbude) граф фон Штауффенберг потребовал, чтобы вы присоединились к нему, и вы не отказались?
Штифф. Он приходил поговорить со мной, и я не отказался.
Фрейслер. Правда ли, что вы не отказались, потому что захотели урвать свой кусок пирога?
Штифф. Да.
Фрейслер. Именно так вы сказали полиции. И вы урвали свой кусок пирога, вот только подавились им. И при этом навеки запятнали свое честное имя. Это, надеюсь, вы понимаете?
Штифф. Я могу только сослаться на заявление, в котором указал свои мотивы.
Фрейслер. Вы поняли, что я сказал?
Штифф. Да, и все же хотел бы сослаться на упомянутое заявление.
Фрейслер. Вы можете ссылаться на него до посинения. Сейчас имеет значение лишь то, что вы нарушили клятву, изменили присяге верности национал-социализму…
Штифф (перебивает). Я присягал на верность немецкому народу».
Фрейслер не мог снести того, что его нагло перебили. Возвысив голос, он громогласно объявил, что немецкий народ и фюрер едины в глазах всех, за исключением разве что таких ублюдков, как Штифф. Затем Фрейслер красочно расписал, как заговор со временем рос и ширился и как Штифф оказался неразрывно связанным с гнусным убийцей Штауффенбергом.
«Фрейслер. Знали вы или нет до 20 июля, что Штауффенберг назначил покушение именно на этот день?
Штифф. Мне сказал об этом генерал Вагнер накануне — вечером 19-го.
Фрейслер. Значит, тем вечером вы были осведомлены о том, что на следующий день свершится ужасное преступление, страшнее которого еще не знала история Германии. Завтра, пока мы все с оружием в руках будем бороться за жизнь и свободу нации, наш великий лидер будет убит. Вы знали даже больше. Вы знали, что завтра ваш соучастник граф Штауффенберг убьет фюрера, подло воспользовавшись его доверием. Вы знали это! Но доложили ли вы об этом?
Штифф. Нет.
Фрейслер. Повторите последнее еще раз и громче!
Штифф. Нет!»
Частью стратегии Фрейслера была изоляция его жертв. Он хотел показать, что в заговоре участвовала лишь кучка безумцев и глупцов, не имевших связи с немецким народом.
«Фрейслер. Как вы считаете, что сказали бы наши солдаты, если бы, включив радиоприемники, услышали, что отныне у руля стоят господин фон Вицлебен и господин Бек? Вы когда-нибудь думали об этом?
Штифф. Конечно.
Фрейслер. Ну и каковы были ваши мысли?
Штифф. В основном меня занимала ситуация на фронтах.
Фрейслер. Иными словами, вы попытались повторить то, что Бадоглио сделал до вас: сказать солдатам, что их искренняя вера не более чем ошибка и в будущем они должны сражаться только во исполнение решений кабинета…
Штифф (перебивает). Нет! За Германию!»
Тот факт, что Штифф перебил его во второй раз, привел Фрейслера в ярость. И он разразился одной из страстных речей, полных пространных разглагольствований, которая заняла не одну страницу в стенографических записях. Он кричал, что Германия и фюрер есть одно целое и это понимают все разумные немцы, а Штифф из-за своих предательских действий лишился права даже говорить о Германии. Затем Фрейслер отослал его, заявив, что не стоит тратить время на продолжение допроса такого субъекта, и вызвал одного из младших офицеров — лейтенанта Альбрехта фон Хагена, который был помощником Штиффа. Призвав на помощь самый едкий сарказм, Фрейслер выставил Хагена на всеобщее посмешище за неопределенность в рассказе об истинной природе его связей со Штауффенбергом.
«Фрейслер. Вы доставили взрывчатку Штауффенбергу?
Хаген. Да.
Фрейслер. И это было все, что вы знаете?
Хаген. Нет.
Фрейслер. Уточните.
Хаген. Я спросил Штауффенберга, зачем ему нужна взрывчатка, и он ответил, что она предназначена для уничтожения правительства. Или фюрера.
Фрейслер. Вы не помните, кого именно?
Хаген. Нет, точно я не помню.
Фрейслер. Вы не помните точно? Подумать только, какой негодяй! Кто-то сообщает ему о своем намерении уничтожить фюрера и правительство, а он просто позабыл об этом!
Хаген. Но мне казалось, что это невозможно, господин председатель.
Фрейслер. Вы не знали, намерен ли Штауффенберг действительно пустить взрывчатку в дело?
Хаген. Я считал, что это невозможно.
Фрейслер. И тем не менее вы ее отдали ему?
Хаген. У него и без меня были бомбы.
Фрейслер. Где он их держал?
Хаген. Насколько я помню, в ящике комода.
Фрейслер. «Насколько я помню»! Похоже, на вас происходящее не произвело серьезного впечатления. Вы доложили об этом?
Хаген. Нет.
Фрейслер. Вы этого не сделали? В таком случае не думаю, что нам стоит тратить на вас время.
Хаген. Я не считал их преступниками, господин председатель.
Фрейслер. Вот как? Скажите на милость, как вам удавалось сдать экзамены по праву? Ведь вы их сдавали, не так ли? Как, черт возьми, вам это удалось? Пока я считал вас просто мошенником. Но последнее заявление показывает, что вы болван, хотя и сдали экзамены».
К тому времени, как Хагену позволили занять свое место, применяемая Фрейслером техника допроса стала ясна обвиняемым, равно как и всем присутствующим на процессе. Он использовал свою власть и инициативу, чтобы выставить обвиняемых дураками или предателями. Из-за такого отношения Фрейслер в конце концов стал объектом для более серьезной критики, чем обвиняемые, которые держались стоически и единым фронтом, а председатель с каждой минутой становился все более вульгарным и несдержанным. Стремясь как можно язвительнее поиздеваться над обвиняемыми, он утратил чувство меры. Бесконечные повторения с сарказмом или злой насмешкой фразы, произнесенной обвиняемым, вскоре превратили допрос в некое театрализованное действо, без намека на серьезность ситуации даже с точки зрения самих нацистов.
Тем не менее прославленная хитрость и собачий нюх Фрейслера позволили ему обнаружить все слабые места в рядах заговорщиков и зло высмеять их. Только одна свидетельница, вызванная на процесс, — это была экономка Бека — удостоилась подчеркнутой вежливости Фрейслера. Он обращался к ней не иначе, как «соотечественница» госпожа Эльзе Бергенталь{64}, после чего начинал играть на ее чести немецкой женщины. Ей следовало признать, что «тропа правды всегда тягостна, поскольку она узка, но вместе с тем проста, потому что является прямой». Фрейслер напомнил женщине, что в суде следует говорить правду ради себя, сохранения своей чести, а не для того, чтобы избежать наказания, предусмотренного за лжесвидетельство. Продемонстрировав таким образом даму суду, а суд даме, он отпустил ее, намереваясь использовать в дальнейшем. Учитывая показания, которые он намеревался от нее получить, это было весьма эффектное начало.
После ухода фрау Бергенталь Фрейслер счел, что настало время допросить основного обвиняемого. И был вызван Вицлебен. Он стоял, нервно комкая пояс своих брюк — иначе они могли попросту свалиться на пол.
Фрейслер велел ему прекратить играть со своей одеждой. Разве у него нет пуговиц? Вицлебен, у которого тоскливо заныло сердце, молча пожал плечами. Он был совершенно беззащитен.
Фрейслер буравил Вицлебена презрительным взглядом. Он вспомнил, как, будучи членом рейхстага, в 1940 году присутствовал на церемонии производства Вицлебена в фельдмаршалы самим фюрером. Она произвела на него неизгладимое впечатление. Какой же черной неблагодарностью ответил новоявленный фельдмаршал на великодушие фюрера, связавшись с предательской кликой Бека!
«Фрейслер. Итак, когда вы и Бек начали волноваться относительно того, что вы сочли ошибками военного руководства, вы начали думать, как исправить положение?
Вицлебен. Да.
Фрейслер. А также кто мог сделать это лучше?
Вицлебен. Мы оба.
Фрейслер. Вы оба? Вы действительно считали, что могли бы справиться лучше? Я не ослышался? Повторите еще раз, чтоб вас могли услышать все!
Вицлебен (громко). Да!
Фрейслер. Должен заметить, это просто-таки неслыханная самонадеянность. Фельдмаршал и генерал-полковник заявляют, что могли бы справиться лучше, чем наш общий лидер, человек, который раздвинул границы рейха на всю Европу, человек, который обеспечил авторитет нашей стране на всем континенте. И вы продолжаете утверждать, что таково было ваше мнение?
Вицлебен. Да.
Фрейслер. Надеюсь, вы извините, если я употреблю такой термин, как мегаломания? Ах, вы пожимаете плечами. Что ж, возможно, этот жест и является лучшим ответом».
Фрейслер обратил себе на пользу признание Вицлебена о трудностях, с которыми заговорщики столкнулись при формировании оперативной группы, которой предстояло взять в плен Гитлера.
«Фрейслер. Итак, Вицлебен, кто должен был возглавить оперативную группу?
Вицлебен. Их еще следовало найти.
Фрейслер. «Их еще следовало найти»! Не могу поверить, что вы это сказали! «Их еще следовало найти»! Среди немецкого народа вы не можете найти таких людей! Вы превзошли даже Бадоглио! Можете зарегистрировать свой патент в аду! Неужели вы действительно верили, что фюрер подобен вам? Неужели вы считали, что с ним можно просто так справиться, без борьбы? Вы и в самом деле так думали?
Вицлебен. Да, я так думал.
Фрейслер. Вы так думали! Подумать только, какая удивительная смесь преступления и глупости! Значит, вы планировали так: лишь только фюрер окажется в ваших руках, он будет делать то, что вы ему скажете!
Вицлебен. Да, это так.
Фрейслер. Это так? Что за дьявольское преступление! Какое злодейское предательство вассалами своего господина, солдатами своего командира, немцами их фюрера!»
Затем Фрейслер сменил тон. Теперь в его голосе явственно слышалось насмешливое, издевательское сожаление. Он заговорил с нарочитой мягкостью, словно действительно беспокоился о здоровье Вицлебена.
«Фрейслер. У вас язва, не так ли? Вам было очень плохо?
Вицлебен. Да.
Фрейслер. Видите ли, я никак не могу разобраться. Можно понять человека, который беспокоится, потому что из-за болезни он не может командовать армией. Но когда такой человек утверждает, что он не настолько болен, чтобы не вмешиваться в заговор… Лично мне это представляется нелогичным. Но, конечно, вы вполне можете мне ответить, что жизнь вообще штука нелогичная, и в общем-то не будете слишком уж не правы».
Снова и снова Вицлебен играл по правилам Фрейслера и с готовностью шел в расставленные ему ловушки. Были восстановлены все перемещения фельдмаршала между его загородным поместьем и Берлином, предшествовавшие покушению.
«Вицлебен. Шверин пришел навестить меня и сказал: «Господин фельдмаршал, следует провести подготовку к завтрашнему дню.
Фрейслер. И вы снова уехали?
Вицлебен. Да, обратно в деревню.
Фрейслер. А разве мы не должны экономить бензин, чтобы из-за его нехватки не останавливались наши танки? Вас этот вопрос уж точно не тревожил.
Вицлебен. Моя машина не использует бензин. Она работает на газовом топливе.
Фрейслер. Но и его необходимо экономить.
Вицлебен. Я не выходил за пределы установленной мне нормы.
Фрейслер. Но она была вам дана совсем не для той цели, для которой вы ее использовали. Полагаю, я выражаюсь достаточно ясно».
В конце концов Фрейслер пришел к выводу, что настало время открыто бросить вызов своей жертве.
«Фрейслер. Вы собирались управлять не для, а против народа! Это правда, не так ли?
Вицлебен. Что заставляет вас так думать?
Фрейслер. Вы действительно собирались управлять против народа!
Вицлебен. Конечно нет!»
Когда Вицлебен поддался минутной слабости и обратился к председателю с просьбой как-то обозначить его теперешнее положение, у Фрейслера не возникло никаких проблем.
«Фрейслер. Значит, вы не слышали выступление фюрера по радио? Вы отсутствовали?
Вицлебен. Да.
Фрейслер. И где же вы были?
Вицлебен. Ездил к Вагнеру.
Фрейслер. Вы все рассказали Вагнеру?
Вицлебен. Да. Он сказал: «Пошли домой».
Фрейслер. Итак, вы пошли домой, и все?
Вицлебен. Вы скажете, наконец, в чем именно меня обвиняют? Какова, по вашему мнению, моя роль в этом деле?
Фрейслер. Это и так ясно. Вы же сами рассказали мне все о себе».
Вицлебену было разрешено вернуться на место, и на допрос был вызван Гепнер — легкая добыча, по мнению Фрейслера. Чего стоила одна только история о военной форме, уложенной в чемоданчик и тайком пронесенной на Бендлерштрассе 20 июля? Хорошо еще, заметил Фрейслер, что он забыл упаковать свой Рыцарский крест, ведь все равно дело кончилось увольнением за трусость. Гепнеру не дали возможности опровергнуть это голословное заявление. Фрейслер вовсю потешился над эвфемистической ссылкой Гепнера на «перемену», которую он хотел видеть в ставке фюрера.
«Фрейслер. Перемена в ставке фюрера? Ну, почему же вы такой трус! Почему вы не говорите прямо, что вы имеете в виду?
Гепнер. Хорошо. Мы надеялись, что ряд генералов смогут повлиять на фюрера, заставить его отказаться от лидерства.
Фрейслер. Повлиять на фюрера? Это уж слишком!»
Фрейслер провел Гепнера по всем этапам событий того дня на Бендлерштрассе, постоянно подчеркивая абсурдность действий, предпринятых выжившими из ума стариками. Он не упустил возможность, опрометчиво предоставленную ему заявлением Гепнера, сделанным на полицейском допросе. В нем Гепнер упомянул об «испытании сил» заговорщиков Бека и нацистских лидеров. С торжествующей улыбкой Фрейслер процитировал фразу.
«Фрейслер. Это правильно?
Гепнер. Это действительно то, что я сказал.
Фрейслер. Очень хорошо. Можете сесть. А теперь мы хотели бы послушать соотечественницу Эльзе Бергенталь. Возможно, она поможет нам получить самую достоверную картину того, каким был человек, захотевший потягаться силами с фюрером».
Фрейслер, как всегда, ловко выбрал момент, чтобы вызвать в качестве свидетеля обвинения фрау Бергенталь. После формальной идентификации личности он начал допрос:
«Фрейслер. Вы работали экономкой. Где?
Бергенталь. У господина генерал-полковника Бека.
Фрейслер. Это раньше он был генерал-полковником! Скажите, был ли он действительно сильной личностью, способной произвести впечатление на немецкий народ?
Бергенталь. Я не знаю, господин председатель. Я бы никогда не осмелилась иметь свое мнение по такому вопросу.
Фрейслер. Вы, наверное, думаете, что это очень сложный вопрос, да и вообще не ваше дело. Как могу я, простая женщина, открыто высказать свое мнение? Но все же кому, как не вам, знать, каким он был человеком. Был ли он тверд, каким должен быть любой солдат? Или же он был склонен к беспокойству и нерешительности?
Бергенталь. Я не смею говорить об этом.
Фрейслер. Ладно, возможно, вы могли заметить, застилая постель по утрам, имелись ли смятые простыни, сбитые одеяла или другие следы беспокойного сна?
Бергенталь. Да, конечно.
Фрейслер. И что это было?
Бергенталь. Последние две недели я была в отпуске, но фрау Кустер говорила мне, что он последнее время сильно потел по ночам, должно быть, из-за волнения.
Фрейслер. Вы имеете в виду, что, когда он утром вставал, его постель была мокрой?
Бергенталь. Да.
Фрейслер. Мне представляется, что это не говорит о твердости, решительности и дисциплинированности этого человека. Вы можете сказать что-нибудь еще, показавшееся вам необычным в последнее время?
Бергенталь. Нет, я не заметила ничего особенного.
Фрейслер. В любом случае человек, который в течение двух недель ночь за ночью беспокойно мечется в своей постели, причем так сильно, что утром простыни остаются мокрыми, имеет наглость заявить: «Это будет состязание сил!» Есть еще вопросы к фрау Бергенталь? Нет? Очень хорошо. Фрау Бергенталь, я не стану приводить вас к присяге. Мы считаем вас честной немкой и верим вашим словам и без всяких клятв. Вы можете идти.
(Обращаясь к Гепнеру.) Итак, обвиняемый Гепнер, выйдите вперед еще раз. Теперь вы сами видите, что именно человек, известный своей нерешительностью, сказал: «Теперь все решит состязание сил!».
Фрейслер продолжал издеваться над Гепнером. Он захотел узнать, почему тот не застрелился вместе с Беком. Гепнер ответил, что думал о своей семье, после чего, не подумав, добавил, что не считал себя таким уж закоренелым негодяем (Schweinehund), чтобы думать о самоубийстве. Фрейслер немедленно ухватился за неудачное слово и потребовал, чтобы Гепнер выбрал животное, с которым мог бы себя сравнить. В конце концов тот был вынужден признать, что является не кем иным, как ослом.
Следующим на допрос был вызван Петер Йорк фон Вартенбург. Фрейслер сразу понял, что на этот раз перед ним человек совсем другого сорта, к тому же имеющий хорошее юридическое образование. Он попытался уязвить обвиняемого, превознося его правдивость на допросах, но сразу после этого сообщил, что была доказана его ложь в некоторых мелких деталях. Первые вопросы Фрейслера Йорку касались его карьеры в качестве юриста и судьи, его членства в партии и связях со Штауффенбергом.
«Фрейслер. Вы никогда не вступали в партию?
Йорк. Нет, я не являлся членом партии.
Фрейслер. И не были связаны ни с одной из ее дочерних организаций?
Йорк. Нет.
Фрейслер. Но почему?
Йорк. Потому что я в принципе не являлся национал-социалистом.
Фрейслер. Что ж, вы выразились вполне определенно».
Йорк, относившийся к жизни со спокойствием истинного философа, не так болезненно реагировал на мелочные нападки Фрейслера, как другие.
«Йорк. Господин председатель, я уже говорил на предыдущих допросах, что не одобрял развития национал-социалистической идеологии.
Фрейслер. Вы не одобряли! Вы заявили, что были против нашей политики искоренения евреев и не одобряли национал-социалистическую концепцию справедливости!
Йорк. Что действительно важно, это связующее звено между всеми этими вопросами: государственный тоталитаризм, господствующий над гражданами, исключающий личные религиозные и моральные обязательства перед Богом».
Ответом Фрейслера стала вторая длинная речь о «глубокой моральной концепции» национал-социализма и об отсутствии доверия к слову чести Йорка, поскольку тот не является национал-социалистом.
«Йорк. Конечно, я чувствовал себя связанным им, господин председатель.
Фрейслер. Что только показывает вашу точку зрения закоренелого анархиста.
Йорк. Я бы не стал так формулировать вопрос».
Позже его допросили о действиях в период, непосредственно предшествовавший 20 июля, и в тот самый судьбоносный день. Йорк не делал попыток уклониться от ответственности.
«Фрейслер. Вы тоже были предварительно уведомлены о предстоящем 20 июля покушении?
Йорк. Да.
Фрейслер. Когда?
Йорк. 18 июля.
Фрейслер. От кого вы узнали? От Шверина?
Йорк. Да.
Фрейслер. Он сказал вам, что это произойдет 20-го, и в тот день уведомил вас снова?
Йорк. Нет. Я приехал довольно поздно.
Фрейслер. Что он вам сказал? Что Штауффенберг уже приземлился в Рангсдорфе?
Йорк. Да.
Фрейслер. И что покушение оказалось удачным?
Йорк. Да. Первое сообщение было именно таким.
Фрейслер. Как ужасно! Подумать только, национал– социализм абсолютно доверял этим людям! Я говорю о графе фон Штауффенберге, графе Йорке фон Вартенбурге и Шверине, который тоже, если я не ошибаюсь, граф!»
Допрос 7 августа завершился вопросами о действиях во время покушения, адресованными младшим офицерам — лейтенанту Фридриху Карлу Клаузингу, который сопровождал Штауффенберга в Берхтесгаден 11 июля, и полковнику Роберту фон Бернардису. После этого ровно в семь часов слово взял общественный обвинитель Лаутц, который до сей поры был молчаливым свидетелем допросов Фрейслера. Его пламенная речь обрушилась на обвиняемых и пригревшую их армию и закончилась требованием наказания в виде смертной казни через повешение.
Фрейслер объявил перерыв до следующего дня, когда должен был состояться допрос последнего обвиняемого — фон Хазе, и вызвал для повторного допроса Вицлебена. Он спросил, почему Вицлебен был уверен в успехе заговора.
«Вицлебен. Я думал, что мы можем рассчитывать на поддержку надежных подразделений.
Фрейслер. Вы имеете в виду «надежных» в вашем смысле?
Вицлебен. Да.
Фрейслер. И это было, как вы сказали, вашей основной ошибкой?
Вицлебен. Да.
Фрейслер. Вы и сейчас так считаете?
Вицлебен. Да.
Фрейслер. Имеется в виду, используя ваши собственные слова, сказанные на допросе в полиции, что «вы ошиблись в главном, неправильно оценив национал-социалистический настрой офицеров»?
Вицлебен. Да».
Таким образом, Вицлебен сыграл на руку Фрейслеру и добавил авторитетности утверждению нацистов о том, что заговор был работой небольшой группы офицеров, у которой не было поддержки в армии в целом. Однако причина неудачи переворота, и сейчас мы это понимаем, заключалась не в поддержке армией национал-социализма, а в недостатке координации и недостаточном понимании необходимых составляющих успешного заговора среди самих заговорщиков. К тому же они не допускали варианта того, что Гитлер после покушения останется в живых. Фрейслер же в Народной судебной палате настаивал, что офицеры, ставшие душой заговора, в действительности были агентами союзников, и даже зачитал ряд выдержек из пропагандистских листовок, сброшенных над Германией. В них Вицлебен и его коллеги сравнивались с Людендорфом и другими офицерами, которые весной 1918 года по собственной инициативе решили искать мира. Генералам, как было указано в листовках, всегда легче судить. «Как бы ликовали наши враги, — с пафосом повторял он, — если бы путч удался! Да и его неудачу они сумеют обратить себе на пользу».
На допросе Хазе признал, что узнал от Ольбрихта о намеченном на 15-е покушении.
«Фрейслер. Что вы ответили?
Хазе. Я не мог ничего ответить. Я был слишком потрясен.
Фрейслер. Но он дал вам точные указания и наверняка ожидал точного ответа? В конце концов, в любой день, в любой момент могло поступить сообщение: «Фюрер убит!» Вы не могли оставить дела в подвешенном состоянии и ничего не предпринимать. Вы были обязаны действовать.
Хазе. Да.
Фрейслер. И что же вы сделали?
Хазе. Сказал Jawohl и вышел, потом получил письменный приказ».
И снова прозвучал обзор событий. Хазе, как и остальные офицеры, стоически прятался за офицерской маской, стараясь говорить как можно меньше. Лаутц потребовал, как и раньше, смертную казнь.
Защитники, когда им дали возможность говорить, один за другим вставали со своих мест и жаловались на свою «неблагодарную задачу». Их общее отношение к своим подзащитным выразил доктор Вайсман, представлявший Вицлебена. Он сказал: «Вы можете спросить: «Зачем вообще вести защиту?» Такой порядок определен буквой закона, и более того, в случаях, подобных этому, долгом защиты, по нашему мнению, является помощь суду в вынесении приговора. Не приходится сомневаться, что на некоторых процессах даже лучший защитник не сможет найти ничего, что можно было бы сказать в защиту обвиняемого…»
Затем обвиняемым предоставили формальную возможность выступить еще раз. Фрейслер очень старался, чтобы никто не мог придраться к порядку ведения процесса, даже когда речь шла о предателях и изменниках. Вицлебен и Йорк решительно заявили, что им нечего сказать. Клаузинг и Бернардис признали свою вину и обратились с просьбой, чтобы их расстреляли, как офицеров, а не повесили. Гепнер сказал, что в своих действиях он не руководствовался личными амбициями, и просил позаботиться о семье. Хаген тщетно уверял, что понятия не имел, для чего нужна взрывчатка, а Штифф, который также попросил, чтобы его расстреляли, сообщил, что вообще был введен в заблуждение и не ведал, что творил.
Затем Фрейслер настоял на передаче в мельчайших подробностях рассказа о самоубийстве Бека и казни Штауффенберга и его ближайших товарищей после проведенного Фроммом военного трибунала. Вероятно, он считал все это удачной прелюдией для вынесения смертного приговора, который собирался вынести. Однако он намеревался провести длительное обсуждение, что и сделал после перерыва на обед. Суд завершил работу в четыре тридцать пополудни.
Как только подсудимым был вынесен смертный приговор, их отвезли в тюрьму Плётцензее для приведения приговора в исполнение. Им было отказано в любой духовной помощи или утешении священнослужителями в тюрьме, но, несмотря на этот запрет, двум протестантским пасторам удалось попасть в камеры осужденных.
По рассказу свидетеля казни, одного из тюремных надзирателей, эти люди были чудовищно одиноки, когда один за другим умирали, ослепленные ярким светом прожекторов, необходимым для ведения киносъемки.
«Представьте себе комнату с низким потолком и побеленными стенами. Под потолком закреплена балка, из которой торчит шесть крюков, вроде тех, которые используют мясники для подвешивания мясных туш. В одном углу стоит камера. Рефлекторы отбрасывают яркий слепящий свет, как в киностудии. В этой странной маленькой комнате находились главный прокурор рейха, палач с двумя помощниками и я с другим надзирателем. У стены стоял небольшой столик с бутылкой коньяка и стаканами — для свидетелей казни.
Ввели осужденных. Они были в тюремной одежде, руки скованы наручниками. Всех построили в ряд. Посмеиваясь и бросая злобные шутки, палач приступил к работе. Он уже давно слыл в своих кругах большим «юмористом». Не было сделано никаких заявлений, отсутствовали священники, журналисты.
Один за другим все десять осужденных приняли свою участь. Вся процедура заняла двадцать пять минут. С физиономии палача не сходила кривая усмешка. Шутки не прекращались. Камеру не выключали ни на минуту. Гитлер пожелал увидеть, как умирали его враги. В тот же вечер он получил возможность просмотреть запись в рейхсканцелярии.
Все проходило по его личному сценарию. Он велел предварительно доставить к себе палача, чтобы обсудить все подробности процедуры. «Я хочу, чтобы они были повешены, хочу видеть, как они висят, словно мясные туши». Это были его слова».
Еще более подробным было повествование одного из операторов.
«Комната была длиной около тринадцати футов, а шириной — двадцати шести. Черный занавес разделял ее на две части. Через два маленьких окошка почти не проникал дневной свет. Непосредственно перед этими оконцами из потолка торчало восемь крюков. На них должны были быть повешены осужденные. В комнате также находилось приспособление для обезглавливания. Бывший генерал был первым осужденным, кого ввели сквозь черный занавес в комнату. Его сопровождали два палача. Вначале в «предбаннике» обвинитель еще раз зачитал смертный приговор осужденным, добавив: «Осужденный, вы приговорены Народной судебной палатой к смертной казни через повешение. Приговор будет приведен в исполнение немедленно».
Осужденный, подгоняемый палачом, шел в конец комнаты с высоко поднятой головой. Придя на указанное ему место, он делал поворот кругом. Ему на шею набрасывали петлю из пеньковой веревки. Затем осужденного поднимали, и верхняя петля веревки надевалась на крюк, торчащий из потолка. После этого осужденного с силой бросали вниз, и петля затягивалась вокруг шеи. Я думаю, что смерть наступала быстро.
Когда первый приговор был приведен в исполнение, перед повешенным задергивали черный занавес, так что остальные осужденные его не видели. Казнь велась очень быстро. Все осужденные шли к месту казни, держась очень прямо. Никто не произнес ни слова жалобы».
В прощальном письме, написанном жене Петером Йорком, которому в момент казни не было и сорока лет, была эпитафия тем, кто умер после 20 июля{65}:
«Кажется, что мы пришли к концу нашей богатой и красивой жизни вместе… Надеюсь, моя смерть будет принята как искупление всех моих грехов и очищающая жертва. <…> Возможно, эта жертва хотя бы немного сократит бесконечное расстояние, отделяющее наше время от Бога. <…> Мы хотим зажечь пламень жизни: нас окружает море огня».
4
«Офицерский» процесс 7–8 августа стал образцом для прошедших в следующие недели. Герделер, Хассель и Лейшнер были среди осужденных 7–8 сентября. Хасселю 5 сентября объявили, что он лишен своего официального статуса отставного гражданского служащего, и в тот же день он получил текст обвинения. По словам его сына, три четверти указанного там было для Хасселя открытием, но в любом случае обвиняемым не дали шанса оправдаться или объяснить свои мотивы. И все же, как пишет Вульф Ульрих фон Хассель, обвиняемые «доставили Фрейслеру немало тяжелых минут». Свидетель, присутствовавший на процессе, рассказал сыну о ходе заседания и образцовом поведении его отца. 8 сентября Хассель был приговорен к смерти, немедленно отправлен в тюрьму Плётцензее, где умер через два часа после оглашения приговора. Его семья узнала о случившемся через три дня из газет.
Хассель знал, что у него нет шансов уцелеть, и потому все его мысли были только о судьбе семьи. В один из последних дней в тюрьме, на несколько минут оставшись наедине со Шлабрендорфом, он сказал ему: «Моя смерть очевидна. Когда выйдете отсюда, пожалуйста, передайте привет моей жене. Скажите, что в последние минуты я буду думать о ней»{66}.
Даже нацистский министр юстиции Отто Георг Тирак, присутствовавший на процессе в качестве наблюдателя, счел необходимым высказать критические замечания о ведении Фрейслером процесса в секретном донесении, отправленном им Борману для передачи Гитлеру: «Ведение председателем процесса было приемлемым и объективным с обвиняемыми Вирмером и Герделером, несколько нервозным по отношению к Лежену-Юнгу. Он не позволил Лейшнеру и фон Хасселю закончить свои заявления, постоянно кричал и обрывал их. Это произвело плохое впечатление, тем более что председатель разрешил присутствовать на процессе примерно тремстам зрителям. Постоянные длинные речи председателя, имевшие в основном чисто пропагандистские цели, оказали неблагоприятное воздействие. От этого серьезно пострадало достоинство нашего суда. У председателя полностью отсутствует хладнокровное превосходство и ледяная сдержанность, совершенно необходимые для подобного процесса. <…> Хайль Гитлер».
Прорыв союзников в Кане представлялся неизбежным, и Роммеля перевели в другой военный госпиталь, расположенный недалеко от Сен-Жермена. 8 августа, в последний день офицерского процесса, его отвезли домой — в Херлинген, что рядом с Ульмом на Дунае. Здесь он пошел на поправку быстрее, хотя один из навещавших его врачей заметил, что ни один человек не мог остаться в живых с такими ранениями. 6 сентября его навестил находившийся под подозрением Шпейдель. Во время беседы Роммель назвал Гитлера «патологическим лгуном», изливающим свой гнев на участников заговора. Роммель отправил послание Гудериану, ставшему начальником Генерального штаба армии, потребовав, чтобы Гитлера лишили возможности командовать раньше, чем Германия будет оккупирована. Он даже предложил свои услуги, поскольку чувствовал себя уже намного лучше. Но другим посетителям он говорил, что Гитлер очень скоро будет мертв, и жаловался, что за его домом постоянно следят.
Роммель был прав. 7 октября его вызвали по телефону на совещание в ставку фюрера в Берлине. Врачи не позволили ему ехать. Тогда Гитлер 14 октября отправил в Херлинген генералов Бургдорфа и Мейзеля, которые привезли «черную метку». Генералы прибыли в небольшой зеленой машине, за рулем которой сидел одетый в черное эсэсовец. После короткой беседы с посетителями Роммель поднялся наверх к жене. Его голос звучал, словно с того света. Ему сказали, что на допросах в гестапо выявлена его причастность к заговору.
— Через четверть часа я буду мертв, — сказал он. — Гитлер предложил мне выбор: яд или суд. Яд они привезли с собой.
К этому времени дом уже был окружен эсэсовцами. Роммель попрощался с женой и сыном и уехал с генералами. Когда они отъехали на небольшое расстояние от дома, Бургдорф заставил Роммеля принять яд. Его тело доставили в Ульм — в военный госпиталь с приказом не производить аутопсию, поскольку все уже решено в Берлине.
Жене сообщили, что Роммель внезапно умер от кровоизлияния в мозг, а народу разъяснили, что смерть явилась следствием ранений в автомобильной аварии. По распоряжению Гитлера Роммеля похоронили с соблюдением всех воинских почестей. Кальтенбруннер, словно мрачная хищная птица, надзирал за церемонией, а Рундштедт был делегирован, чтобы озвучить сожаления партии. «Его сердце принадлежало фюреру», — сообщил он и отбыл еще до кремации, так и не переступив порог дома фельдмаршала. Фрау Роммель пришлось пережить самую страшную насмешку в своей жизни, принимая официальные выражения соболезнования от партийных лидеров во главе с самим Гитлером. Следовало поддерживать иллюзию того, что Роммель был самым популярным военным деятелем в окружении Гитлера.
К осени 1944 года все руководители заговора были казнены, кроме Герделера, смертный приговор которому, вынесенный 8 сентября, пока не был приведен в исполнение. Герделер был слишком важным свидетелем, чтобы его можно было так просто уничтожить. Наступил период затишья. Допросы почти прекратились. Мольтке, Бонхёффер, Донаньи, Мюллер, Герштенмайер и Шлабрендорф все еще находились в заключении.
После 20 июля Донаньи был переведен из гестаповской тюрьмы в концентрационный лагерь Заксенхаузен{67}. Макс Гейслер, работавший санитаром в лазарете, однажды был поднят ночью, чтобы приготовить комнату для нового пациента. Вскоре гестаповцы внесли туда Донаньи на носилках. Его держали в лазарете в полной изоляции, а Гейслеру, выполнявшему роль медбрата, было запрещено разговаривать с пациентом. «В результате жестокого обращения гестапо, — свидетельствует Гейслер, — Донаньи был настолько ослаблен и парализован, что не мог умываться и питаться самостоятельно и даже поворачиваться в постели». Он постоянно мучился от сильной боли и сам сказал Гейслеру, что у него нет шансов на выздоровление. Норвежский пленный врач-терапевт, посещавший пациента, сказал, что в результате жестокого обращения гестапо у Донаньи имелись серьезные внутренние повреждения, а также травма позвоночника. Гейслер нарушил приказ о молчании и вел с пациентом долгие беседы всякий раз, когда они оставались наедине. Он сообщал ему последние новости и отвечал на вопросы.
Гестапо подозревало, что Донаньи помогал в подготовке заговора 20 июля. Гейслер так описывал происходившее в Заксенхаузене: «Первый допрос гестапо после прибытия узника в лагерь длился около восьми часов. Он происходил в помещении службы безопасности блока R1, а уже все следующие допросы велись в лазарете. Гестаповцы всегда принимали меры, чтобы я не мог ничего услышать. Тем не менее пронзительные голоса гестаповцев были отлично слышны сквозь тонкие стены. Эти необразованные деревенщины терзали его как могли. Вне всяких сомнений, в этом неравном состязании Донаньи показал себя лучшей и сильнейшей стороной».
Позднее Донаньи перевели из лазарета в так называемое отделение для отдыха, где, по словам Гейслера, возможностей получить хороший уход было намного меньше. В конце января его отвезли на санитарной машине обратно в Берлин в гестаповскую тюрьму, где уже содержались Бонхёффер и Шлабрендорф.
Начали происходить странные вещи. Совершенно неожиданно Шлабрендорфа отправили из тюремной камеры в Заксенхаузен. Там ему показали стрельбище и сказали: «Теперь ты знаешь, что будет с тобой в ближайшем будущем». Затем его отвели в крематорий и заставили стоять рядом с гробом Трескова, пока его открывали. Шлабрендорф так никогда и не сказал, что он чувствовал, глядя на тело товарища, который лежал в могиле начиная с лета. Перед тем как бросить тело в огонь, у Шлабрендорфа потребовали признание, но он не произнес ни слова. Его не расстреляли, а отправили обратно в тюрьму.
Его процесс не начинался до декабря, когда возобновились долгое время откладываемые слушания. Шлабрендорфа привезли в Народную судебную палату вместе с пятью другими узниками 21 декабря, и он получил возможность увидеть Фрейслера в деле, не представ перед ним лично. Он писал: «Председатель Роланд Фрейслер ввел в практику выискивание даже самых мельчайших проступков и представление их «государственной изменой». Соответственно в большинстве случаев приговором становилась смертная казнь, обычно через повешение. Фрейслер не чурался произнесения длинных пропагандистских речей. По большому счету на этих слушаниях говорил только он, мощи его голоса хватило бы на несколько залов суда».
Свидетельства против Шлабрендорфа оставались настолько слабыми, что он имел все основания надеяться избежать смертного приговора, если изменит признание относительно того, что знал о намерениях Трескова, на основании того, что оно было получено под пытками. Получилось так, что слушание его дела отложили, и последнее заседание состоялось только в феврале, причем при самых драматических обстоятельствах.
Мольтке повезло куда меньше. Его процесс, также некоторое время откладывавшийся, состоялся 10 января, одновременно с процессом Герштенмайера{68} и некоторых других лиц, связанных с «группой Крейсау». Мольтке оставил подробный рассказ о нем в письме, написанном жене из тюрьмы после процесса. Он описал переполненный зал, что было более чем странно, учитывая первоначальное заявление Фрейслера о строгой секретности процесса. Допрос отца Дельпа, который прошел первым, послужил основой для выявления природы дискуссий на собраниях «группы Крейсау», а также для нападок на католическую церковь и иезуитов. По словам Мольтке, оскорбления Фрейслера дождем полились на Дельпа лишь потому, что он позволил проводить встречи группы в своем доме, когда сам отсутствовал.
— Тем самым, — с триумфом воскликнул Фрейслер, — вы сами показали, что отлично знали о происходящем под вашим кровом акте государственной измены. Но, естественно, столь священная, сановная особа, какой вы являетесь, очень беспокоилась о том, чтобы защитить свою голову с выбритой тонзурой от опасности. Поэтому вы и уходили в церковь помолиться, чтобы заговор тем временем развивался так, как это угодно Богу.
Описание Фрейслера, данное Дельпом, является метким и весьма откровенным. «Фрейслер умен, нервозен, тщеславен и заносчив. Он все время играет, причем таким образом, что второй игрок заведомо вынужден занять более низкое положение». Процесс, утверждает Дельп, был специально организован таким образом, чтобы уничтожить обвиняемого, и допускались только такие свидетельства, которые помогали достижению этой цели. «Все вопросы были заранее подготовлены, — писал Дельп, — и горе тебе, если ты давал не тот ответ, который был нужен Фрейслеру. Это расценивалось как иезуитство». Мольтке, по мнению Дельпа, страдал из-за своей связи со священниками и пасторами.
На этом процессе Фрейслер использовал следующий метод: он последовательно одного за другим допрашивал коллег Мольтке, чтобы на основе их показаний выстроить свидетельство против самого Мольтке — главной фигуры на слушании. Мольтке заметил, что Фрейслер всегда говорил об обвиняемых как о «членах группы Мольтке»{69}, о об их дискуссиях — как о «подготовительной работе для государственной измены», независимо от того, шла ли речь об активном насилии или нет. Мольтке был «хитрым предателем и гнусным пораженцем», а его имя «присутствует повсюду, словно красная нить».
Мольтке пишет так, словно процесс доставил ему некоторое удовольствие, как будто он почувствовал облегчение, когда после долгих месяцев напряженного ожидания все прошло на удивление хорошо. Шульце, один из обвинителей, «не производил неприятного впечатления», почти поголовно молчавшие защитники были «все очень порядочными». Даже Фрейслер, техника нападок которого не изменилась со времени предыдущих процессов, описан Мольтке как «талантливый и не без гениальности». Хотя Фрейслер всячески стремился произносить монологи, Мольтке утверждает, что было вполне возможно «вставить ответы, возражения и даже огласить новые факты. Правда, если при этом обрывалась нить его рассуждений, он выходил из себя, делал вид, что ничему не верит, или начинал орать на провинившегося»{70}. Когда неожиданно понадобился Уголовный кодекс, его в суде не смогли найти. Подобные ситуации, по словам Мольтке, были типичными.
Процесс длился два дня. Мольтке был полон решимости дать бой и даже получал некое удовольствие от своих схваток с Фрейслером.
«Мы начали довольно умеренно, но очень быстро, можно сказать, с головокружительной скоростью. Слава богу, легок на подъем и сумел приноровиться к скорости Фрейслера, что явно доставило удовольствие нам обоим. <…> Вплоть до нашей беседы с Герделером и моей позиции по отношению к ней все шло гладко и без особого ажиотажа.
В этом месте я возражал, что полиция и служба безопасности знала все. Это привело Фрейслера к пароксизму номер 1. Все, что довелось испытать Дельпу, было детской игрой в сравнении с тем, что обрушилось на меня. Налетел настоящий ураган. Он заколотил кулаками по столу, стал такого же цвета, как его мантия, и заорал: «Я этого не потерплю! Не желаю слушать ничего подобного!» И так повторялось много раз. Поскольку я знал, что в любом случае конец будет один, мне было все равно. Я холодно смотрел ему прямо в глаза, чего он явно не ожидал, и временами не мог удержаться от улыбки. Это хорошо видели официальные лица, сидевшие справа от Фрейслера, и Шульце. Жаль, что ты не видела выражение лица Шульце!»
Фрейслер яростно нападал на Мольтке за его пораженческие настроения и тесное общение с католическими священниками и протестантскими пасторами. В своем письме Мольтке воспроизводит насмешки Фрейслера: «А кто присутствовал? Отец иезуит? Из всех мыслимых людей именно иезуит! И еще протестантский священник и трое других, позднее приговоренных к смертной казни за участие в заговоре 20 июля! И ни одного национал-социалиста! Нет, ни одного! Что ж, я могу сказать только одно: кота выпустили из мешка. Отец иезуит! Именно его из всех людей вы выбрали, чтобы обсудить вопрос гражданского неповиновения! А как насчет иезуитского архиепископа? Ведь вы его тоже знаете! Он приезжал в Крейсау. Архиепископ иезуитов, одно из высших должностных лиц самого опасного врага Германии, навещает графа Мольтке в Крейсау. И вам даже не стыдно! Хотя любому честному немцу было бы противно даже взглянуть в сторону иезуита. Вы только представьте, это люди, которые не служат ни в одной армии из-за своего к ней отношения! Если я знаю, что в городе есть епископ иезуитов, для меня этого достаточно, чтобы я держался от такого города подальше! Зачем он приезжал? Подобные люди должны ограничить свою деятельность загробным миром, а этот мир оставить в покое. Да и вы посещали епископов. Искали нечто потерянное, я полагаю? Откуда вы получали приказы? Вам отдавал приказы фюрер и партия национал-социалистов. Это относится к вам в такой же степени, как и к любому порядочному немцу. А любой, кто руководствуется приказами, не важно, как и чем они замаскированы стражей потустороннего мира, получает их от врага, а значит, заслуживает соответствующего обращения».
Мольтке описывает свою схватку с Фрейслером как некую форму духовной дуэли: «В одной из своих тирад Фрейслер сказал мне, что национал-социализм схож с христианством только в одном отношении: оба требует человека целиком. Не знаю, насколько внимательно слушали остальные присутствующие диалог между мной и Фрейслером. Это был диалог, который вели души, и, хотя у меня было не много возможностей вставить свои реплики, в процессе него мы узнали друг о друге намного больше. Фрейслер был единственным из всей банды, который хорошо меня понимал, и единственным, кто отдавал себе отчет, почему необходимо от меня избавиться. Создавалось впечатление, что мы беседуем друг с другом в вакууме».
Конец наступил неожиданно. Фрейслер закончил очередной монолог и требовательно вопросил, имеет ли Мольтке что-нибудь добавить. «На это, к сожалению, после некоторых колебаний я ответил — нет. И все закончилось».
Мольтке было приятно очевидное признание Фрейслера того, что он, Мольтке, не склонен к насилию. На одной из стадий процесса Фрейслер утверждал, что Мольтке не мог оценить степень своей вины, потому что жил в своем собственном мире и своими руками отрезал себя от «сражающегося сообщества людей». Мольтке ухватился за это утверждение.
«Если рассматривать в целом, этот упор на религиозный аспект дела соответствует внутренней сущности проблемы и показывает, что Фрейслер в конечном счете хороший судья с политической точки зрения. Это дает нам бесценное преимущество быть убитыми за то, что мы действительно сделали и что стоит того. <…> Самое лучшее, касающееся суда с таких позиций, заключается именно в этом. Установлено, что мы не желали применения силы. Эти процессы доказали нашу полярную противоположность с Герделером и его людьми, отделили от практической деятельности. Мы будем повешены за то, что думали вместе. Фрейслер прав, тысячу раз прав, и, если нам предстоит умереть, я предпочитаю умереть за это. <…> Фрейслер, сам того не желая, сослужил нам прекрасную службу. Наши историки получили документальное подтверждение бесспорному факту: здесь преследуют не заговоры, не планы, а дух человеческий. Да здравствует Фрейслер!»
Ведя умственное сражение со своим судьей, Мольтке, словно в некоем видении, представлял себя в уединении, как будто он был рыцарем, воплощавшим дух христианства и ведущим битву с воплощением дьявола. Он сказал, что Фрейслер постепенно стал выделять его, отодвинув на второй план даже Герштенмайера и Дельпа. Похоже, он считал, что Мольтке, и только Мольтке символизировал главную и решающую угрозу духу нацизма.
«Он вызывает, — писал Мольтке, — у Ойгена и Дельпа слабость, причиной которой стали чисто человеческие надежды, от которых они не могли отказаться, поэтому их дела стали вторичными. И вот в итоге я выбран как протестант, а подвергся нападкам и осуждению в первую очередь за свои дружеские отношения с католиками. Это означает, что я стоял перед Фрейслером не как протестант, не как крупный землевладелец, не как представитель аристократии, не как пруссак и даже не как немец. Нет, я стоял перед ним как христианин, и ничего более. <…> Все, что было скрыто ранее, обретает смысл. <…> Подумать только, Господь так много претерпел только ради этого одного момента».
Герштенмайер описывает слушание своего дела на процессе как «дикую схватку на интеллектуальной почве». Главное обвинение против него заключалось в том, что он был осведомлен и о взглядах Мольтке, и о планах Герделера, поскольку посещал встречи «группы Крейсау», но не донес полиции. Герштенмайер был очень удивлен, получив от Фрейслера только заключение сроком семь лет{71}. Он говорит: «Общественный обвинитель требовал смертного приговора, но вынесение решения было отложено на двадцать четыре часа, после чего было оглашено: семь лет принудительных работ и лишение гражданских прав. Я счел это необъяснимым. Мои друзья, значительно менее виновные, отправлялись на казнь этим же судьей».
Мольтке и Дельп были приговорены к смерти. Дельп внешне не проявил никаких эмоций, а Мольтке улыбнулся.
Приговор Мольтке не был приведен в исполнение в Плётцензее до 23 января. Некоторые его прощальные письма жене сохранились. Они были тайком вынесены из тюрьмы Тегель, куда его отвезли после вынесения приговора. Он пишет о ежечасном ожидании смерти, постоянно объясняя жене, что никогда не был в лучшем настроении и никогда не чувствовал присутствие Господа так близко. «Сначала я должен решительно заявить, что последние часы человеческой жизни ничем не отличаются от других. Я всегда считал, что человек в подобной ситуации не мог чувствовать ничего, кроме страха, постоянно повторяя себе: «Ты в последний раз видишь закат, ты в последний раз ложишься спать, тебе осталось услышать только два раза, как часы пробьют двенадцать». Но ничего подобного! Возможно, тому виной несколько экзальтированное состояние, в котором я нахожусь, не знаю, но я ощущаю душевный подъем. Я могу только молиться Отцу нашему небесному, чтобы Он позволил мне и дальше чувствовать это, поскольку так намного легче для бренной плоти. Как добр ко мне Господь! Рискну показаться истеричным, но я настолько исполнен благодарности, что в моей душе не осталось места больше ни для чего. Он так уверенно и решительно руководил мною в течение тех двух дней. Пусть в суде стоял адский шум, пусть господин Фрейслер и стены суда шатались и угрожали обрушиться, мне было все равно».
Эти последние письма опирались на надежду Мольтке, что с его женой и детьми все будет в порядке — им поможет вера. Даже расставание с ними не представлялось ему настоящей разлукой. Он чувствовал, что его супруга и он образуют «единую созидательную мысль». Он помнил чувство единения, которое испытал, когда во время одного из ее посещений тюрьмы они вместе принимали Святое причастие. «Я немного всплакнул, но не потому, что был расстроен, пал духом или желал вернуть прошлое, нет, причиной моих слез была благодарность, потому что я никогда не ощущал присутствие Бога так полно и всеобъемлюще. Это правда, что мы не можем встретиться с Ним лицом к лицу, но мы не можем не оказаться всецело под Его властью, когда внезапно осознаем, что на протяжении всей нашей жизни Господь шел впереди нас, как облачко жарким днем или яркий огонь в ночи. Он дает нам это почувствовать неожиданно и сразу. А это значит, что больше ничего не может случиться».
Мольтке был повешен в Плётцензее 23 января, через тринадцать дней после вынесения приговора. Пёльхау, капеллан тюрьмы Тегель, сам бывший членом «группы Мольтке», хотя и остался вне подозрений у нацистов, принес из тюрьмы его прощальные письма. Он же рассказал о последнем дне Мольтке: «23 января я пришел к нему около 11 часов, мы обменялись письмами. Когда же я заглянул в его камеру около часа дня, как это делал обычно, там уже никого не было. Его неожиданно отправили в Плётцензее. Я сразу позвонил туда, но он еще не прибыл, хотя ожидался с минуты на минуту. Мой коллега — католик Бухгольц — вызвался немедленно отправиться в камеру смертников. Он пришел как раз вовремя, чтобы встретить осужденного, и позже сказал Фрейе, что Гельмут прошел свой последний путь спокойно и с достоинством».
Гитлер поклялся отомстить семьям заговорщиков, но принципы Sippenhaft (арест из-за семейной принадлежности) применялся весьма нерегулярно{72}. В то время как десять членов семьи Штауффенберга и восемь родственников Герделера были отправлены в Бухенвальд, Вульф фон Хассель, несмотря на свои постоянные стычки с гестапо от имени своего отца, арестован не был, а его матери только запретили выезжать за пределы Эбенхаузена. Младшая дочь фрау Хассель Фей Пирцио-Бироли была арестована, и у нее отобрали маленьких детей. Вдова Хофакера и его дети также подверглись аресту, но фрау Роммель после смерти мужа осталась на свободе.
Гизевиус узнал, что его незамужняя сестра Аннелизе, работавшая школьной учительницей, в августе была арестована гестапо, и даже кузен, сражавшийся за Гитлера на Балтийском фронте, был взят под стражу, поскольку Гизевиуса так и не смогли найти. В то время, когда все это происходило, Гизевиус ничего не знал. В дни, последовавшие за покушением, он был обязан своей временной свободой от подозрений тому факту, что гражданским лицом, о присутствии которого на Бендлерштрассе было известно, сочли Герштенмайера, который уже был в руках гестапо. Переходя из дома в дом, Гизевиус собирал крупицы информации, иногда встречался с друзьями в людных местах. Вскоре, однако, гестапо стало известно о его роли. Глава криминальной полиции Нёбе, также ожидавший ареста со дня на день из-за своей связи с Гелльдорфом, поспешно организовал отъезд как можно дальше от Берлина. Для этого он планировал использовать служебную машину, заправленную максимально возможным количеством топлива — двадцатью галлонами. Он взял с собой Гизевиуса и Штрюнков. Компания покинула Берлин глубокой ночью во время затемнения, не имея ни малейшего представления, где в провинции можно искать убежище. Над головами беглецов грохотали бомбардировщики, но благодаря эсэсовской форме Нёбе им, по крайней мере, не угрожали патрули на земле. Они ехали, пока не кончился бензин, после чего спрятали машину в кустах и спрятались в доме у пастора, который, как было известно, укрывал беженцев. Но дальше идти было некуда. И беглецы решили вернуться в Берлин и вести себя как будто ничего не произошло.
30 августа был арестован Штрюнк, а в сентябре в гестаповской камере оказалась его жена{73}. Один за другим исчезали друзья Гизевиуса, но ему счастье пока не изменяло. В октябре он встретил Коха и узнал об аресте сестры. Благо его мать уже была в Швейцарии. Затем он получил несколько шифрованных сообщений из Швейцарии, где говорилось, что друзья планируют помочь ему покинуть Германию. С волнением и нетерпением он ждал новостей на протяжении ноября, декабря и января. Нёбе был арестован{74}. 20 января прибыл большой таинственный конверт. Его доставили на машине ночью, и женщина-посыльная отдала его, предварительно проверив личность получателя. В нем был фальшивый паспорт, а также прочие документы, удостоверяющие личность, и проездные документы для высокопоставленного офицера гестапо, имеющего приказ немедленно выехать из Германии в Швейцарию. Но ко всему этому не прилагалось железнодорожных билетов. В волнении Гизевиус рискнул позвонить Коху. Ему ответил незнакомый голос. Стало ясно, что Кох арестован. Не теряя больше времени, Гизевиус той же ночью отправился за билетами. Он поехал в Берлин на метро и приобрел билет, предъявив проездные документы. Затем он вернулся в пригород, где скрывался, и стал ждать единственного подходящего поезда, который отправлялся только вечером следующего дня — в шесть часов. День прошел без происшествий, и Гизевиус выехал на вокзал заблаговременно, чтобы наверняка успеть на поезд. Оказалось, что вокзал заполнен эсэсовцами: с соседней платформы Кальтенбруннер уезжал в Вену. Это оказалось большой удачей. Эсэсовцы были слишком заняты, чтобы заметить человека, которого они давно и безуспешно разыскивали.
Поезд на Штутгарт, в который предстояло сесть Гизевиусу, был уже переполнен: и купе, и коридоры были заняты. Даже багажный вагон был забит людьми, а желающих уехать на перроне все еще оставалось много. Гизевиус решил идти напролом. Размахивая своими гестаповскими бумагами, он штурмом взял вагон и сделал вид, что собирается очистить его для себя и прочих официальных лиц. Но, оказавшись в вагоне, он тут же растворился в толпе граждан, по разным причинам жаждавших уехать из Берлина как можно дальше. И вот 23 января, в день казни Мольтке, он предъявил свои многочисленные и весьма внушительные документы удивленным чиновникам на небольшой железнодорожной станции, расположенной на границе со Швейцарией.
Они взирали на Гизевиуса с откровенным подозрением. Он был одет в легкий летний костюм, давно нуждавшийся в чистке, изношенное пальто, больше подходящее для весны, и в шляпу, которую мнимый гестаповец украл в поезде, чтобы скрыть свои немытые волосы. За последние несколько месяцев он их подстригал только один раз — сам, используя для этой цели маникюрные ножницы. Единственной зимней одеждой у этого подозрительного пассажира были высокие сапоги. Чиновники долго не знали, что предпринять.
Когда его все-таки пропустили, он отсалютовал им нацистским приветствием. Это был прощальный жест благодарности, обращенный к Германии, куда он не собирался возвращаться до конца войны.
Дверь камеры Герделера в гестаповской тюрьме была открыта. По-видимому, существовало опасение, что он может совершить попытку самоубийства, поэтому дверь не запирали. К этому времени тюремщик Герделера, носивший имя Вильгельм Бранденбург, уже попал под влияние заключенного. Герделер все время лихорадочно писал, покрывая неровными карандашными строчками один лист за другим. Бумагой его исправно снабжал Бранденбург. Он же выносил его рукописи из тюрьмы.
По словам Бранденбурга, Герделер излучал спокойное умиротворение и никогда ни на что не жаловался. Если он не писал, то вел долгие беседы с Бранденбургом, во всех подробностях рассказывая ему о допросах, которые ему пришлось пережить. Иногда ему удавалось переброситься несколькими словами со своими собратьями по несчастью, например Шлабрендорфом. В ноябре Герделер назначил Бранденбурга исполнителем своего политического завещания, названного «Наш идеал», и говорил о «благородном гуманизме и христианском милосердии» своего тюремщика. Среди его рукописей были письма друзьям и родственникам, исследования в области экономики и социальной политики, работы, которые — по крайней мере, он на это надеялся — будут переведены на многие языки и, возможно, станут бестселлерами. Бранденбург даже предложил тайные переговоры с Гиммлером с целью освобождения Герделера и начала обсуждения условий мира с использованием его связей в Швеции.
Риттер, биограф Герделера, встречался с ним в январе 1945 года на допросе и описал, каким увидел его незадолго до смерти.
«Я был… потрясен его нисколько не уменьшившейся интеллектуальной мощью и одновременно ужасным внешним видом. Передо мной стоял глубокий старик с трясущимися руками и ногами, одетый в те же летние вещи, которые были на нем во время ареста, теперь грязные и обветшавшие. Его лицо очень изменилось, было исхудавшим и измученным. Но больше всего меня удивили его глаза: некогда яркие серые, сверкавшие из-под тяжелых бровей, ныне совсем погасли. Они напоминали глаза слепого человека — ничего похожего мне не доводилось видеть раньше. Разум Герделера был силен, как и прежде, но духовной силы он лишился. В нем не осталось и следа от былой жизнерадостности, а взгляд, казалось, был обращен внутрь себя. Я увидел человека, в душе которого поселилась смертельная усталость».
В это время Герделер был поглощен проблемами человеческих судеб, отношений Бога и человека. Он «боролся с Богом», искал ответ о причинах постигшей его судьбы. Он чувствовал, что перестал понимать природу Божьей воли. Где был Бог милосердия, в которого он когда-то верил? Он оказался один на один с этими проблемами, и поддерживала его только дружба тюремщика. Его семья была арестована, и он не мог наладить контакт с близкими. Обвинительный приговор за соучастие, вынесенный Народной судебной палатой его брату, привел Герделера в отчаяние. Он почувствовал себя одиноким и покинутым и Богом, и людьми, хотя сила его веры была такова, что заставила понять: он обязан продолжать служить своим товарищам, даже находясь в камере смертников.
Нацисты оставляли его в живых, пока считали нужным. В полдень 2 февраля Йозеф Мюллер, занимавший соседнюю камеру, услышал уже ставший знакомым громкий голос палача в коридоре: «Пошли, пошли, быстрее!» Герделера так торопили на казнь, что даже не позволили написать прощальное письмо семье.
На следующий день, 3 февраля, Шлабрендорфа еще раз отвезли в Народную судебную палату. Он присутствовал при слушании дела, предшествовавшего его делу, и был воодушевлен смелым поведением обвиняемого Эвальда фон Клейста, который сказал, что считал оппозицию волей Господа и что только Всевышний может быть его судьей. Фрейслер отложил дело и как раз намеревался приступить к рассмотрению следующего, когда объявили воздушную тревогу.
В последние месяцы войны Берлин подвергался жесточайшим бомбардировкам. Но налет 3 сентября оказался самым ужасным из всех, доселе пережитых берлинцами. Когда эскадрильи союзнических бомбардировщиков начали свой смертоносный путь над городом, суд поспешно свернули, и судьи устремились в безопасные убежища. На Шлабрендорфа надели наручники, кандалы и повели вниз. В это время в здание попала бомба, уничтожившая помещение, в котором проходило судилище. Фрейслер, так и не выпустивший из рук материалы дела, упал под тяжестью рухнувшей балки перекрытия, пробившей ему голову. Шлабрендорф на некоторое время был спасен.
Гестаповская тюрьма тоже была повреждена при бомбежке, и в камерах в разгар зимы не оказалось ни воды, ни света, ни тепла. В одной из них лежал Ганс Донаньи, его ноги были парализованы дифтерией, которой он сам себя заразил в тюрьме. Препарат, содержавший соответствующие бациллы, тайком принесла в тюрьму его жена. Донаньи попал в тюрьму только в конце января и очень страдал от обращения гестаповцев, на милость которых был предоставлен. Его немного утешало только присутствие Бонхёффера, который во время налета сумел ускользнуть из шеренги заключенных, идущих в убежище, и проник в камеру Донаньи, где оставался до конца налета. У каждого заключенного был свой метод пассивного сопротивления. Таким методом для Донаньи стала постоянная болезнь. Ему удавалось тайком обмениваться записками с женой. В начале марта он написал ей: «Допросы продолжаются, и я знаю, на что должен рассчитывать, если не произойдет чуда. Вокруг меня столько мучений и страданий, что я с радостью простился бы с такой жизнью, если бы не вы. Только мысль о всех вас, о вашей любви ко мне, о моей любви к вам делает мою волю к жизни такой сильной, что иногда я даже верю в свою победу. Я должен выбраться отсюда в госпиталь, но в таком состоянии, при котором допросы невозможны. Слабость, сердечные приступы должного впечатления не производят, но, даже если они отправят меня в госпиталь при отсутствии другого заболевания, это может стать даже более опасным, потому что там меня быстрее вылечат».
Позже, 5 апреля, Донаньи был переведен в Заксенхаузен и через несколько дней казнен{75}.
Бонхёффер был переведен из тюрьмы Тегель в застенки гестапо в октябре. Даже здесь, в камере номер 24, он имел некоторые привилегии — обычно находился без цепей. Шлабрендорф считал, что по неким причинам, известным только гестапо, Бонхёффер подвергался менее суровому обращению тюремщиков. По его словам, Бонхёффер выглядел «очень здоровым и очень свежим». Они беседовали, если представлялась возможность, и Бонхёффер часто говорил о своем твердом убеждении, что убийство Гитлера было, безусловно, необходимо. Он сдружился с католиком Мюллером, и им совершенно не мешали различия в вере. Бонхёффер много времени проводил в молитвах и размышлениях, и его присутствие придавало силу и уверенность остальным.
Шлабрендорф описывал, как подружился с Бонхёффером во время последней военной зимы:
«В те дни я разделял мои радости и горести с Бонхёффером. Мы также делились немногочисленными личными вещами и всем тем, что нашим близким разрешалось приносить в тюрьму. Его глаза радостно горели, когда он рассказывал мне о письмах от своей невесты и от родителей, о том, как остро он чувствует их любовь и заботу, даже находясь в гестаповской тюрьме. По средам, когда ему вручали пакет со сменой белья, в котором обычно также находились сигареты, яблоки и хлеб, он никогда не забывал поделиться со мной. Ему очень нравилось, что даже в тюрьме он может позволить себе быть щедрым».
7 февраля Бонхёффер был переведен из тюрьмы гестапо в Бухенвальд, а Герштенмайер — из тюрьмы Тегель в Байрейт, который потом написал об этой поездке, длившейся одиннадцать дней: «Только Достоевский мог бы достойно описать это путешествие. Мне приходилось выгружать и увозить мертвые тела, заковывать в цепи тех, кто сходил с ума».
В Байрейте ему и его товарищам по несчастью пришлось голодать. Если удавалось найти сырую картофелину, ее моментально съедали.
Пять раз откладывавшийся процесс Шлабрендорфа состоялся 16 марта — на завершающем этапе войны. Место Фрейслера занял доктор Кроне — вице-президент Народной судебной палаты, ничего не знавший об обвиняемом.
Имея юридическую подготовку, Шлабрендорф решил вести свою защиту сам. Потом он описал, что из этого получилось: «В начале слушаний я объяснил суду, что более двухсот лет назад Фридрих Великий ликвидировал в Пруссии пытки, но тем не менее в моем случае они применялись. Затем я подробно описал, что мне пришлось вынести. Воспоминания настолько тронули меня, что я не смог удержаться от слез. Никто не прерывал меня. Напротив, у меня было ощущение, что все присутствующие сдерживали дыхание. Было так тихо, что, упади на пол булавка, это прозвучало бы словно гром среди ясного неба. Через некоторое время я взял себя в руки и сумел закончить свою речь».
К удивлению обвиняемого, Хабекера, который и применял пытки, не вызвали в суд для дачи показаний.
По-видимому, его допросили вне стен суда, что было совершенно неправильно, но он не отрицал применения пыток, поэтому общественный обвинитель был вынужден потребовать оправдания обвиняемого. Когда Шлабрендорф напомнил суду, что Хабекера следует доставить в суд лично, чтобы он сделал признание, доктор Кроне лишил его слова. Шлабрендорфа оправдали, но не освободили. Ему сказали, что он должен подписать текст заявления, сделанного ему Хабекером от имени гестапо, о том, что ему были готовы заменить повешение расстрелом, принимая во внимание факт оправдания. Подпись была нужна для закрытия дела.
Спустя несколько дней Шлабрендорфа вместе с другими узниками отправили во Флёссенбург — в созданный нацистами тайный лагерь уничтожения людей. Здесь его поместили в одиночную камеру, где он ждал смерти. Казни производились каждый день в шесть часов утра. Пленных — и мужчин, и женщин — заставляли раздеваться догола и строем идти во двор, где их либо вешали, либо стреляли стоящим на коленях в затылок. Люди умирали каждый день. Другие пленные убирали тела и складывали их для сожжения на костре. Каждый день Шлабрендорф наблюдал за движением скорбной процессии к погребальному костру, и каждый наступающий день считал последним днем своей жизни.
7 апреля ночью стражники вошли в его камеру. Разбудив заключенного, они спросили, действительно ли его имя Бонхёффер. Он ответил отрицательно и тут же получил обвинение во лжи и сокрытии своего настоящего имени.
А Бонхёффер в это время еще не прибыл во Флёссенбург. Он поступил туда только 8 апреля после серии долгих, изнурительных и совершенно бессмысленных переездов с места на место. 7 февраля его отправили вместе с Донаньи и Мюллером в Бухенвальд. Бонхёффер запротестовал, когда на него надели наручники, но Мюллер сказал:
— Дитрих, мы христиане, и за это нам предстоит виселица.
Бонхёффер надеялся на оправдание, поскольку против него не было серьезных свидетельств, но оказался среди тех, кто, по твердому убеждению нацистов, после суда или без него, с обвинительным или оправдательным приговором, не должен был пережить падения режима.
В Бухенвальде он попал в тюремный корпус вместе с еще семнадцатью узниками, каждый из которых был по-своему выдающимся человеком. Среди них был генерал фон Фалькенхаузен, бывший начальник военной администрации и вермахта на территории Бельгии, Северной Франции и Голландии, агент британской секретной службы капитан Пейн Бест, ставший военнопленным еще в 1939 году{76}. Бонхёффер делил камеру с генералом фон Рабенау, превратившимся в фанатично набожного человека. Бонхёффер произвел особенное впечатление на агента Беста, который после войны написал, что этот человек был воплощением «смирения и мягкости», который, казалось, «вносил атмосферу радости и счастья в любое мельчайшее событие». Он был одним из немногих людей, с которыми доводилось встречаться англичанину и «для которых его Бог был реальным и всегда присутствовал рядом с ним». Относительно свободные порядки в Бухенвальде позволяли пленным общаться. Мюллер, как показалось Пейну Бесту, после трех лет, проведенных в гестапо, относился ко всем с подозрением, но вскоре он смог обрести себя.
Ночью 3 апреля, ровно в десять часов, заключенных, получивших предупреждение, что они должны быть готовы к быстрому переезду, о котором будет объявлено по мере приближения американской армии, согнали в тюремный фургон. Туда погрузили столько людей, что они не могли не только сесть, но даже, стоя, переступить с ноги на ногу. Туда же сложили их вещи и дрова на растопку газогенератора. Горение поддерживалось интенсивно, и заключенные опасались, что в пути отравятся угарным газом. На следующий день они прибыли в Вейден — ближайший к Флёссенбургу населенный пункт. Сердца заключенных наполнились унынием. Но местная полиция сообщила, что Флёссенбург переполнен и не может принять новую партию людей. Все понимали, что им разрешили еще немного пожить, потому что лагеря никогда не бывают переполненными, для того чтобы провести акцию немедленного уничтожения. На выезде из Вейдена фургон остановила полиция. Оказалось, что трое заключенных должны остаться. Среди них был Мюллер.
Теперь условия путешествия стали легче, да и охрана мягче, поскольку даже стражники не знали, куда везти заключенных. Ночью прибыли в государственную тюрьму Регенсбург. Наутро выяснилось, что тюрьма наполнена членами семей и родственниками заговорщиков. Там были вдова и сын Герделера, а также некоторые их родственники, дочь Хасселя — молодая жена Пирцио-Бироли, вдова и дети Хофакера, а также девять членов семьи Штауффенберга. В этой же компании находился банкир Фриц Тиссен вместе с женой, и, как пишет Пейн Бест, «атмосфера больше напоминала прием, чем утро в уголовной тюрьме». Беста представили ряду выдающихся личностей, причем с соблюдением табели о рангах. Общая беседа вне тюремных камер заняла весь день.
Наступившей ночью партия заключенных, среди которых был Бонхёффер, снова была погружена в тюремный фургон, который тронулся в путь и вскоре сломался на дороге. Заключенные оказались на жестоком морозе, можно сказать, в чистом поле, и оставались в таких условиях довольно долго, до тех пор пока для их дальнейшей перевозки не был реквизирован роскошный туристический автобус. Весь следующий день они ехали, пытаясь в нескольких местах пересечь Дунай, но создавалось впечатление, что через реку не осталось ни одного целого моста. Ночь они провели в деревушке Шенеберг, затерянной в баварских лесах, где власти пребывали в полной растерянности и смогли предоставить людям только койки в местной школе, но никакой еды.
Наступило воскресенье 8 апреля. Это было прекрасное весеннее утро. Бонхёффер, по словам Беста, провел короткую службу и произнес проповедь, которая достигла сердца каждого. Он еще не успел закончить молитву, когда за ним прибыли агенты гестапо.
— Заключенный Бонхёффер, — сказал гестаповец, — вы пойдете с нами.
— Это конец, — сказал Бонхёффер, — а для меня начало жизни.
Он попрощался с друзьями, не забыв передать прощальный привет епископу Чичестерскому, послание для которого вручил Бесту.
Весь оставшийся день он снова ехал на север по постоянно сужающемуся коридору, все еще остававшемуся в руках немцев. Ночью он прибыл во Флёссенбург, а рано утром 9 апреля лагерный доктор видел его молящимся в своей камере. На рассвете он был повешен вместе с Канарисом и Остером — первыми лицами абвера, в котором он служил{77}. Среди его немногочисленных пожитков остались две книги — Библия и томик Гёте. Также Бонхёффер оставил после себя молитву: «Смерть, отбрось наши печальные цепи и разрушь толстые стены нашего смертного тела и нашей ослепшей души, чтобы мы наконец смогли созерцать то, что не могли увидеть ранее. Свобода, мы давно к тебе стремились сквозь дисциплину, сквозь действия и страдания. Теперь, умирая, мы видим тебя в лике Господа».
1. Рассказ Отто Йона о событиях 20 июля на Бендлерштрассе
19 июня 1944 года я вылетел из Берлина в Мадрид. Штауффенберг, передавший мне через полковника Хансена приказ, попросил выяснить возможности начала мирных переговоров с Эйзенхауэром в случае успеха переворота. Переговоры должны были вестись Хансеном от имени Бека, поскольку Штауффенберг считал, что мирные переговоры должен вести солдат с солдатом, а гражданских лиц и политиков из этого процесса следует исключить. Я должен был оставаться в Мадриде и ожидать прибытия Хансена.
Вопреки первоначальной договоренности Хансен прислал мне 19 июля приказ немедленно возвращаться в Берлин, и вечером того же дня я приземлился в аэропорту Темпельхоф. Мой брат привез мне инструкции от имени фон Хефтена, адъютанта Штауффенберга, что я должен на следующий день начиная с десяти часов утра ждать звонка в своем кабинете в «Люфтганзе». Мой брат сказал, что покушение на Гитлера предполагалось несколькими днями раньше, но было отложено, поскольку на совещании, на котором оно было намечено, не присутствовал Гиммлер. Но оно при любых условиях состоится на следующий день.
20 июля между пятью и шестью часами вечера мне позвонил Хефтен и попросил немедленно приехать.
— Мы начинаем, — сказал он.
На Бендлерштрассе меня встретил полковник Фриц Йегер. В первый момент мне показалось, что он арестован: справа и слева от него стояли солдаты в стальных касках и со штыками. Рядом также находился эсэсовский полковник в фуражке и при оружии. Йегер же был без головного убора, без оружия и выглядел так, словно его вот-вот уведут в камеру. Но это только казалось. Йегер подошел и дружески поприветствовал меня, после чего направил в приемную Фромма.
— Я не могу отсюда уйти, — объяснил он и кивнул в сторону эсэсовца, давая мне понять, что этот человек — его пленник. Это был, конечно, Пифредер.
Я думал найти Хансена в приемной Фромма, но там его не оказалось, и никто не знал, где его найти. Зато в соседнем кабинете находился Штауффенберг — он разговаривал по телефону. Заметив меня через полуоткрытую дверь, он помахал рукой. Делать мне было нечего, и я просто наблюдал за происходящим. Мои представления о Генеральном штабе в действии оказались весьма далекими от действительности, вероятно, потому, что сам я никогда не был солдатом. Генералы и другие старшие офицеры слонялись вокруг, явно не зная, чем себя занять. Граф Шверин коротко обрисовал мне ситуацию. Он сказал, что Гитлер мертв, но главная немецкая радиостанция постоянно передает, что фюрер жив и только легко ранен. Шверин завершил свой рассказ, заявив:
— Как бы то ни было, Бек твердо намерен завершить начатое. Жаль только, радиостанция до сих пор не в наших руках.
Я спросил Шверина, какова ситуация в стране. Но он не знал. Никто на Бендлерштрассе этого не знал. В качестве предполагаемого адъютанта Бека Шверин спросил, какие я привез новости из Мадрида и Лиссабона. Я сказал, что еще в марте доложил Штауффенбергу, что, судя по всему, нам нечего ждать от союзников, кроме требования безоговорочной капитуляции.
— Так что, — заключил я, — у меня нет ничего нового. То же самое я могу сказать Беку лично.
Последнее оказалось невозможным. Мне совершенно нечего было делать — только ждать и наблюдать. Несмотря на всеобщую суматоху, явно занят делом был только Штауффенберг, не отходивший от телефонов. По долетавшим до меня обрывкам его фраз создавалось впечатление, что вся армия поднялась и обратила оружие против нацизма. В тот момент мне и в голову не приходило, что процесс может быть остановлен и повернут вспять. Штауффенберг произвел на меня очень сильное впечатление, особенно когда вышел в приемную, взял одну из телефонных трубок и начал давать инструкции:
— Говорит Штауффенберг. Jawohl. Ja… Все приказы… Да, я сказал, что все приказы должны быть выполнены немедленно. Необходимо немедленно занять все радиостанции и агентства новостей, сломив любое сопротивление. Вероятно, вы будете получать другие приказы из ставки фюрера, но они недействительны. Вы меня поняли? К власти пришла армия. Как всегда в минуту смертельной опасности для страны, на первое место выступает солдат. Да, Вицлебен назначен верховным главнокомандующим — это вполне официально. А теперь вперед, выполняйте приказ. Вы меня поняли? Хайль!
Услышав эти слова, я почувствовал уверенность в том, что армия владеет ситуацией и доведет дело до конца. Затем я услышал, как Хефтен, действуя от имени Штауффенберга, отдавал приказ пожилому майору подготовить помещение для содержания под стражей некоторых «сомнительных личностей». И я поверил, что наше дело действительно победило. Я не сомневался, что Гиммлер окажет сопротивление, используя войска СС, но был уверен, что Гитлер мертв и высшему офицерскому составу армии можно доверять.
Я не принимал участия в действиях военных и сказал Шверину, что лучше пойду и выясню, есть ли возможность достичь понимания между Попицем и Лебером. (Лебер в это время был в тюрьме, но мы ожидали его освобождения в ближайшие часы.) Шверин согласился, что это хорошая идея, и предложил мне немедленно отправиться к Попицу. Он пообещал дать мне знать, если произойдут какие-нибудь изменения. Я сказал Хефтену, что на Бендлерштрассе мне делать нечего, поэтому я пойду по своим делам, но позвоню ему на следующее утро в восемь часов.
— К этому времени мы или победим, или нас повесят, — сказал Хефтен. Я взглянул на него с откровенным недоумением, но он крепко пожал мою руку и улыбнулся: — До завтра. Auf Wiedersehen.
Я ушел с Бендлерштрассе около восьми сорока пяти. Странно, но мне врезалось в память, что на ближайшей станции метро я взглянул на часы и заметил время. Было точно восемь пятьдесят три.
Дом Попица располагался в Далеме неподалеку от моего дома, где я жил вместе с братом. У меня существовала договоренность с Попицем, что я могу зайти к нему в любое время, даже глубокой ночью, если только увижу в его окне хотя бы слабый лучик света. Это знак, что он еще не спит или что визит к нему будет безопасным.
Вы помните, что я искренне верил в смерть Гитлера и ложность звучавших по радио объявлений. Я был рад, что у нас наконец-то все получилось, и спешил сообщить Попицу хорошие новости. Но когда я добрался до Далема, в его окне света не было, и я не рискнул нарушить нашу договоренность. Пришлось отложить визит до утра. И я отправился домой, чтобы рассказать брату о том, что, по моему убеждению, произошло в Растенбурге.
Когда я пришел домой, у брата был гость — Клаус Бонхёффер. Мы открыли бутылку шампанского, чтобы выпить за славное будущее. Мы были слишком взволнованы, чтобы спать. Радио оставалось включенным, чтобы не пропустить новые сообщения. Постоянная трансляция военной музыки, не прекращавшаяся весь вечер, вселила в мою душу легкое беспокойство. Я не понимал, почему мы до сих пор не захватили радиостанцию. А около часа ночи по радио выступил Гитлер. Мы безошибочно узнали его голос. И все наши радужные мечты исчезли без следа. Охваченные беспокойством и острым разочарованием, мы слушали затаив дыхание. Я позвонил на Бендлерштрассе, воспользовавшись секретным номером, насколько я помню, это было 1293, чтобы соединиться непосредственно с кабинетом Штауффенберга. Мне никто не ответил. И я понял, что Штауффенберг, по всей видимости, арестован.
Что мы могли предпринять в создавшейся ситуации? Я был на Бендлерштрассе и был скомпрометирован уже одним только этим фактом. В любой момент могло появиться гестапо. Мы решили ничего не предпринимать, просто оставаться наготове и дать отпор, если за нами придут.
В нашем доме было оружие — револьверы и автоматы. Мы зарядили их и стали ждать развития событий. Но только ничего не произошло.
Летом светает рано. И вот после долгих часов мучительного ожидания раздался стук в дверь. Мы приготовили оружие.
— Войдите! — крикнул я.
Это оказался муж нашей экономки.
— Извините, господин доктор, — заговорил он, — но у нас там внизу эсэсовец. — Мы насторожились. — Да, — продолжил он, — это брат моей жены, он в отпуске, только что приехал с фронта. Не могли бы мы взять бутылку вина, чтобы отметить его счастливое возвращение?
Еще никогда я не отдавал бутылку вина с такой радостью. Но мы все-таки не отправились спать и продолжили пить шампанское. Кто знает, быть может, нам больше никогда не доведется попробовать сей восхитительный напиток.
Утром 21 июля я решил выяснить, что происходит, и пошел к дому Попица. Возле дома я встретил его дочь, которая была вся в слезах. Она сказала, что рано утром отца арестовали.
Я понял, что следующая очередь моя, но подумал, что следует вести себя как ни в чем не бывало. Это вызовет меньше всего подозрений. И я отправился в «Люфтганзу» в свой кабинет. Я позвонил Штауффенбергу, назвавшись вымышленным именем. Его секретарь Делия Циглер сообщила, что полковник убыл по делам службы.
Часы шли, а я все еще оставался на свободе. Спустя два дня — в воскресенье — я пошел навестить Тротта. Он знал, что моя работа в «Люфтганзе» позволяет мне пользоваться армейским разрешением ездить туда, куда я захочу. С ним был Биленберг. Они потребовали, чтобы я покинул Берлин, пока еще существует такая возможность. Еще Тротт сказал, что я должен «поведать миру о том, чего мы хотели достичь и почему потерпели неудачу».
Я согласился, но хотел, чтобы Тротт поехал вместе со мной. Тот отказался — не мог оставить семью. Позже он был арестован и убит. На следующий день — в воскресенье 24 июля — я вылетел в Мадрид. У меня не было никаких трудностей с выездом из Германии.
2. Работа Герделера в тюрьме
Самая удивительная черта взаимоотношений, установившихся между Герделером и его тюремщиками, заключается в том, что они побудили его исследовать проблему будущего управления государством при нацизме. Его биограф Герхард Риттер отметил, что, хотя Герделер в заключении не проявлял словоохотливости, его желание затянуть действие, вдаваясь на допросах в мельчайшие подробности и составляя памятные записки, отвечало желанию Кальтенбруннера показать Гитлеру экстенсивную природу бунта против правительства. Об этом говорили в беседах с Генрихом Френкелем многие оставшиеся в живых офицеры. Эта ситуация стала еще более определенной, когда некоторые интеллектуалы из СД, такие как Олендорф и доктор Мёдинг, решили «выдоить» из жертвы, прежде чем казнить ее за участие в заговоре, полезные для себя идеи. Ряд других пленных, таких как Шуленбург и Попиц, использовались для этой же цели. В конце 1944 года официальные лица, в основном представлявшие министерство внутренних дел Гиммлера, встретились в Ванзее, чтобы обсудить административные реформы, предложенные именитыми узниками. Дискуссии были продолжены в Лихтерфельде. Работы пленных удостоились высокой оценки, после чего Мёдинг и Олендорф, уже готовые отказаться от «услуг» Герделера, уговорили Кальтенбруннера отложить казнь Попица, чтобы дать ему возможность еще поработать.
Очевидно, люди, затеявшие эту работу, верили, что в будущем станут управлять Германией. Давление, которое они оказывали на Герделера, чтобы получить как можно больше полезных советов, вполне могло быть следствием идеи, что в какой-то момент Гиммлер и СС оттеснят Гитлера от управления рейхом. Тем не менее нам представляется, что и Гиммлер, и Кальтенбруннер знали немного, а может быть, и вообще ничего, о том, что происходило в камере Герделера. Существует мнение, что на определенном этапе Гиммлер рассматривал возможность использования шведских связей Герделера для начала мирных переговоров. Предписание СС использовать Герделера поступило из III отдела РСХА (Deutsche Lebensgebiete). Он должен был дать подробные ответы на специальный вопросник из тридцати девяти пунктов, составленный специально для него и Попица доктором Мёдингом. Герделер завершил работу 3 января. Она состояла из восьмидесяти семи страниц машинописного текста. Попиц написал шестьдесят шесть страниц. За этим заданием было дано следующее. Попиц трудился над экономическими и административными проблемами, связанными с переходом от военной к мирной экономике, а Герделер занялся перспективными финансовыми реформами. В течение недели он надиктовал восемьдесят две страницы текста и 9 января закончил работу. Его следующий труд прерывается в середине предложения на шестьдесят первой странице. Должно быть, его увели на казнь, не позволив довести мысль до конца и поставить точку. Олендорф, хотя и был виновен в зверских убийствах населения в Польше, несомненно, являлся интеллектуалом. Он понимал, что в диктаторском государстве, в котором молчит пресса, выявлять настроения людей должна служба безопасности. При демократическом строе с этой задачей успешно справляется пресса. Именно по этой причине он стремился узнать во всех подробностях, что Герделер, как представитель заговора, действительно думал. Герделер ничего не имел против того, чтобы поделиться с ним своими мыслями. Однако в беседе с Генрихом Френкелем сын Герделера, доктор Р. Герделер, подчеркнул, что, по его мнению, как и по мнению его сестры — известного историка, Герделер, выполняя задание тюремщиков, все же не позволял себе выражаться свободно и излагал свои взгляды в весьма урезанном виде.
Ответы Герделера на вопросник Мёдинга предлагают разумный баланс между государственным планированием и местным самоуправлением, причем местным властям предоставляется обширное поле для деятельности. В одном пункте Герделер заявляет, что по некоторым вопросам он должен отличаться от Попица, а затем, несомненно посмеиваясь про себя, добавляет: «Если, как я предполагаю, западным державам в 1945 году придется сдаться, будет и безответственно, и невозможно медлить с претворением в жизнь этих мероприятий только потому, что еще не завершена стадия планирования». Можно допустить, что он был также ироничен, говоря о Польше, которую знал особенно хорошо, следующее: «В Польше национальное самосознание и гордость всегда были необычайно сильны и даже агрессивны. Все будет зависеть от того, окажется ли возможным дать им нужный простор к востоку от границы рейха. Если это произойдет, а именно таковой определенно должна быть цель, я уверен, что такая Польша для обеспечения безопасности против Советского Союза обратится к рейху и будет искать с ним тесные контакты».
Обсуждая другие проблемы, он отдает приоритет строительству жилья, а не учреждений, также подчеркивает необходимость заботы о больных и нетрудоспособных. При этом он добавляет, возможно с иронией, что для этого одной администрации недостаточно — должны быть созданы «новые ценности». Там, где были уничтожены театры и концертные залы, следует приспособить уцелевшие общественные помещения. В части жилья он отдавал предпочтение жилым домам с садовыми зонами, децентрализации больших городских районов, созданию специальных промышленных зон. Много написано о необходимости избежать стандартизации проектирования.
В области экономики он хотел бы видеть более справедливое соотношение между заработной платой сельскохозяйственных и промышленных рабочих, осторожное введение ценового регулирования. Только по последнему вопросу он надиктовал восемьдесят две машинописные страницы, часто подолгу готовясь к диктовке и делая рукописные заметки. Результатом стал яркий труд, который читается, как университетская лекция. Далее приведен отрывок из него:
«Все, в чем человек испытывает необходимость и чего хочет, он должен обеспечить, используя природные ресурсы, собственным трудом. Последнее может существенно отличаться, в зависимости от климатических и других условий, но без труда природа не даст ничего. Мы должны работать, чтобы жить. Даже мыслительный процесс станет невозможным, если сначала природа не даст человеку еду и крышу над головой, иными словами, для работы мозга тоже необходимы условия. В отличие от животных, которые немедленно потребляют каждый добытый кусок, человек думает о будущем и делает запасы для последующего потребления. Так он создает капитал из ценных вещей, добытых и сохраненных».
В правительственной администрации он отдавал предпочтение гибкости и рациональности, чтобы максимально сократить число департаментов и министерств. В одном из очерков он открыто предсказывает возвращение демократии, ссылаясь на министров, «которые сегодня обязаны выполнять общие директивы, но которые однажды приобретут ответственность перед кабинетом и парламентом». Он также осмелился заявить, что министерство пропаганды Геббельса превысило свои изначальные функции, отобрав их у министерства образования, которые необходимо вернуть законному хозяину.
Находясь в заключении, Герделер написал много статей (среди них были «Записки приговоренного к смерти», написанные в сентябре 1944 года и опубликованные его биографом Риттером). Кроме этого, за пять месяцев, прошедших между вынесением смертного приговора и казнью, он надиктовал для своих тюремщиков труд, эквивалентный солидной книге. Все свое время он посвящал работе, и она стала своеобразным памятником человеку, который мог возглавить правительство послевоенной Германии.
3. Семья Вирмер
Роль, сыгранная видным юристом доктором Йозефом Вирмером в заговоре, достойна более подробного освещения. Его обаяние и образ действий в качестве посредника сглаживали противоречия, постоянно возникавшие между разными фракциями заговорщиков.
Его младшие братья Отто и Эрнст также имели отношение к заговору, хотя непосредственно в нем не участвовали, и потом пережили последовавший за его разгромом террор. Доктор Отто Вирмер также был юристом, и ему Йозеф отправил два письма из тюрьмы Плётцензее, которые кажутся еще более трогательными, поскольку написавший их человек умер за свои идеи.
Последнее письмо очень короткое и написано перед казнью Вирмера, состоявшейся 8 сентября 1944 года. Он просит брата позаботиться о его семье — жене и троих маленьких детях — и посылает им всю свою любовь. Письмо было доставлено сочувствующим заговорщикам тюремным надзирателем, который опустил его в почтовый ящик и после этого постарался как можно быстрее скрыться.
Несколькими неделями ранее — 14 августа — Йозеф Вирмер послал брату из тюрьмы Фюрстенберг более длинное письмо. Думая об их старшем брате Хайнце, погибшем в Первую мировую войну, он написал: «Сейчас я стою у порога, который всем нам придется когда– то переступить, кому-то, как Хайнцу, в самом начале весны жизни, другим, как маме, в разгар лета. Сейчас мне 43, столько же было маме, когда она ушла от нас. Умирать нелегко. Все чувства человеческие протестуют против такого исхода, и приходится призывать на помощь силу воли, чтобы сохранить достоинство. Надеюсь, я буду вести себя достойно до самого конца».
Далее он обсуждает домашние дела их большой, дружной семьи и добавляет: «Я могу сказать вам только одно: любите друг друга, будьте добры друг к другу, помогайте друг другу — эти пожелания идут от чистого сердца».
В заключение он пишет об условиях в тюрьме, стараясь заверить близких, что все не так страшно. Он утверждает, что хорошо высыпается, и просит прислать несколько книг, в том числе Библию. Ему хотелось получить свой любимый экземпляр Евангелия, который остался у него на столе.
Примечания
По словам Гизевиуса, миссия Бонхёффера в Швеции в 1942 году заключалась в том, чтобы развеять ложное впечатление, созданное переговорами Мюллера с Ватиканом о том, что в немецкой оппозиции только католики. (Здесь и далее, если не указано иначе, примеч. авторов).
— Как вы считаете, Этцдорф, момент настал? Будем мы в этом участвовать или нет? И поддержит ли нас немецкий народ?
Этцдорф ответил:
— Когда народ поддержит, будет уже слишком поздно. Иногда необходимо иметь смелость пойти на непопулярные меры и проводить непопулярную политику.
За участие в заговоре Вагнер был казнен.
19 июля к Вицлебену приезжал Гереке, чтобы составить текст заявления для использования на следующий день. По словам фрау Ремер,
20 июля Вицлебен уехал в Берлин только во второй половине дня, ближе к вечеру, а вернулся в десять часов вечера. Он сказал дочери, что все пошло не так и не далее как завтра за ним придут. Его арестовали 21 июля около одиннадцати часов. Армейские генералы, посланные за ним, вели себя подчеркнуто вежливо. Следует отметить, что в доме Линаров велась гостевая книга, куда вносились имена всех людей, посетивших дом. Графиня успела уничтожить ее до приезда гестаповцев и тем самым спасла жизнь Гереке.
— Какой вам дан приказ?
И те громко отвечали:
— Наш приказ — проследить, чтобы эти люди не сбежали, и застрелить их в случае попытки к бегству.
— Вы не смеете меня трогать! — кричал Корцфлейш выполнявшему приказ Ольбрихта юному лейтенанту. Корцфлейш потерял фуражку и выглядел злым и взъерошенным. Позже он успокоился и заявил, что участие в перевороте не входит в его понимание военной службы. Если Гитлер мертв, значит, произойдет всего лишь смена командования. Хаммерштейн подчеркнул, что такое отношение было типичным для военных.
Один из глав департаментов — доктор Георг Кизель — был ответственным за донесения, получившие название SS-Bericht, другие донесения стали результатом расследований, возглавленных Вальтером Хупенкотеном, который пережил войну и предстал перед судом. Расследованию помогали и одновременно усложняли его обнаруженные материалы на Бендлерштрассе и в Цоссене. Стали известны имена сотен людей, вовлеченных в заговор и впоследствии арестованных. Масштабный характер заговора стал потрясением и предупреждением для нацистских лидеров. В архивах Кобленца сохранилось письмо, адресованное Борманом гаулейтеру Галле Эггелингу, датированное 8.09.1944. В нем Борман приписывает пораженческие настроения армии влиянию заговорщиков. И особенно подчеркивает признания Герделера. «Кто бы мог подумать, что такое возможно? — напоследок вопрошает он. — Но, пожалуйста, держите подобные соображения при себе. Фюрер не хочет, чтобы об этом говорили». По предложению Геринга в армии 24 июля было официально введено нацистское приветствие вместо обычного армейского.
Там также находился бывший главнокомандующий греческой армией, бывший премьер-министр Венгрии и Курт фон Шушниг, бывший канцлер Австрии, со всей семьей. Среди немцев в этой группе были пастор Нимёллер, банкиры Тиссен и Шахт, принцы Филипп Гессенский и Фридрих Прусский и цирковой клоун Вильгельм Визинтайнер. Дочь Хофакера Криста, которой в 1944 году едва исполнилось тринадцать, после войны, достигнув возраста пятнадцати лет, написала весьма содержательный рассказ о том, что ей пришлось пережить. Все рассказанное ею было типичным для детей главных заговорщиков. Их было почти пятьдесят человек в возрасте от года до пятнадцати. Это были дети Герделера, Хофакера, обоих Штауффенбергов, Трескова и других.
Детей разделили с родителями, но, если не считать этого, они не подвергались жестокому обращению. Сначала за ними присматривали медсестры и воспитатели, приставленные гестапо. Потом их отправили в разные детские дома. Криста попала в детдом в Мюнхене, где жила в одной комнате со своей ровесницей Утой фон Тресков. Они очень страдали, не имея вестей о родителях, оставшихся в тюрьмах и лагерях, но Кристе, хотя ее и разлучили с братом Альфредом, которому было девять, разрешали иногда звонить ему. У обеих девочек были маленькие сестры, которые были помещены в другие детдома, и всем им были даны другие фамилии. «Они отобрали все мои деньги и личные вещи, даже портреты мамы и папы, — писала Криста. — И нам запрещали упоминать свои настоящие имена. Я часто вспоминала об отце, о том, как много ему пришлось страдать и каким смелым он был. Эта мысль придавала мне смелость тоже».
Позднее, после смерти родителей, Кристе сказали, что ее и других детей отдадут в разные семьи эсэсовцев. Проходили дни и недели, монотонность которых нарушалась только учащающимися воздушными налетами и периодами болезней (перед Новым годом Криста заболела скарлатиной). Численность группы постепенно уменьшалась. В конце войны Криста жила в комнате уже с одной из дочерей Штауффенберга. «11 марта был день рождения папы, — писала она, — а я даже не знала, жив ли он». К Пасхе оставшихся детей начали перемещать из лагеря в лагерь — подальше от наступления союзников. Кристу освободили 12 апреля. Но только 4 мая ей и всем оставшимся с ней детям сказали, что они могут пользоваться собственными фамилиями, а что их отцы в действительности являются национальными героями. В июне Криста вновь встретилась с матерью. Она уже знала, что ее отец погиб, но мать жива и находится в Италии. «Это была прекрасная новость, и она очень помогала мне жить, — писала девочка. — С нею даже горе утраты отца не казалось совсем уж безмерным. Я уже давно знала о постигшей его судьбе и сумела свыкнуться с этим».