Великий флот велик не только в своих победах, но и в трагедиях. Военно-морской флот СССР знавал и победы, знавал и трагедии. Атомный и дизельный подводный флот страны был самым крупным в мире по числу кораблей и, пожалуй, самым напряжённым по коэффициенту эксплуатации, по длительности и дальности океанских походов. Соответственно, повышалась и кривая аварийности. В задачу настоящего издания не входит разбор причин чрезвычайных происшествий. Автору важно было проследить поведение моряков в экстремальных ситуациях.
На каждом корабле ведётся журнал «Учёт чрезвычайных происшествий». Мне неизвестно, вёлся ли такой журнал в масштабах всего советского флота. Эта, книга — скромная попытка реконструировать такой журнал. Речь в ней пойдёт в первую очередь о взрывах, столкновениях, катастрофах, мятежах, посадках на мель. Чтобы у читателя не создалось слишком мрачного впечатления о реальностях военно-морской службы, я отношу к понятию «чрезвычайное происшествие» и другие экстраординарные события, не связанные с гибелью людей и кораблей, события, которыми ВМФ СССР может гордиться. Это прежде всего рекордные достижения в области скорости подводного хода и глубины погружения, ракетных пусков, уникальных походов подо льдами и на Северный полюс.
О судьбе нашего флота, о главной причине его бед и чрезвычайных происшествий писал на заре XX века видный моряк, контр-адмирал Л.Ф. Добротворский:
«Какой такой фатум висит над нашими головами, что японцы и другие нации могут приходить к верным решениям, мы же никак не можем! Что это — уже не грозный ли признак вырождения? Ведь всякое дело мы умеем как-то так запутать, так удалить от здравого смысла, что просто страшно становится за судьбу России и всех нас. Взять хотя бы понятия о флоте.
Его с развязностью считаем каким-то подспорьем армии, на манер понтонов или обозов, и с лёгким сердцем делим на какой-то оборонительный и наступательный, когда он по природе своей без наступления ноль — хуже, чем форт, который всё-таки, хотя бы и разрушенный, не утонет.
В понятие военного корабля включают всякую железную посудину, лишь бы на ней стояли пушки и минные аппараты. Всю оценку личного состава определяем его удалью и отвагою, нисколько не смущаясь прикрывать ими, раз это трудно проверить, и при том достаётся без занятий, не только своё невежество по всем техническим, морским вопросам, но даже чуть ли не с полною радостью готовы заменить этой удалью пушки, снаряды, башни, броню и машины современных кораблей. Всю военно-морскую дисциплину решаем черпать из внешних форм чинопочитания, из молодцеватого вида людей, их фронта и ружейных приёмов, а не из твёрдых знаний боевых сил корабля. Без малейшего смущения выпускаем в офицеры недоученных кадетов и без всякой церемонии наполняем корпус случайным подбором мальчишек даже без намёка на конкуренцию».
Как ни печально, но спустя почти век эти слова по-прежнему актуальны…
О некоторых чрезвычайных происшествиях (в самом широком диапазоне этого понятия) было рассказано в книге «В отсеках холодной войны», выпущенной издательством «Вече» в 2005 году. Эта работа в известном смысле может считаться продолжением темы, но отнюдь не исчерпывающей её.
Автор благодарит всех моряков, кто поделился своими воспоминаниями и фотографиями, которые легли в основу этой книги.
О, море, древний душегубец!
Александр Пушкин
Пущен корабль на воду — сдан Богу на руки.
Русская пословица
…КОГДА ЕЁ СПУСКАЛИ НА ВОДУ, У НЕЁ БЫЛ ТОЛЬКО ТАКТИЧЕСКИЙ НОМЕР — К-19. СВОЁ ЗЛОВЕЩЕЕ ИМЯ ОНА ПОЛУЧИЛА В ОКЕАНЕ — «ХИРОСИМА»… Впрочем, это не имя, а прозвище. «Хиросимой» её зовут меж собой подводники атомного флота. Горький юмор…
Почему «Хиросима»? Не потому ли, что в своих ракетных боеголовках она несла десятки Хиросим — десятки условных городов, обречённых на ядерное испепеление?
Не потому ли, что сама однажды едва не превратилась в ядерный гриб, когда из аварийного реактора чуть не потёк расплавленный уран?
Не потому ли, что в девятом отсеке забушевала вдруг гигантская «паяльная лампа», в бешеном пламени которой сгорели и задохнулись десятки моряков?
Она была первой советской ракетоносной атомной подводной лодкой. У её колыбели стояли маститые академики — Александров и Королёв, Ковалёв и Спасский.
Её величали первенцем советского стратегического атомного флота, потому что именно она несла в своём чреве три межконтинентальные баллистические ракеты.
Первенец уже в колыбели потребовал человеческих жертв: в феврале 1959 года ночью при оклейке десятого отсека пробковой крошкой произошёл взрывообразный пожар, в пламени которого погибли двое рабочих.
Подобно тому как в Древней Ассирии путь кораблю к воде поливали жертвенной кровью рабов, слиповые дорожки К-19 также были обагрены человеческой кровью. Вслед за первыми двумя жертвами атомный молох пожрал жизни шестерых женщин: они оклеивали резиной цистерны атомарины и задохнулись в ядовитых парах. В декабре 1960-го крышкой ракетной шахты задавило электрика. Затем разбился молодой инженер, свалившись в прорезь между смежными отсеками… Но главные жертвоприношения были впереди… Те, кто выжил, закоснелые советские атеисты, не верящие ни в Бога, ни в чёрта, сегодня вполголоса говорят о чьём-то заклятии, висевшем над кораблём, и вспоминают, что неспроста не разбилась при спуске традиционная бутылка шампанского. Пущенная вопреки ритуалу неженской рукой (рукой инженер-механика Панова), она скользнула по бронзовым лопастям гребного винта и целёхонькой отскочила от обрезиненного борта.
Дурная примета!
Каких богов — земных, морских, небесных — разгневали они? Первая кара обрушилась на них 4 июля 1961 года. К-19 шла Датским проливом. У них была странная задача: уйти под ледяной панцирь и там, развернув ракеты в сторону СССР, изображать вражеский атомоход. Завеса дизельных подводных лодок должна была сорвать ракетно-ядерный удар, условный разумеется, по территории страны. Дизельные «эски» — среднетоннажные субмарины — намеревались поразить ядерного левиафана своими торпедами…
Капитан-лейтенант В. Погорелов, бывший командир электротехнического дивизиона (вместе с командиром он последним покинул борт объятого чудовищной радиацией корабля):
«Я слушал „Лунную сонату“ в рубке гидроакустиков. Играла моя жена. Магнитофонную плёнку с записью своей игры она прислала из Киева перед походом. Вы улыбнётесь, но сейчас мне всё чаще и чаще приходит в голову такая мысль: Киев, „Лунная соната“, авария реактора, что-то вроде генеральной репетиции той ядерной катастрофы в Чернобыле, которая продолжается и поныне… Может, всё дело в „Лунной сонате“? Для меня всё это сплелось в какой-то дьявольский узел…
Но представьте себе: на стометровой глубине, над трёхкилометровой бездной несётся в кромешной ночи подводный ракетодром. Огибаем айсберги. Конец затянувшегося похода. Нервы на пределе, и тут — нежные бетховенские звуки, да ещё из-под пальцев любимой женщины…
Я стою свою „механическую“ вахту с четырёх утра. Самое противное время: клонит в сон — хоть умри. И командир разрешал нам маленькие вольности: зарядиться музыкой у радистов. Те подлавливали на сеансах связи блюзы и танго из американских ночных дансингов. Благо они были неподалёку.
Всего лишь семь минут слушал я „Лунную сонату“. В четыре ноль семь — тревожный доклад с пульта управления атомными реакторами, Юра Ерастов, вахтенный КГДУ, сообщает: „Падает давление в первом контуре кормового реактора… Подхвачена компенсирующая решётка… Запущен водяной циркуляционный насос“.
С этого и начался наш подводный атомный ад…»
Что же всё-таки произошло?
Капитан 1-го ранга Н.В. Затеев:
«В том, что произошло, вины экипажа не было… Помните, как в старой притче про гвоздь: его не вбили в подкову лошади полководца, и та оступилась в решающий момент. „Враг вступает в город, пленных не щадя, оттого что в кузнице не было гвоздя…“
Вот так и у нас… Только вместо гвоздя был термический коврик, которым некий рабочий не накрыл при сварке нижепроходящий трубопровод; на него капал расплавленный металл, из-за термического перенапряжения возникли микротрещинки. Всё остальное было уже делом времени…
Короче, из первого контура кормового реактора ушла охлаждающая вода, как уходит она из дырки в электрочайнике. Что станет с электрочайником? Расплавится, потечёт, сгорит… Примерно то же ожидало и нас, с той лишь разницей, что плавиться должны были не оболочки электроспирали, а урановые ТВЭЛы — тепловыделяющие элементы. Расплавленный уран скапливается в сферическом поддоне, и, как только масса его достигает килограмма, по всем законам ядерной физики — атомный взрыв. И где — рядом с американской военно-морской базой на острове Ян-Майен. А в мире и без того напряжённо — Карибский кризис вызревает. Тут только начни — и пойдёт полыхать… Что делать?
Собрал в кают-компании командиров боевых частей и инженеров. Эдакий совет в Филях под Ян-Майеном…»
В. Погорелов:
«Стояло раннее утро. И люди всех континентов, начиная новый день, конечно, не подозревали, что их судьба, как и судьба планеты, решается сейчас не в ООН, не в Вашингтоне и не в Москве, во втором отсеке подводного ракетоносца. Да, да, точь-в-точь, как в мрачном полубредовом боевике. Спасение было не в казуистике международного права, а в решении замысловатой технической задачи: как не допустить расплавления урановых стержней, как охладить взбесившийся реактор? Инструкция предлагала отвести тепло, выделяемое ТВЭЛами, путём проливки или, понятнее будет сказать, — прокачкой активной зоны реактора водой. Но как?! Конструкция реактора не имела для этой цели специальной системы. А ведь механики К-19 во время приёмки корабля убеждали строителей, что магистраль аварийного расхолаживания реактора совершенно необходима. Но завод спешил с победным рапортом: „Есть первый советский атомный ракетоносец!“ И в ожидании потока звёзд и наград не посчитали нужным „усложнять конструкцию и без того сложного агрегата“. Эх, до чего ж мы сильны задним умом! И вот теперь эту систему надо было создавать из подручных средств и, самое страшное, монтировать её в отсеке с тройной смертельной нормой радиации! Без защитных костюмов (их не было у нас), голыми руками, в армейских противогазах, которые защищают от излучения с той же эффективностью, что и пресловутые белые простыни.
Но кому-то надо идти умирать… Никто не произносил высоких слов, но в подтексте, в подкорке это всё давно было — за нами даже не Москва, за нами шар земной.
Мир до сих пор не знает имён этих парней.
Лейтенант Борис Корчилов, было ему едва за двадцать.
Остальным и того меньше — восемнадцать, девятнадцать:
главстаршина Рыжиков;
старшина 1-й статьи Ордочкин;
старшина 2-й статьи Кашенков;
матрос Пеньков;
матрос Савкин;
матрос Харитонов.
Потом эти имена в таком же порядке лягут на могильные плиты. А пока у них ещё есть час, шестьдесят минут отсрочки — пока мы не всплывём, не откроем люк, пока электрики не приготовят сварочный аппарат, а дизелисты — дизель-генератор. У каждого своё дело. Вам выпал жребий согласно корабельному аварийному расписанию. Вы — кормовая аварийная партия. Ваш долг. Ваша присяга. Покурите пока. Всего лишь час. Курите, где хотите, вам сейчас всё можно. Это последняя радость жизни, отпущенная вам судьбой. Пусть будет сладок ваш „Беломор“.
Команды… Затеев и сейчас, спустя тридцать лет, готов повторить их одна за одной…
— По местам стоять, к всплытию!
— Акустик, прослушать горизонт!
— Приготовить шестой (реакторный. — Н.Ч.) отсек к проведению аварийных работ по плану механика!
— Противопожарный контроль возлагаю на помощника командира капитана третьего ранга Енина.
Шесть часов пять минут… Всплыли. Закачались… Но не сильно. Кажется, с погодой повезло. Хоть на этом спасибо…
По отсекам — голос Затеева:
— Отдраить верхний рубочный люк! Сигнальщика на мостик!
Всё как всегда. Привычный ритуал воссоединения с атмосферой матушки-Земли. На сердце лёгкая надежда: может, обойдётся? Не пожар всё-таки, гарью не тянет… Может, и радиация эта — только россказни? У страха глаза велики…
Ах, какой сладкий воздух льётся из шахты рубочных люков!
Бросьте папиросы, ребята! Лучше подышите напоследок. Вам осталось полчаса. А может, и нам всем…
Море почти штилевое… Правда, океанская зыбь ещё не улеглась, „коломбина“ наша переваливается с борта на борт. Хоть и утро, а солнце почти в зените — Арктика, вечный день. Вечный ли?..
Пара чаек пролетела над самой рубкой. Значит, земля неподалёку. По карте до острова Ян-Майен не больше ста миль… Вокруг — насколько хватает оптической силы бинокля — пустая ширь океана. И близка земля, да не наша. А под килем — три километра.
Одна беда не приходит. Радисты не могут связаться с Москвой. Подо льдами раскололи изолятор и залили антенну. Если рванёт, даже Главный штаб не узнает, чей ядерный гриб встал над Арктикой.
Работают оба дизеля, выдувая выхлопными газами океанскую воду из балластных цистерн. Частично вентилировали отсеки.
Связи нет как нет… Правый дизель-генератор готовят к работе в сварочном режиме. Электрики Стрелец, Калюжный и Токарь тянут от него в реакторный сварочные кабели…
Что это? Воздвигают эшафот для аварийной группы?! Или рабочие сцены сооружают подмостки для финального акта трагедии? Или ассистенты хирурга готовят операционный стол?
Связи нет.
Температура в реакторе растёт, уровень радиации в отсеках повышается. Час назад на пульте центрального поста (мозг корабля) дозиметры показали пять рентген в час, в турбинном отсеке — двадцать, в шестом, реакторном, — пятьдесят.
По кораблю нарастает аэрозольная активность… Это сменились вахты и по отсекам потащили радиоактивную „грязь“ на подошвах. Даже если ничего больше не случится, для нас всех это уже „доза на всю жизнь“. Но это было час назад, когда температура в каналах реактора ещё поддавалась приборному измерению — шестьсот градусов Цельсия. Теперь температурные датчики зашкалили. При тысяче двухстах градусах уран потечёт в поддон. Сколько там натикало сейчас — восемьсот, пятьсот, тысяча? Командир:
— Доложить об уровне радиации в отсеках!
От доклада стынет кровь в жилах:
— В реакторном — до ста рентген в час, в седьмом — пятьдесят. На пульте — двадцать пять – тридцать.
Счёт их жизней шёл на рентгены, часы и градусы… Связи нет, и теперь уже не будет. Антенна залита солёной морской водой…»
Н.В. Затеев:
«Я подозвал к себе лейтенанта Корчилова. Красивое, ещё юношеское, лицо, голубые глаза. Скольким девушкам кружили голову его пышные кудри!
Боже, что с ним теперь станется?!
— Борис, ты знаешь, на что идёшь?
— Да, товарищ командир.
Я вздохнул:
— Ну, так с Богом!»

…Потом, много лет спустя, когда портреты Затеева и Корчилова будут наконец опубликованы в «Правде», кто-то из читателей бросит убийственное: «Смотрю на фото: лейтенант погиб, а капитан жив…» Спустя тридцать лет отставной капитан 1-го ранга Затеев придёт в православный храм русских моряков — питерский Никольский морской собор — и зажжёт на панихиде поминальную свечу по командиру реакторного отсека лейтенанту Корчилову и всей кормовой аварийной партии…
С Богом — в ад!
Город Полярный. Вот она, «Хиросима», доживает свой век у заводского причала. Её последний командир капитан 1-го ранга Олег Адамов покажет мне потом тесную выгородку в реакторном отсеке. Именно сюда спустилась в шесть часов пятьдесят минут аварийная группа Бориса Корчилова.

Н.В. Затеев:
«Когда они вошли в отсек — увидели голубое сияние, исходившее от трубопроводов аварийного реактора. Они подумали, что начался пожар. Но это светился от дьявольской радиации ионизированный водород…»
С. Погорелов:
«Активность на крышке реактора, где им предстояло работать, уже достигала двухсот пятидесяти рентген в час. Ребята работали по два-три человека в группе, закутавшись в химкомплекты, натянув маски изолирующих противогазов. Но Борис Корчилов как „хозяин“ отсека присутствовал всё время. Он не вымерял, достанется ему больше, чем остальным, или меньше. Тогда об этом просто никто не думал. Молили Бога об одном — лишь бы не рвануло…
Им надо было отвернуть заглушку „воздушника“ на компенсирующей решётке и приварить медный трубопровод, который применяют для зарядки торпед воздухом высокого давления. Едва открыли заглушку воздушного спуска, как оттуда вырвалось облако радиоактивного пара. Пар заполнил выгородку и стал разлагаться на водород, который тут же начал возгораться то тут, то там голубыми вспышками. Мы предвидели подобную ситуацию. Шланги и огнетушители были на „товсь“. Пожар потушили в считанные минуты. Однако температура в выгородке подскочила до шестидесяти градусов. Пар заволакивал очки масок, матросы их стаскивали. Чем они дышали? Эту дьявольскую смесь уже и воздухом не назовёшь — сверхрадиоактивный аэрозоль. Ведь интенсивность радиации на крышке реактора из-за выброса пара повысилась до пятисот рентген!»
Кроме группы Корчилова в этой смертельной парилке — ещё два офицера, которые руководят монтажом самодельной системы, — инженер-механик Анатолий Козырев и командир дивизиона движения Юрий Повстьев.
Примерно через полтора часа всё было закончено. Охлаждение заработало. Все бросились к прибору АСИГ, показывавшему температуру в каналах активной зоны реактора.
Что он покажет?! Надо ждать…
Н.В. Затеев:
«Когда Борис Корчилов вылез из реакторного и стащил маску ИПа (изолирующего противогаза. — Н.Ч.), на губах его пузырилась желтоватая пена. Его тут же вырвало. Там, на крышке реактора, все они нахватались жёстких „гамм“ без всякой меры. Мы все понимали — ребятам конец. Их смерть — вопрос нескольких дней… Чем облегчить их последние часы в этом самом лучшем из миров?
Я отправляю всю девятку в наш лодочный „рай“ — первый (торпедный) отсек. Там самый низкий уровень радиации, да и попрохладнее, посвежее, чем в других отсеках.
Прошу лодочного врача майора медслужбы Косача:
— Доктор, сделай всё возможное…
И в глазах его читаю безнадёжный ответ: „Медицина бессильна…“
В девять двадцать принимаю доклад вахтенного КГДУ:
— Товарищ командир, показания температуры в каналах аварийного реактора вышли на уровень, контролируемый приборами пульта управления.
Слава Богу!
Чуть отлегло от сердца.
Но только чуть. В центральном посту на пульте управления уровень радиации достиг ста рентген. Чтобы хоть как-то уменьшить нарастание активности, приказываю перевести второй реактор на минимальный режим и двигаться на гребных электродвигателях под дизель-генераторами.
Иду в первый отсек. Там на матрасах ничком лежат Корчилов, Ордочкин, Кашенков, Пеньков, Харитонов, Савкин. Часам к десяти утра самочувствие их резко ухудшилось. Лица распухли, губы вывернуты, глаза налились кровью. Несколько лучше чувствуют себя Повстьев, Козырев и Рыжиков.
Доктор Косач со своим санитаром трудятся не покладая рук, пытаются хоть чем-то облегчить страдания обречённых. Хотя прекрасно понимают, что, ухаживая за пострадавшими, облучаются и сами. Позже станет известно: Корчилов получил пять тысяч четыреста бэр и потому сам стал интенсивнейшим источником облучения.
— Сгущёнки бы, — скорее разбираю по шевелению вздутых губ, чем слышу Корчилова. Санитар бросается открывать банку сгущённого молока… Командир реакторного отсека был сладкоежкой… Ловлю себя на этом заупокойном „был“. Гоню прочь мрачные мысли… Может, обойдётся?!
Почему должны гибнуть эти молодые, красивые, самоотверженные парни? Кто приговорил их к смерти?
К концу суток и в лазаретном отсеке уровень радиации повысился с двух рентген в час до десяти. Чтобы снять нервное напряжение, а также чтобы увеличить сопротивляемость организма облучению, разрешил личному составу выпить по сто граммов спирта. Один из молодых матросов хватил лишку и вырубился. Пришлось уложить его в лазарет.
В десять тридцать температура в активной зоне аварийного реактора упала до двухсот – двухсот пятидесяти градусов и более-менее стабилизировалась на этом уровне. Но радиация нарастала по всему кораблю.
О том, как воздействуют сильные дозы облучения на организм, все мы имели довольно общее понятие. И, конечно же, больше всего нас угнетала мысль не о возможных раковых опухолях, а о потере мужских способностей. Ведь средний возраст офицеров на лодке был двадцать шесть лет; да и я в свои тридцать пять, хоть и считался почти стариком, тоже рефлексировал на сей счёт. Но пока что мысль о том, что нет связи и о своей беде мы не можем никому сообщить, заслоняла все остальные тревоги.
Я развернул атомоход курсом строго на юг — к берегам Норвегии — в надежде, что так мы быстрее выйдем на оживлённые морские трассы, а там, глядишь, подвернётся кто-нибудь из Мурманска. Я готов был высадить своих страдальцев хоть на рыбацкий сейнер. Лишь бы тот шёл под красным флагом.
Велел врубить аварийный передатчик, и тот посылал сигналы SOS на международной частоте. Но никто не откликался. Маломощный — четыреста ватт — аппарат работал в радиусе всего около ста миль.
Идти же прямиком в базу — это более трёх суток. Надо ли говорить, что за этот срок К-19 превратилась бы в „летучего голландца“ со светящимися трупами в отсеках. Разумеется, сознавал это не только я. Едва подлодка повернула на юг, как на мостик ко мне поднялись двое. Не буду называть их фамилий. Но это были мой замполит и мой дублёр (командир резервного экипажа). Они настойчиво стали склонять меня к мысли, что идти надо на север — к Ян-Майену, высадить людей на остров, а корабль затопить. Я турнул их с мостика, и теперь к старым тревогам прибавилась новая: что, если там, в отсеках, они подобьют разогретых спиртом матросов, мягко говоря, к насильственным действиям? Я не исключил и такого варианта, хотя верил в своих людей и в итоге ни в ком из них, кроме замполита, не ошибся.
Но тогда, на мостике, когда оглядывал океанскую пустыню — хоть бы точка где возникла! — и перебирал в уме невесёлые наши варианты: тепловой взрыв, бунт, переоблучение, чего греха таить, возникла однажды мысль спуститься в каюту, достать пистолет и покончить со всеми проблемами разом.
Не буду говорить, что я испытал, когда сигнальщик доложил, что видит цель и цель эта — наша дизельная подводная лодка, одна из тех, что обозначала „красную“ сторону в несостоявшейся игре. Вскоре подошла и вторая. Обе услышали наш SOS и покинули завесу на Фареро-Исландском рубеже без приказа. Командиры этих „эсок“ — Гриша Вассер и Жан Свербилов — пришли сюда на свой страх и риск.
Первым делом попытались передать на „дизелюхи“ пострадавших моряков. Бились два часа. Погода ясная, но крупная океанская зыбь рвала швартовы.
К четырнадцати часам на одну из лодок нам удалось пересадить всех переоблучённых, а также тех, чьё присутствие на борту К-19 не было необходимым для обеспечения живучести корабля и его хода. Но самое важное — через лодочные передатчики удалось связаться с Москвой. Первый вопрос: как спасать погибающих? Лица у них стали красными и раздутыми, точно их запекли в духовке.
Томительно жду ответа из Главного штаба. Бегут часы… Наконец долгожданное радио, расшифровываю:
„Давайте им побольше свежих фруктов и натуральных соков“.
Матюгнулся: где я посреди Арктики возьму свежие фрукты?!
Думаю, что московские специалисты дали подобную рекомендацию, явно находясь в шоковом состоянии. В пятнадцать часов ещё один удар по нервам: наша самодельная система охлаждения дала течь. Выйдет весь бидистиллят (дистиллированная вода двойной перегонки), и температура активной зоны снова начнёт повышаться — значит, снова угроза взрыва… Кого посылать в реакторный на сей раз?
Вызвались идти командир электротехнического дивизиона капитан-лейтенант Погорелов, старшина команды трюмных Иван Кулаков и старшина-ракетчик Леонид Березов. Довольно быстро они заварили место протечки.
К вечеру на дизельные лодки мы пересадили ещё двадцать человек. На К-19 остались шестеро: я, заместитель по политчасти, шифровальщик, сигнальщик, два электрика.
Подводную лодку с пострадавшими отправляю в базу. Под утро перебираемся все на подводную лодку С-159. Жду указаний из Москвы. А пока первый советский атомный ракетоносец беспомощно покачивается на зыби. Чёрный остров невидимой смерти. Мы не имеем права покидать его, бросать на произвол судьбы. Тем более рядом с американской военно-морской базой. Был 1961 год — разгар Холодной войны.
Беру у Гриши Вассера вахтенный журнал и делаю в нём запись: „Командиру ПЛ С-159. Прошу циркулировать в районе дрейфа К-19. Торпедный аппарат № 4 (заряженный боевой торпедой) прошу подготовить к залпу. В случае подхода к АПЛ К-19 военно-морских сил вероятного противника торпедировать АПЛ К-19 буду сам. Командир АПЛ — капитан 2-го ранга Затеев. (Астрономическое время. Дата.)“.
К счастью, торпедировать родной корабль не пришлось. В район дрейфа прибыли наш крейсер и вспомогательное судно.
Что было дальше? Был тяжёлый штормовой переход домой. Пересадка на подошедший эсминец… Процедура дезактивации. А потом госпиталь на берегу. Отправка тяжелобольных в Институт биофизики. И нелепое падение одного из вертолётов с больными подводниками на борту. На глазах у всего госпиталя, всех провожающих. Порывом штормового шквала машину швырнуло на стадион. Правда, обошлось без жертв. Судьба уготовила подводникам иное испытание: больные погибли от радиоактивного облучения.
А ещё было многосуточное расследование действий командира и других должностных лиц. С протоколами, показаниями, объяснениями, вызовами по ночам…
Я уже приготовился надеть „полосатую пижаму“ эдак лет на пятнадцать. Всё к тому шло.
Однажды на завтрак появились апельсины, яйца, фруктовые соки. Потом прибыл кадровик из Москвы. Намекнул: мол, дырки для орденов колите…
Спас нас академик Александров. Когда он прибыл в Полярный, где стояла К-19, и с борта эсминца замерил радиоактивное поле, он поразился тому, что мы жили и действовали в нём несколько суток… Доложил Хрущёву, мол, так и так: экипаж совершил подвиг — спас стратегический ядерный подводный крейсер. Тут-то для нас всё изменилось как по волшебству…»
Но смерть, поселившаяся в отсеках К-19, искала новые жертвы. Искала и находила. Всё имущество с атомарины, «грязное» в лучевом отношении, перегрузили на специальную баржу, которую потом поставили на прикол в одну из необитаемых бухт Кольского полуострова. Неподалёку работали военные строители. Солдатский паёк в стройбате не самый сытный, а тут прознали, что старая баржа доверху нагружена всевозможными деликатесами: копчёная колбаса, сыр, шоколад, консервы, галеты, вобла, печенье… Ну и устроили бойцы «праздник живота». Ведь никаких табличек, предупреждающих о радиоактивной опасности продуктов, да и самой баржи, вывешено не было. Соблюдали «режим секретности». Точь-в-точь, как берегли эту пресловутую секретность в Киеве после чернобыльского взрыва, когда ничего не подозревающих горожан зазвали на первомайскую демонстрацию.
Кто знает, что стало с теми стройбатовцами, отведавшими радиоактивных яств с проклятой баржи…
В далёком полярном гарнизоне одна из улиц носит имя Бориса Корчилова. Между прочим, командир представлял лейтенанта к званию Героя Советского Союза. Начальство в Москве распорядилось иначе: «Аварийный случай… Обойдётся орденом».
Да ему-то что… Он давно уже обошёлся… Не ради звезды, не ради ордена полез в радиационное пекло.
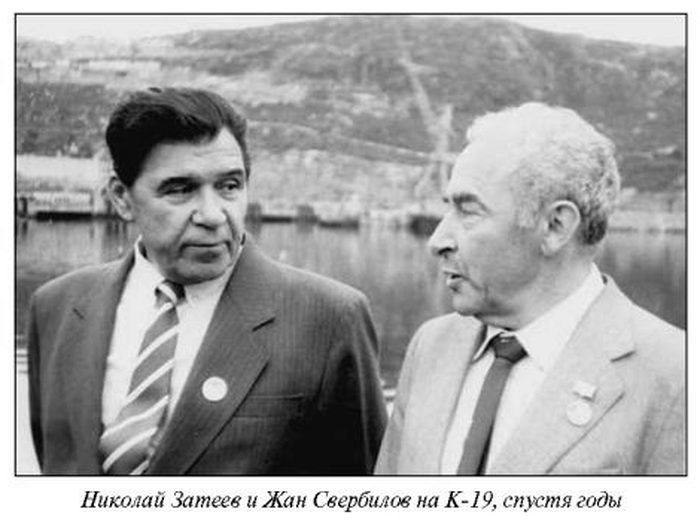
В дождливый летний день приехали мы с Николаем Владимировичем Затеевым на окраину Москвы — в Кузьминки, вошли в кладбищенские ворота. По дороге Затеев рассказывал:
— Наших переоблучённых моряков Институт биофизики схоронил в свинцовых гробах, тайно, не сказав о месте захоронения даже родственникам. Обнаружил «совсекретное» захоронение один из членов нашего экипажа. Случайно. Привёз хоронить мужа сестры и вдруг увидел вот эти могилки.
Затеев показал на грубо сваренные железные пирамидки. Знакомые имена тех, кто в реакторном и смежном с ним отсеках, жертвуя собой, не дрогнул и выполнил свой долг до конца:
старшина 1-й статьи Юрий Ордочкин;
старшина 2-й статьи Евгений Кашенков;
матрос Семён Пеньков;
матрос Николай Савкин;
матрос Валерий Харитонов.
Молодые матросские лица на керамических овалах. А рядом — роскошный мраморный монумент их ровеснику — цыганскому парню, погибшему в пьяной драке. Цыгане умеют чтить память своих удальцов. Поучиться бы у них политработникам в генеральских погонах…
— А где Корчилов? Повстьев?..
— Бориса и Юру Повстьева перезахоронили в Питере — на Красненьком кладбище. Главстаршина Рыжиков лежит на Зеленоградском кладбище под Питером…
Из Кузьминок мы отправились на станцию Сходня, что находится близ Москвы, по дороге в Питер. Сколько раз проезжал на электричке мимо этого домика с палисадником и подумать не мог, что именно здесь собираются на свои поминальные «атомные вечери» подводники с К-19. Собираются каждый год в день аварии под хлебосольным кровом бывшего старшины 1-й статьи, а ныне доктора сельскохозяйственных наук, специалиста по лекарственным травам Виктора Стрельца… Много лет назад уволенный в запас старшина бросил клич сослуживцам: «Помогите, ребята, дом построить!» С тех пор и собираются по раз и навсегда отлаженному обычаю: сначала Кузьминки и поклон погибшим товарищам, потом Сходня… К возвращению с кладбища жена Стрельца натопит баньку, после баньки — стол с домашней снедью и своим же вином. А за столом там, как в баньке, все равны — и бывшие матросы, и офицеры… Только Затеев для них навсегда — «товарищ командир».
— Товарищ командир, передайте огурчики!..
Я смотрю на этих людей, куда как пожилых, живалых и бывалых, и думаю: а ведь по великому чуду собираются они здесь вместе. Вот уж тридцать лет, как их могло не быть на этом свете — размётанных ядерным взрывом по молекулам. Чудо, которое спасло их, зовётся подвигом души и сердца, когда человек кладёт свою жизнь за други своя.

Специальной правительственной комиссией действия экипажа по ликвидации аварийной ситуации на корабле были признаны правильными. Несколько позже, в октябре 1961 года, на ответственном совещании, где решался вопрос о продолжении строительства атомного подводного флота, ещё раз были отмечены умелые действия моряков, было сказано, что жертвы, принесённые экипажем, не напрасны.
Урок пошёл отчасти впрок. На всех действующих и проектируемых реакторах подобного типа были установлены штатные системы аварийной водяной проливки.
Многие матросы, старшины и офицеры за мужество и героизм были награждены орденами и медалями, экипаж отмечен ценными именными подарками министра обороны. При вручении орденов и медалей бывший в то время командиром Ленинградской военно-морской базы адмирал И. Байков «успокоил» ещё не отошедших от потрясения моряков: «Ну что вы там героями себя считаете? С трамваем у нас в Ленинграде тоже аварии случаются». Кстати сказать, некоторым подводникам вообще никакой награды не вышло.
Может, нынче стоит вернуться и к этому вопросу, о наградах. Понимаю, он не главный. Но воздать людям должное никогда не поздно. Они ведь первыми вошли в схватку с атомом и победили его.
Тогда, на заре ядерной энергетики, никто из них ещё не знал до конца, к каким последствиям для всего живого, для всей нашей матери-Земли может привести взрыв реактора. Об этом люди узнали после Чернобыля. А до него оставалось двадцать пять лет.
После аварии на атомоходе на всех реакторах, в том числе и на чернобыльских, были смонтированы необходимые устройства для охлаждения активной зоны в случае экстремальных ситуаций. Почему это устройство оказалось выключенным на реакторе ЧАЭС — загадка. Когда там случилась авария, один из смены бросился включать систему, но было уже поздно.
Так что уроки уроками, а люди людьми…
«Уважаемая редакция! Я тот самый Кулаков Иван, главный старшина, которого вы назвали в числе получивших дозу облучения. После аварии лечился в Военно-медицинской академии в Ленинграде. Был признан комиссией негодным к военной службе со снятием с воинского учёта. Определили вторую группу инвалидности. Назначили пенсию в размере 28 рублей плюс 4 рубля за старшинское звание. Итого 32 рубля. На работу устроиться было невозможно и по состоянию здоровья, и по диагнозу. Слова „лучевая болезнь“ нигде, правда, не писали, они были „секретными“.
Некоторое время жил на иждивении брата. Потом написал письмо на флот, в политотдел своей части. Там посоветовались с медициной и решили: если я изъявлю желание, меня переосвидетельствуют и призовут на сверхсрочную службу. Я дал согласие.
Прослужил за Полярным кругом до августа 1980 года, уволился в запас по выслуге. Теперь на пенсии, размер её сто пятьдесят рублей. Живу в Минске».
А в конце приписка для командира: «Дорогой Николай Владимирович! Огромное Вам спасибо и низкий поклон за Ваши умные и решительные действия в экстремальных условиях, спасшие жизнь не одному десятку вверенного Вам личного состава».
«Я служил на той лодке в звании старшины 1-й статьи, до увольнения в запас мне оставалось только три месяца… Мы постарели теперь, изменились и, наверное, не узнаем сразу друг друга. Но меня, думаю, помнят товарищи. Мне единственному командир разрешил носить усы». Это из письма инженера А. Молотка из города Шахты Ростовской области.
Бывший электрик-оператор старший матрос Л. Гаврилов написал из Нижнего Новгорода. Машинист-турбинист П. Котлов — из Чебоксар. На лодке он исполнял и обязанности киномеханика, так что, считал, его должны помнить. Помнят. Конечно, помнят. Они помнят всех, кто выходил с ними в тот роковой поход. Вот и деньги собрали на мемориальную бронзу. Отлили доску с именами всех погибших на К-19. Сей памятный знак укрепили и освятили в верхнем храме Никольского собора, что в Питере, на берегу Крюкова канала. И блестели капельки святой воды в рельефных литерах матросских имён. И капал воск поминальных свечей на носки офицерских ботинок. И суетились репортёры, снимая непривычное тогда ещё зрелище: военных моряков в толпе прихожан. Да, многие из них впервые стояли в церкви, постигая древнюю моряцкую истину: «Кто в море не ходил, тот Богу не молился». Они ходили в море. И в какое море! Они молились Богу. И как молились…
СПРАВКА
К-19
Первый советский атомный подводный ракетоносец, вооружённый баллистическими ракетами, К-19 был заложен на стапелях СЕВМАШа (Северодвинск) 17 октября 1958 г. Главный конструктор — С.Н. Ковалёв. Проект разработан в ленинградском ЦКБ «Рубин».
Спуск на воду — 11 октября 1959 г.
12 ноября 1960 г. были завершены государственные испытания. В состав Северного флота К-19 вошла в 1961 г. Первый командир — капитан 1-го ранга Николай Владимирович Затеев.
3 июля 1961 г. на К-19 произошла авария правого реактора. В результате разгерметизирования первого контура стала нарастать гамма-активность. Для предотвращения угрозы расплавления ядерного топлива члены экипажа смонтировали внештатную систему водяной проливки (охлаждения) реактора. Спасая корабль, погибли в результате переоблучения 8 человек.
После ремонта К-19 снова вступила в строй в 1964 г.
15.11.69 г. К-19 в Баренцевом море столкнулась с американской ПЛА «Gato» и получила повреждения. С 20.10.70 г. по 15.04.74 г. совершила 5 автономных походов на боевую службу общей продолжительностью 269 суток. 24.02.72 при возвращении с боевого патрулирования в Сев. Атлантике на глубине 120 метров в 9-м отсеке возник объёмный пожар. Погибли 28 человек. 12 моряков были отрезаны огнём в 10-м отсеке, которые находились там в состоянии полной изоляции от внешнего мира с 24.02 по 18.03.72 г. После длительного ремонта К-19 снова вошла в строй. В 1979 году К-19 была переоборудована в опытовый корабль для испытания систем связи — переименована в КС-19.
В 1990 г. КС-19 выведена из боевого состава ВМФ в резерв, а в 1991 г. списана.
Но до сих пор находится на плаву в ожидании утилизации на заводе «Нерпа» в Снежногорске.
Всего с момента постройки К-19 прошла 332396 миль за 20223 ходовых часа.
За многочисленные аварии получила на флоте прозвище «Хиросима». К-19 посвящены ряд книг («Хиросима всплывает в полдень» и др.), несколько документальных фильмов и один художественный.
За всю историю мореплавания ни одному капитану, ни одному командиру не пришлось столкнуться в океане с тем, что выпало на долю командира первого советского атомного подводного ракетоносца К-19 капитана 2-го ранга Николая Затеева. Он и его экипаж вступили в противоборство с невидимой убийственной силой расщеплённого атома — радиацией. Моряки одолели эту беду, приняв смертельные лучи в свои тела так, как герои прошлой войны перекрывали собой пулемётные очереди. Ценой жизни восьмерых, а позже ещё нескольких человек, ценой утраченного здоровья половины экипажа они спасли не только свои жизни и свой корабль — единственный в 1961 году на нашем флоте подводный крейсер стратегического назначения, — они удержали мир на волоске от всеобщей ядерной беды!
Вот почему без всяких натяжек Николая Затеева — толкового хладнокровного командира — можно назвать национальным героем России.
А хоронили его, будто помер он не в своём государстве, а на чужбине… Будто и не на Кузьминское кладбище Москвы привезли новопреставленного воина Николая, а в русский некрополь под Парижем — в Сен-Женевьев-де-Буа, где лежат многие моряки, служившие России под Андреевским флагом. Вот и к его могиле принесли синекрестное полотнище, и жалкий солдатский оркестрик в четыре трубы и два барабана сыграл траурную мелодию. У флотского начальства хватило средств и совести прислать на эти исторические похороны лишь десяток автоматчиков, тем и отделаться.
Флотоводец Сенявин просил не устраивать ему пышных похорон. За его гробом шёл взвод матросов. Но командовал этим взводом император Николай I. Это к слову.
Спасибо и за траурный салют. А так погребли боль и гордость нашего флота добрые люди из Мосэнерго. Они и могилу вырыли. И памятник поставили. Но не могу поверить в то, что у Росвоенцентра, что у Главного штаба ВМФ не нашлось и ста рублей на поминальную чарку матросам с К-19, которые съехались на проводы командира и из Казани, и из Нижнего Новгорода, и из Питера. Не могу понять, почему не уважили их хотя бы тем, чтобы дать им кров и стол для поминок. Ведь в автобусе узелки да пакеты разворачивали, там и прощальные слова говорили. А потом скульптор А. Постол, автор мемориала подводникам атомного флота, сердобольно привёл ветеранов в свою мастерскую, там и стол по-людски накрыли.
Все обиды, конечно же, забудутся. И не такое переживали. Останется память о стойком, умном, храбром моряке Николае Затееве. Останутся искренние слова, которые произнёс над гробом настоятель храма из Тушино отец Константин, сам бывший офицер-авиатор. Останутся престранно смешавшиеся запахи ладана и салютного пороха… Останутся страницы дневника, переданного Затеевым за два дня до смерти в «Российскую газету». Больше всего его терзала мысль о том, что есть люди, которые вот уже треть века тщатся свалить вину за аварию на экипаж К-19.
Из дневника командира атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения К-19 капитана 1-го ранга Николая Затеева:
«…А берег молчал. Время от времени приходили рекомендации кормить переоблучённых моряков свежими овощами, фруктами и соками. Ни того, ни другого, ни третьего на борту, разумеется, не было.
В 23.00 через рацию Вассера передаю в штаб шифровку с полной информацией о радиационной обстановке на корабле и о своём намерении эвакуировать экипаж на подошедшие подводные лодки. Понимаю, что на языке штабистов это может звучать как „отказ от борьбы за живучесть“, как „паническое покидание корабля“ и даже „бегство“. Поэтому они упорно молчат, видимо, подбирая подходящую формулировку.
3 часа ночи 5 июля. Штаб молчит. На свой страх и риск приказываю своим морякам оставить корабль и перейти на борт С-159. Матросы перепрыгивают на качающуюся рядом лодку по отваленным горизонтальным рулям, выждав, когда „плавники“ обеих субмарин на секунду поравняются на волне.
В последний раз обхожу родной корабль. В отсеках остались только шесть человек, которые обеспечивают аварийное освещение и расхолаживание реакторов. Меня сопровождает командир электротехнического дивизиона капитан-лейтенант Погорелов. Мы герметизируем отсеки, проверяем подключение насосов, расхолаживающих реакторы, к аккумуляторной батарее. Проходит ещё один томительный час. Ответа на мой запрос нет. Мы с Погореловым останавливаем дизель-генератор и последними покидаем борт К-19. Чёрная туша подводного крейсера покачивается в волнах как пустая железная бочка. Странно и страшно видеть это со стороны.
Передаю последнюю шифровку в штаб: „Экипаж подводной лодки К-19 оставил корабль. Нахожусь на борту подводной лодки С-159“. Затем беру у Гриши Вассера вахтенный журнал и делаю запись, от которой меня самого охватывает нервная дрожь: „Командиру ПА С-159. Прошу циркулировать в районе дрейфа К-19. Два торпедных аппарата приготовить к выстрелу боевыми торпедами. В случае подхода к К-19 военно-морских сил НАТО и попытки их проникновения на корабль буду торпедировать её сам. Командир АПЛ К-19 капитан 2-го ранга Затеев. Время 5.00. 5 июля 1961 года“.
Притулился где-то во втором отсеке и стал себя мысленно перепроверять — всё ли по уму и по закону? Народ спасён. А корабль? Может, затопить его сразу, не дожидаясь никаких инцидентов? Вспомнил, как погибал линкор „Новороссийск“. Там боролись за живучесть корабля до конца, забыв про людей. И линкор не спасли, и экипаж большей частью погиб. И как-то ещё оценят мои действия на берегу? Так легко обозвать нас трусами и отдать под суд. Скажут — не пожар и не пробоина, а корабль бросили… Ох, легко же им будет судить нас из тёплых кабинетов!
Горестные мои размышления прерывает возглас радиотелеграфиста:
— Товарищ командир, нам радио!
„Нам“ это не мне, это Вассеру. „Командиру С-159. К месту аварии следует подводная лодка С-268 под командованием капитан-лейтенанта Г. Нефёдова. Сдать ему под охрану К-19. Самому максимальным ходом следовать в базу“.
„Эска“ Вассера легла на курс возвращения и врубила все дизеля на самый полный. На траверзе мыса Нордкин нас встретил эскадренный миноносец „Бывалый“. Им командовал мой одноклассник по морской спецшколе, капитан 2-го ранга Володя Сахаров. Распрощавшись с командиром С-159, перебираемся на эсминец и сразу же попадаем в руки дозиметристов и химиков.
Нас всех хорошо продезактивировали. Некоторым пришлось смывать „ренгены“ и по второму, и по третьему заходу. Старшина, который занимался мной, покровительственно похлопал меня по голому плечу.
— Ну что, кореш, теперь ДМБ?
— Наверное, ДМБ, — улыбнулся я. В бане не разберёшь, где офицер, а где матрос… Переодели нас в белые матросские робы. Наши „фонящие“ кители и фланелевки полетели за борт. „Ну вот, — мелькнула невесёлая мысль, — сегодня матрос, а завтра — зэк“. Как командир я выделялся среди остальных своих моряков только пистолетом на поясе.
Мною лет назад — ещё в 1943 году — когда я уезжал из родного Горького (Нижнего Новгорода) поступать в военно-морское училище, мама положила мне в чемодан на счастье иконку Николы Морского. Я хранил её как талисман в память о матери и всегда брал иконку с собой в море. Была она со мной и на К-19, тщательно спрятанная от стороннего глаза. Когда мы перешли на борт С-159, я положил иконку в верхний карман робы и обронил во втором отсеке. Спохватился лишь на эсминце „Бывалый“ перед дезактивацией. Увы, не нашёл. Николу Морского обнаружил политработник с „эски“. Что было! Начался массированный поиск владельца запретного талисмана и на С-159, и среди членов экипажа К-19. Сколько неуёмной энергии было на это затрачено! Знали бы сверхбдительные политрабочие, кому принадлежала эта иконка!
Шторм давно стих, лишь плавная зыбь покачивала эсминец, когда мы входили в Кольский залив. Вот и гранитные утёсы Екатерининской гавани. „Бывалый“ медленно подходит к причальной стенке Полярного. Сжалось сердце: весь причал оцеплен автоматчиками в чёрных морпеховских беретах. За их спинами сгрудилось всё население города. Лица испуганные, притихшие. Так встречали здесь в войну корабли, возвращавшиеся из боя. Санитарные машины подогнали прямо к трапу.
Нас встречали командующий Северным флотом адмирал Андрей Трофимович Чабаненко и начальник медслужбы СФ генерал-майор Цыпичев. Комфлота ни о чём меня не спрашивал, понимая весь трагизм нашего положения. Я же всё же решился спросить у него:
— Что теперь со мной будет?
— Вон стоит начальник особого отдела, спроси у него, — ответил Чабаненко.
Я повторил свой вопрос особисту капитану 2-го ранга Нарушенко. Мы хорошо друг друга знали, наши каюты на плавбазе „Магомет Гаджиев“ разделяла одна переборка. Тот усмехнулся:
— Всё сделали нормально. Ничего не будет…
Вспомнился анекдот про „ничего не будет“ — ни академии не будет, ни квартиры — ничего…
Нас быстро погрузили в санитарные машины, отвезли в морской госпиталь, распределили по палатам. Я обошёл своих и первым делом навестил группу лейтенанта Корчилова. То, что я увидел, повергло меня в тихое уныние. Жить ребятам оставалось считаные дни, если не часы. Боже мой, что сделала с ними радиация! Лица побагровели, губы распухли так, что лопались, из-под волос сочилась сукровица, глаза заплыли… Я нагнулся к Корчилову и сказал ему, что их сегодня всех отправят в Москву, в Институт биофизики, где их непременно поднимут на ноги. Услышав мой голос, Борис, еле ворочая распухшим языком, попросил:
— Товарищ командир, откройте мне глаз…
Я приподнял опухшее веко… До гробовой доски не забуду этот пронзительный прощальный взгляд голубого зрачка…
— Пить…
Я взял чайник с соком и приставил носик к губам Корчилова. Тот с трудом сделал несколько глотков. Едва удержавшись, чтобы не расплакаться, я сказал ему: „Прощай, брат!“. Остальные были не лучше.
На стадионе, что рядом с госпиталем, приземлились два вертолёта. В них на носилках перенесли переоблучённых моряков. Первый взлетел нормально, а второй зацепил лопастями провода и рухнул на самую кромку причала. К счастью, машина не набрала ещё большой высоты и ударилась несильно. Вскоре прилетел ещё один вертолёт, и всех перегрузили в него. Больше живыми мы их не видели.
К нам же в госпиталь прибыл представитель политического управления ВМФ контр-адмирал Бабушкин. Вместе с главным врачом он собрал подводников в клубе госпиталя, и оба стали уверять нас, что мы все отделались лёгким испугом, что никаких опасений наше крепкое здоровье не вызывает, всех до единого вылечат и т.п.
Этот же Бабушкин стал планомерно собирать на меня компромат. Каждый день вызывал на „собеседование“ матросов и допытывался у них, как вёл себя командир, что говорил, где находился в момент аварии. Очень ему хотелось доказать, что я приказал покинуть корабль без особой на то нужды. Бабушкин допёк матросов так, что они заявили: если ретивого политуправленца не уберут, то они набьют ему морду. Я доложил об этом комфлота (адмирал Чабаненко каждый день навещал нас в госпитале), и Бабушкин отбыл в одночасье в столицу. Однако теперь за дело взялись более серьёзные товарищи — особисты. Я посылал их всех в одно место…
На другой день после фанфаронского заявления врачей и политработников о пустяшности наших болезней из Москвы пришло сообщение, что 10 июля скончались в один день лейтенант Корчилов, старшина 1-й статьи Ордочкин и старшина 2-й статьи Кашенков. Кто следующий? Следующим умер матрос Савкин — всего через два дня. Тринадцатого не стало матроса Харитонова. Пятнадцатого отмучался матрос Пеньков. Тогда мы поняли, что обречены все, кто схватил дозу. Дело только во времени — неделей позже, неделей раньше…
С того самого всплытия в Датском проливе — с 4 июля — я ни разу не смог уснуть. Что только ни делал, чтобы отключиться, но бессонница стала постоянным моим спутником. А по ночам — солнечным бесконечным полярным ночам — чего только ни придёт в голову, о чём ни передумаешь… Как-то на перекуре спросил старшего лейтенанта Мишу Красичкова:
— Ну что, Михаил, не придётся ли нам больничную робу сменить на тюремную?
А что он мог мне ответить?
Между тем полярнинские врачи решили отправить нас в Ленинград, в Военно-медицинскую академию. Перед отправкой ко мне в палату заглянул буквально на несколько секунд начальник политического управления ВМФ адмирал В. Гришанов. От имени партии, правительства и командования ВМФ он поблагодарил меня за стойкость и мужество во время аварии, пожелал скорейшего выздоровления и… исчез. Ошеломлённый его визитом, я не сразу понял, что расследование закончилось, и отношение ко мне и моему экипажу изменилось на 180 градусов.
Позднее я узнал, что столь благотворному повороту судьбы я обязан академику Анатолию Петровичу Александрову. Именно он убедил Н.С. Хрущёва в том, что наши действия по созданию системы аварийного охлаждения реактора были правильными и самоотверженными, что аварийный корабль мы не бросили, а оставили, грамотно переведя реакторы в нерабочее состояние и подготовив лодку к буксировке. Закрытым Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 августа 1961 года все непосредственные участники ремонтных работ в реакторном отсеке были награждены орденами с формулировкой „За мужество и героизм“. Я тоже получил орден Красного Знамени. Но всё это было потом. А пока с диагнозом „острая лучевая болезнь“ мы ожидали своей участи в палатах ленинградской Военно-медицинской академии.
В общем-то, на нас советская медицина отрабатывала тактику лечения лучевой болезни, хотя в Японии был накоплен немалый опыт в этом плане после американской ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Но ввиду засекреченности нашей аварии к японцам, как я понял, не обращались. Лечили нас по двум методикам, которые принципиально различались в вопросе, с чего начинать противолучевую терапию: с пересадки костного мозга, а потом делать полное переливание крови или же наоборот — сначала переливание, а потом пересадка. Первая методика, предложенная начальником кафедры военно-морской терапии профессором З. Волынским, вернула к жизни на многие годы переоблучённых мичмана Ивана Кулакова, старшего лейтенанта Михаила Красичкова и капитана 3-го ранга Владимира Енина. Вторая — погубила Юрия Повстьева и Бориса Рыжикова. Казалось бы, положительный опыт военно-морских медиков должен был быть взят на вооружение всей советской медицины. Но чернобыльская трагедия никак не подтвердила это очевиднейшее мнение. Я не могу понять, почему было так много смертельных исходов в практике врачей, спасавших ликвидаторов последствий ядерной катастрофы? Некоторую ясность внёс американский профессор Роберт Гейл. Он заявил, что мы лечили своих страдальцев неправильно, и предложил методику… профессора Волынского! Ту самую, которую блестяще отработали на моряках К-19. И это при всём при том, что у нас с момента аварии до начала оказания квалифицированной медицинской помощи прошло более трёх суток. Тогда как чернобыльцев госпитализировали сразу же после облучения. Неужели ведомственная разобщённость наших медиков послужила причиной совершенно нелепых жертв?
Так волею судьбы подводники с К-19 оказались между Хиросимой и Чернобылем.
В Военно-медицинской академии к нам отнеслись необыкновенно тепло и заботливо. Впрочем, и пациентами мы были тоже необыкновенными. Правда, сначала нас посадили на скромный солдатский паёк на 52 копейки в сутки, но после вмешательства командующего Северным флотом адмирала Андрея Трофимовича Чабаненко нас стали кормить по нормам подводников-атомщиков в три рубля 50 копеек.
Всё-таки мы все были очень молоды и могли дурачиться, даже несмотря на весь трагизм нашего положения. Врачи постоянно брали у нас на анализы практически всё, что может выделять человеческий организм. Иногда мы дружно помогали товарищу наполнять по утрам его посудину. Так медсестра, унося ночной горшок Першина, всегда изумлялась: откуда столько?!
— Да он же ест сколько! Смотрите рот какой широкий, да и ростом Бог не обидел.
Чувство весьма своеобразного юмора вкупе с молодостью наших тел весьма способствовало выздоровлению.
В конце сентября мы предстали перед военно-врачебной комиссией. В медицинские книжки нам всем записали весьма странный диагноз — „астенно-вегетативный синдром“. Сказали, что это для маскировки „засекреченной“ лучевой болезни. Ну, записали и записали. Лишь потом я узнал, что этот синдром связан с нервно-психическими расстройствами. Психов из нас сделали! Дослужились…
В октябре 1961 года я ненароком угодил на совещание по атомному кораблестроению, которое проводил в Москве первый заместитель Главкома адмирал В.А. Касатонов. В старом здании Штаба на Большом Козловском собрались весьма представительные лица из Главкомата и военно-промышленного комплекса. Присутствовали и научные светила — академики Александров и Н.А. Доллежаль. Я чувствовал себя не очень уютно. Многие выступавшие пытались переложить на мой экипаж большую часть вины за аварию с реактором. И снова честь подводников спас академик А. Александров. Он был единственный, кто выступил в защиту нашего экипажа, и после его весомых слов все выпады в наш адрес сразу же прекратились. И ещё он отметил, что атомная энергетика входит в жизнь и осваивается людьми с гораздо меньшим числом жертв, чем другие отрасли техники. Ничего не сказал — промолчал — сидевший в конференц-зале главный конструктор нашего реактора, академик Николай Антонович Доллежаль. Своё мнение он высказал позже — в книге „Атомная энергия“: „Следует отметить, что эксплуатацию реакторов первого поколения, особенно в первые годы, осуществлял личный состав, который отличался своей самоотверженностью, однако не обладавший (возможно, не по своей вине) тем, что в современных документах называется "культурой эксплуатации"“. Нетрудно продолжить мысль академика — „и именно поэтому произошёл разрыв импульсной трубки первого контура и все печальные последствия аварии“.
Слово „культура“ означает „возделывание“. Но ведь именно мы, подводники-атомщики первого поколения, помогали вам, Николай Антонович, возделывать никем ещё не паханое поле — корабельную атомную энергетику. Причём знали мы её не хуже ваших инженеров, так как принимали участие в её монтаже и испытаниях. У нас хватило „эксплуатационный культуры“ даже на то, чтобы в нечеловеческих условиях найти способ создать ту самую систему аварийного охлаждения активной зоны, которую генеральный конструктор Доллежаль забыл предусмотреть и которую после нашего печального опыта стали ставить на всех последующих реакторах. И за эту вашу недоработку восемь человек из „бескультурного“ в эксплуатационном плане экипажа заплатили своими жизнями.
Вы недоумеваете, говоря о чернобыльской катастрофе: „Зачем понадобилось отключать аварийное охлаждение реактора, что категорически запрещено правилами эксплуатации?!“ Но вы не хотите вспоминать, что у нас на К-19 вообще не было системы аварийного охлаждения, которая была создана и смонтирована аварийной партией лейтенанта Корчилова.
И, наконец, самое главное, Николай Антонович, надеюсь, вы не забыли, как во время большого перерыва на совещании в Главном штабе ВМФ академик Александров подозвал вас, адмирала Чабаненко и меня к окну, что по правой стороне коридора, ведущего к конференц-залу, и показал фотографии места разрыва злополучной импульсной трубки. Он же дал нам прочитать заключение Государственной комиссии по расследованию аварии на К-19. Там было чёрным по белому написано, что разрыв трубки произошёл вследствие нарушения технологии сварочных работ при монтаже трубопроводов первого контура. Технология требовала, чтобы ни одна искра или капля расплавленного электрода не попадали на полированную поверхность трубопроводов, для чего они должны были накрываться асбестовыми ковриками. Однако из-за тесноты рабочих мест эти правилом пренебрегали. Там же, куда падали капли расплавленных спецэлектродов, возникало напряжение поверхностного слоя металла, которое вызывало микротрещины. В них проникали агрессивные хлориды — с парами солёной морской воды, которая всегда скапливается в трюмах. Под большим внутренним давлением (в двести атмосфер) и воздействием высокой температуры микротрещины постепенно превращались в обычные трещины — на всю толщину стенок трубки. Ну а дальше — дело времени, как в мине замедленного действия. „Мина“ взорвалась, точнее — разорвалась, в роковую ночь на 5 июля 1961 года.
А что касается „культуры эксплуатации“, то ей должна предшествовать культура производства. Это во-первых. А во-вторых, все наши действия по эксплуатации вашего реактора были отражены в пультовом журнале. Но он таинственным образом исчез из материалов следственной комиссии. Надо полагать, кому-то было очень выгодно, чтобы он исчез. Кому?
Отвечу на этот вопрос реальным случаем из флотской жизни. Подчёркиваю — это не байка и не анекдот, а фактическое происшествие, подтвердить которое могут начальник Управления береговых ракетно-артиллерийских войск ВМФ вице-адмирал Вениамин Андреевич Сычёв, капитан 2-го ранга Михаил Григорьевич Путинцев и другие офицеры Тихоокеанского флота, которые находились на мостике большого противолодочного корабля во время показательной ракетной стрельбы. Она была приурочена к визиту главы партии и правительства Н.С. Хрущёва на Дальний Восток.
Крылатая ракета сошла с направляющих и тут же ухнула в воду — не сработал маршевый двигатель. Конфуз?
Не тут-то было! Главнокомандующий ВМФ СССР адмирал С.Г. Горшков авторитетно заверил Никиту Сергеевича, что дальше ракета пойдёт под водой. И глава государства, он же Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны, потирая довольно руки, обратился к свите, где было немало генералов от ВПК, с радостным возгласом: „Хорошее оружие создаём, товарищи!“ Никто из товарищей не посмел разуверить генсека в его благостном заблуждении. Такова печальная быль.
Наследственная некомпетентность наших правителей в военных делах давно вошла во флотский фольклор: „Главное, что должен уметь делать адмирал — самостоятельно найти место в документе, где ему надо расписаться. Министр обороны должен уметь самостоятельно расписаться там, где ему покажут. Президент-Главковерх обязан раз в четыре года интересоваться, армия какого государства находится в настоящий момент на территории его государства“.
И это не смешно».
История, рассказанная капитаном 1-го ранга в отставке Робертом Лермонтовым.
«В 1961 году на К-19 я исполнял обязанности командира БЧ-4 и начальника РТС (командира боевой части связи и начальника радиотехнической службы) и отвечал за „глаза“ и „уши“ корабля: гидроакустику, радиолокацию и связь, а также был вахтенным офицером.
18 июня 1961 года К-19 вышла из губы Западная Лица (Кольский полуостров) на боевые учения „Полярный круг“, в свой первый дальний поход. Перед командиром и экипажем стояла задача: в Северной Атлантике занять позицию южнее острова Исландия, форсировать Датский пролив и, описав петлю подо льдами Северного Ледовитого океана, произвести учебный пуск ракеты по полигону на Новой Земле, при этом преодолеть линии противолодочной обороны НАТО, постоянно развёрнутые в Северной Атлантике, и „завесы“ кораблей Северного флота. В учении задействованы дизельные подводные лодки, надводные корабли и вспомогательные суда СФ.
Жизнь и служба в Западной Лице, вновь созданной базе первых АПЛ СФ, — не люкс. Здесь лишь сопки, покрытые скудной растительностью или снегом; жизнь экипажа ограничена „пятачком“: плавбаза „М. Гаджиев“ — пирс — К-19 — жилой посёлок (три дома „хрущёвки“ с магазином „колониальных“ товаров, в котором — сухой закон). Гражданское население посёлка — жёны и малые дети офицеров, получивших квартиры в Западной Лице; большой дефицит в прекрасной половине, а моряки и офицеры — молоды, единственное развлечение для них — кино. Понравившийся фильм засматривают до дыр на экране, у офицеров по ночам — преферанс с „шилом“ (спиртом). Нет даже простейшей танцплощадки, да и танцевать не с кем, моряки не ходят в увольнение, многие из них с завистью провожают рейсовое судёнышко „Санта-Мария“, уходящее в Североморск со счастливцами на борту. Там иной мир — вокзал, аэропорт, ресторан с прелестницами и прочие радости жизни…
Настрой экипажа высок, но в памяти живы тяжёлые воспоминания от апрельского (1961 г.) похода в район острова Новая Земля, когда ЧП следовали чередой. Первая неприятность для меня и радистов, близкая к ЧП, произошла сразу после выхода из базы с получением приказа передать радиограмму в автоматическом (АВТ) режиме. Рядом берег и остров Кувшин, АПЛ ходит галсами вдоль берега, до Узла Связи СФ, как говорится, рукой подать, радисты работают на передачу, а квитанции (подтверждения приёма) нет. В чём причина? Кто виноват? Мы и наша передающая аппаратура или радисты и приёмозаписывающая аппаратура Узла?
Лишь через 2 часа наши радисты приняли короткую шифровку — „добро“ на движение в заданный район. Берег и остров Кувшин остались за кормой и скрылись за горизонтом, К-19, управляемая и обслуживаемая одной сменой, уже несколько часов шла под водой, когда гидроакустик доложил в центральный пост, что слышит характерный звук гидроимпульса.
Неизвестный корабль одиночной посылкой, чтобы не обнаружить себя, определил дистанцию и курсовой угол на нашу АПЛ, он получил данные для 100%-й успешной торпедной атаки. ЧП! Даже сейчас, спустя много лет, неприятно вспоминать — наша АПЛ была уничтожена, пусть и „условно“. На поиск были включены все акустические станции, но акустики ничего не обнаружили: корабль-носитель гидролокатора шумами себя не проявил.
Менялись сутки, смены вахт, акустики, АПЛ шла в глубинах Баренцева моря, изменяла курс, скорость хода, глубину погружения, всплывала под перископ для сеансов связи, а одиночные посылки появлялись вновь. Немедленно шёл доклад в ЦП, но мы — уничтожены в очередной раз, благо — условно. ЧП!
От безуспешных поисков акустики и особенно старшина команды Валентин Саенко нервничали, их и меня уже подначивали друзья, что „слухачи“ слышат что-то не то и дурят всем головы; они с тревогой обращались ко мне, я — к командованию АПЛ, но ясности не прибавилось; мне же не было известно об игре в кошки-мышки. Для выявления „бесшумного“ (а он должен шуметь, так как имеет ход) носителя гидролокатора, чтобы избавиться от роли „мышки“ (а К-19 стала „мышкой“), нужен был нестандартный манёвр К-19, но об этом станет известно позже.
Сутки 12 апреля 1961 года для меня начались с „собаки“ — в 00 час я заступил вахтенным офицером АПЛ, в 4-00 час. вахту сдал, выпил чаю и в 4 час. 20 мин. был уже на верхней койке в маленькой каюте 4-го отсека с 2-ярусными койками, верхняя — моя, соседа нет, он принял у меня вахту. Рука потянулась к выключателю освещения, но… вытянутые ноги начали опускаться, у лодки явно появился дифферент на нос, который увеличивался, мелькнула мысль: „Авария! Надо прыгать, одеваться и бежать в ЦП!“ Но матрас вместе со мною поехал в нос лодки, ноги упёрлись в переборку, посыпались, поехали и покатились какие-то предметы, поехал сейф, стоящий в изголовье, я остался на койке, говоря себе: „Не торопись, сейф — опасен! Будешь с ногами, если всплывём!“
Рост дифферента прекратился, он стал быстро уменьшаться, дошёл до нуля, но появился дифферент на корму, который рос, все упавшие предметы и сейф тоже покатились и поехали обратно. Рост дифферента прекратился, он стал быстро падать, лодка выровнялась, появилась бортовая качка, а это значит, лодка всплыла!
Разбора полётов не было, но скоро всем стало известно, что на глубине 50 метров при скорости 15 узлов (28 км/час) вышел из строя привод носовых горизонтальных рулей, их заклинило в крайнее положение „на погружение“. У лодки мгновенно появился нарастающий дифферент на нос, она стала „пикировать“ в глубину. ЧП! Возникла и с каждой секундой нарастала опасность столкновения с грунтом (глубина моря в этом районе 300 м, но на дне может быть местная возвышенность или впадина; предельная глубина погружения К-19 — 300 м), нарушение герметичности прочного корпуса при ударе и поступление воды под давлением порядка 30 атм., а это — гибель корабля! Были продуты воздухом высокого давления балластные цистерны носовой, а затем и средней групп. Но лодка, имевшая большую скорость и инерцию движения, продолжала идти в глубину. Только „реверс“ (работа на полный обратный ход) турбин остановил лодку, и только тогда подъёмная сила продутого балласта потащила её наверх, но корма — тяжёлая: её балластные цистерны не продуты, и дифферент с носа перешёл на корму и рос. Продули и кормовые балластные цистерны, чем остановили рост дифферента. С дифферентом на корму лодка выскочила на поверхность, всплыла аварийно, израсходовав весь запас ВВД.
Команда, сформированная для ремонта привода носовых рулей, в закоулках носовой надстройки обнаружила ил (жидкий грунт), в который К-19 успела зарыться носом на предельной глубине, до столкновения с твёрдым скалистым дном оставались секунды!
Несмотря на ЧП корабельная жизнь продолжалась: работали компрессоры на зарядку баллонов ВВД, радисты передали радиограмму и без задержки приняли квитанцию, лодка в крейсерском положении минимальным ходом шла против волны, что исключало бортовую качку, а в носовой надстройке работала ремонтная команда.
В 10 час. 30 мин. старшина команды радистов Николай Корнюшкин доложил мне по секрету, что радисты подслушали (им запрещено отвлекаться на приём вне рабочей сети) передачу Центрального радио страны. Передавали Правительственное сообщение о полёте первого космонавта СССР. Центральное радио было тут же подано на корабельную трансляционную сеть, и весь экипаж услышал весть о полёте Юрия Гагарина.
Обед в офицерской кают-компании 2-го отсека проходил под аккомпанемент судовой трансляции, которая была подключена на отсек для информации командира о происходящем на корабле. Офицерам, сидящим за столом, хорошо слышны знакомые команды и доклады о пуске и остановке механизмов. Обыденность нарушил доклад вахтенного акустика:
— Мостик! Слева 153 градуса шум винта!
— Акустик! Классифицировать цель!
— Мостик! На курсовом слева 153 градуса — шум винта пропал!
Обед продолжается, на лицах любителей подначки появились улыбки, адресованные мне, — „слухачи“ опять слышат что-то не то, но через некоторое время вновь доклад акустика:
— Мостик! Слева 55 градусов — шум винта!
— Акустик! Классифицировать цель!
— Мостик! Предполагаю шум винта подводной лодки!
— Акустик! Докладывать об изменении курсового угла!
— Мостик! На курсовом слева 57 градусов шум винта пропал!
В кают-компании обстановка прежняя. Очередной доклад акустика — как бомба:
— Мостик! Слева 20 градусов — шум винта подводной лодки! Лодка увеличивает ход! Слышу шум турбины!
Наш командир Николай Затеев сорвался с места и побежал на мостик. В зоне хорошей акустической слышимости рядом с нами неизвестная подводная лодка выполняет манёвр. Турбины установлены только на атомных подводных лодках СССР и США, их — единицы и можно сосчитать на пальцах одной руки. На мостике вахтенный офицер и сигнальщик в указанном направлении сквозь пелену тумана, среди волн увидели перископ ПЛ, определили курсовой угол на него.
— Центральный! Слева 17 градусов — перископ ПЛ! — доложил вахтенный офицер.
— Мостик! Слева 17 градусов нарастает шум ПЛ! Лодка сближается! — акустик.
Доклад с мостика:
— Центральный! Слева 17 градусов вижу перископ и рубку неизвестной ПЛ! Лодка идёт пересекающим курсом!
Рулевой-горизонтальщик неизвестной ПЛ, вероятно, не удержал её на перископной глубине, и она подвсплыла, показав свою рубку, но могло быть и иное: всплытие предпринято для тарана. В кают-компании все замерли: две ПЛ, обе в надводном положении сближаются пересекающимися курсами при неизменном курсовом угле 17 градусов, столкновение неизбежно! В носовых торпедных аппаратах К-19 — боевые торпеды, при ударе носом по неизвестной ПЛ возможна их детонация! С мостика команда-крик:
— Центральный!!! Полный назад!!! Турбинам — реверс!!!
ЦП моментально продублировал команду „реверс“ турбинистам 7-го отсека по турбинному телеграфу и голосом по судовой трансляции.
Лодки благополучно разминулись: К-19, отработав задний ход, уступила курс-дорогу неизвестной ПЛ, а неизвестная ПЛ прошла перед носом К-19, выполняя то ли неудавшийся таран, то ли неудачный манёвр, ведущий к столкновению, и ушла под воду.
Акустик продолжал следить за шумом неизвестной ПЛ, который то возникал, то пропадал на различных курсовых углах справа, неизвестная ПЛ удалялась „змейкой“. Наконец шум пропал. По признакам: одному винту, одной турбине, шестигранной трубе перископа и профилю рубки, увиденным с нашего мостика, а главное — скорости, неизвестную ПЛ можно было отнести к торпедной атомной подводной лодке США. Её командир, работая винтом, разгонял свою лодку, а затем, отключив винт, двигаясь по инерции, совершенно бесшумно сблизился с К-19 и аналогично удалился, только так можно объяснить возникновение и пропадание шума винта чужой АПЛ.
Вероятно, неизвестным носителем гидролокатора являлась та же АПЛ США: она дежурила у выхода из губы Западная Лица, пристроилась к нам, скрываясь в нашем кильватерном следе, периодически одиночной посылкой гидролокатора уточняла местонахождение К-19. Только американцам была посильна многосуточная гонка преследования К-19, шедшей со скоростью 10–15 узлов и выше.
Меня как начальника РТС утешало лишь одно — гидроакустики оказались на высоте: неоднократно обнаруживали работу гидролокатора, по шумам винта и турбины опознали АПЛ США, определили её сближение. Пойти вдогонку и продолжить игру К-19 не могла: работали компрессоры на зарядку баллонов ВВД, а без ВВД лодке не всплыть.
Позже мне как вахтенному офицеру незаслуженно досталось от офицера-турбиниста Геннадия Глушанкова, который, не в силах сдержать себя и для разрядки, в сердцах высказался:
— Вы, вахтёры, обалдели от кислорода! Два реверса — за 8 часов! У нас полетят лопатки турбин! Вам же нечем будет командовать!
— Обстановка, Гена, заставляет!
В конечном итоге это они, турбинисты, остановили пикирующую АПЛ и не допустили столкновения, чётко исполнив команды „реверс“.
…Что ожидает нас в этом походе? Какие испытания приготовила судьба? Не отвернётся ли фортуна?
Схема связи К-19 на время учения такова: лодка должна поддерживать связь с Флагманским Командным Пунктом (ФКП) — с командованием СФ и ВМФ через Узел Связи СФ. Схема связи — обычная и не вызывает сомнений. По сценарию учения АПЛ К-19 — подводный ракетоносец сил „белых“, надводные корабли и дизельные подводные лодки — силы „красных“, связь и взаимодействие между временными „противниками“ не предусмотрена. Только противодействие.
30 июня 1961 года командир К-19 получил приказание ФКП начать движение для форсирования Датского пролива. Получение приказа мы подтвердили передачей радиограммы в адрес Узла Связи (ФКП). Сеанс передачи был проведён в перископном положении лодки передатчиком „Искра“ в автоматическом режиме на антенну „Ива“.
Позже выяснится, что это был последний сеанс связи К-19 с Берегом.
На поверхности пролива — торосистый лёд, на подводной лодке включены: эхолот, эхоледомер, гидролокатор. Обнаруженная „цель“ (лёд, препятствия), дистанция до неё, расстояние до нижней кромки льда, его толщина, глубина под килем, температура воды за бортом — всё под контролем и своевременно докладывается в ЦП для принятия командиром решений по изменению курса, скорости и глубины погружения. С обнаруженным айсбергом разминулись, Датский пролив благополучно пройден, впереди — чистый океан.
4 июля 1961 года 4-00 час. Над Северной Атлантикой — белая ночь. В толще океана, на глубине 100 м со скоростью 10 узлов (18,5 км/час) курсом норд-ост идёт К-19. Слева, в 75–100 милях (135–180 км) норвежский остров Ян-Майен, на нём — база НАТО. В ЦП закончился приём докладов из отсеков и боевых постов, очередная смена заступила на вахту. Всё спокойно, механизмы работают чётко, в отсеке — неназойливый гул систем автоматики.
Вахтенный офицер в очередной раз попытается выяснить у меня: „А в каком положении докладывал радиометрист Анатолий Кошиль? Не в горизонтальном ли?“ Дело вот в чём: по штату радиометристов трое, но старшина команды А. Кошиль, когда лодка под водой и его радиолокационная аппаратура не используется, несёт единоличную вахту иногда на „лежанке“, полке, которую ему оборудовали на судостроительном заводе. Так что А. Кошиль всегда на посту! Но в каком положении? Выяснение не состоялось, так как с пульта управления реакторами поступил тревожный доклад офицера-управленца Юрия Ерастова:
— Сработала аварийная защита правого реактора!
Это значит, в реакторе внезапно прекратилась управляемая цепная реакция. Через 2 минуты — второй доклад: „Падает давление и уровень в первом контуре правого реактора“, о чём вахтенный офицер немедленно доложил командиру АПЛ Николаю Затееву. По сигналу „Боевая тревога“ личный состав быстро, без суеты прибыл на боевые посты и приступил к исполнению своих обязанностей. Давление в первом контуре упало с 200 атм. до 0: вытекла вода, охлаждающая реактор, в трюмное пространство 6-го реакторного отсека, она радиоактивна!
Затем заклинило главный и вспомогательный циркулярные насосы 1-го контура и через активную зону стало невозможно прокачать охлаждающую воду (проектант реактора не предусмотрел аварийное охлаждение при подобной аварии). Правый реактор заглушен, но продолжает разогреваться, как заглушенный самовар с вытекшей водой: угли уже не горят, но ещё отдают своё тепло. Рост температуры реактора мог привести к тепловому взрыву, к расплавлению тепловыделяющих элементов с атомным топливом, на дне реактора могла образоваться критическая масса, а это — атомный взрыв!!! Нарастала другая угроза — радиация.
Радиация, разносимая по кораблю системой судовой вентиляции и людьми, не имеющая ни вкуса, ни запаха, ни цвета, была всюду: в отсеках, на мостике, на носовой и кормовой надстройке, от её смертоносного поражения укрытия не было, дозиметрические приборы зашкаливали! Молодые подводники, здоровые и энергичные до выполнения работ на реакторе, на виду экипажа, как в сказке от чар злого колдуна, теряли силы, превращались в тяжёлых лежачих больных. Им пытался помочь начальник медслужбы майор Косач.
Несмотря на радиацию экипаж продолжал исполнять свои обязанности по обслуживанию механизмов и систем. В отсеках, где пребывание было несовместимо с жизнью, вахту несли новым методом — „набегами“. Не по дням, а по часам росла суммарная доза облучения каждого члена экипажа, а при „набегах“ в кормовые отсеки — по минутам и секундам. Родной корабль для экипажа превратился в радиационную западню, из которой без внешней помощи не выбраться. И выбираться надо чем раньше — тем лучше!
„Ситуация на К-19 в день аварии для рядового матроса была предельно ясна и определялась уровнем страданий тех, которые лежали на носовой надстройке и через которых приходилось переступать. Это не изгладится из памяти сердца никогда!“ (из письма радиометриста А. Кошиля в 2005 году).
А что же со связью? В 5.00 час вахтенный радист получил от шифровальщика Алексея Троицкого первую радиограмму, но приказ из ЦП на передачу не поступил. В 6 час 07 мин К-19 всплыла в крейсерское положение, подняты все антенны, радисты открыли приёмную вахту.
От шифровальщика поступила вторая радиограмма: „Арфа, 0107, 4829, …“, состоявшая из 31-й цифровой группы — донесение командира АПЛ Флагманскому Командному Пункту о своём местонахождении и об аварии реактора. Поступило и приказание на передачу. Радисты привычно подготовили текст радиограммы к передаче в АВТ-режиме, настроили мощный передатчик „Искра“, подключили антенну „Ива“, нажали кнопку „пуск“, но вместо привычного звука работы автоматики услышали резкий щелчок. Произошло что-то непонятное. Осмотрели приборы, всё в норме… сбили настройки, настроили вновь… Пуск! Резкий щелчок и вспышка внутри передатчика! Возник пробой высокого напряжения, оно отключилось, ВЧ-энергия не поступила в антенну и эфир, передача не состоялась.
Я доложил в ЦП: „Передатчик "Искра" вышел из строя, БЧ-4 приступила к поиску и устранению неисправности“.
Связь — дело тонкое, а где тонко, там и рвётся. Худшие опасения мои и радистов насчёт того, что передатчик „Искра“ когда-нибудь проявит себя с худшей стороны, подтвердились. В последний год во время проворачивания механизмов радисты неоднократно обнаруживали ненормальности в работе передатчика „Искра“, неисправность появлялась и исчезала, не подчиняясь какой-либо закономерности, её невозможно было отследить и устранить. Много раз я наблюдал за действиями радистов и работой передатчика, пытался понять причину сбоя, но дефект не проявлялся. Скрытый, он же — пропадающий, он же — самоустраняющийся дефект — худший из дефектов в радиоэлектронной аппаратуре. Аппаратура, имеющая такую неисправность, согласно документам на поставку военной техники, недопустима к эксплуатации на кораблях ВМФ и подлежит замене. После неоднократных докладов командиру К-19 и флагманскому связисту дивизии были вызваны представители завода-изготовителя передатчика „Искра“. Во время трёхдневных проверок скрытый дефект не проявился. Представители уехали, а мы остались с тем, что имели: со скрытым дефектом и недоверием к передатчику, к тому же ещё и виновными в вызове представителей.
И вот, в самый напряжённый момент, когда на АПЛ — авария реактора, передатчик „Искра“ вышел из строя! Мнения радистов — это тот же дефект, так же опали стрелки индикаторов передатчика, вместо еле слышимого, как шорох, звука — резкий щелчок, вспышка пробоя и отключение высокого напряжения. Стало обидно и горько, что не смог ранее выявить, доказать другим наличие пропадающего дефекта, но для переживания времени нет, надо срочно отремонтировать передатчик и установить связь с берегом. Для меня и радистов Николая Корнюшкина, Юрия Пителя, Виктора Шерпилова наступил момент испытания, который растянулся на долгие часы напряжённой работы, надежд и разочарований.
До базы — 1500 миль (2800 км), чтобы преодолеть это расстояние при скорости в 10 узлов, необходимы 6 суток хода, а сможет ли такую скорость развить аварийная АПЛ? Кроме того, экипаж будет постоянно находиться под воздействием радиации. Гибель — неминуема!
Передача своих позывных на частоте Узла бесполезна — нашу работу радисты лодок воспримут как помеху, постороннюю радиостанцию, мешающую работе с Узлом. На частоте Узла господствует и имеет голос лишь сам Узел. Бесполезна передача и открытым текстом: тексты Узла, как и все флотские радиосообщения, зашифрованы.
Самостоятельные действия на всех уровнях в ВМФ — наказуемы. Если доберёмся до берега, нас ожидают либо „фитили“, либо „небо в решётку“. Сейчас же главное — наладить связь и спасти экипаж от облучения. Но действовать надо именно так, в нарушение Корабельного устава и Правил связи. Текст радиограммы должен быть кратким, как сигнал „SOS“, и поддаваться расшифровке на других кораблях: „Авария АЭУ. Широта… Долгота… Нуждаюсь в помощи. К-19“.
Мичман А. Троицкий исчезает из радиорубки, он берёт координаты лодки у штурмана и получает „добро“ на текст у командира. Зашифровав текст, он вручил нам радиограмму, состоявшую из 15 цифровых групп. Я даю указание радистам подготовить радиограмму к передаче в АВТ-режиме на передатчике „Искра“, надеясь, что короткий текст пройдёт без сбоя и достигнет Берега.
Так в эфире на одной частоте появились два Узла Связи: СФ и наш — „самозваный“. Первый работает по своему расписанию, а мои радисты — в перерывах, передавая многократно короткую радиограмму, а фактически — сигнал „SOS“.
Радисты Николай Корнюшкин и Юрий Питель ведут приём и передачу в ТЛГ-режиме, я и Виктор Шерпилов приступили к замене радиодеталей в передатчике „Искра“, неисправность которых могла вызвать пробой ВН. После каждой замены — проверка „Искры“ выходом в эфир в АВТ ТЛГ — режимах в адрес Узла Связи СФ с радиограммой № 4. Замена деталей ничего не дала.
Непрерывная работа передатчиком „Тантал“ в качестве „самозванца“ стала основной. Дополнительно каждый час радисты выходят в эфир на передатчике „Искра“ в адрес Узла Связи СФ и на передатчике „Тантал“ в адрес подводных лодок в радиосети „Взаимодействия ПЛ ПЛ“, надеясь, что на лодках несут вахту и в этой сети.
Работа радистов стала центром внимания многих свободных от вахт подводников. Они стоят в дверях радиорубки и молча, с надеждой наблюдают. На смену одним приходят другие. Работать под такими взглядами трудно. Часа через два радисты стали жаловаться на головную боль, гул в ушах, усталость в работе на ключе и чаще просят подмену. Очевидно, сказывается нервное напряжение и воздействие радиации.
Я понимаю: применённая схема должна сработать лишь в том случае, если какая-нибудь наша подводная лодка при всплытии на сеанс связи примет наряду с радиограммами Узла Связи СФ и нашу радиограмму, а не посчитает её провокацией со стороны НАТО. Мой расчёт на то, что командир этой подводной лодки, прочтя наш текст, прикажет продублировать его в адрес Узла Связи СФ (ФКП) и запросит: „Что делать?“. А не встанет в позицию „моя хата с краю…“
После 14.30 час возросла интенсивность передач Узла Связи СФ, радисты вынуждены чаще молчать в его радиосети, но продолжают выходить в эфир в других радиосетях. Активность Узла Связи не связана с аварией на К-19, в наш адрес по-прежнему ничего нет!
Радисты работают на ключе уже 6-й час, мне же хочется ругаться матом в адрес организаторов и руководителей учения, которые нас послали в поход, но не предусмотрели и не организовали взаимодействие и связь между кораблями-участниками на случай ЧП. Пусть корабли-участники — „белые“ и „красные“, но они все — свои! Не война же! Ежу понятно: они должны иметь при необходимости возможность двусторонней связи! У меня, командира связи подводной лодки, нет необходимых данных: частот связи надводных кораблей (они ближе к нам, чем Берег), их позывных, позывных подводных лодок — всё секретно! У меня имеется допуск к секретным и совершенно секретным документам, но меня не ознакомили и не выдали на подводную лодку „Схему связи кораблей-участников учения "Полярный круг"“. Такой документ должен быть! Засекретили! От вероятного противника и от своих! Те многое знают о нас (ф.и.о. командиров, офицеров, даже членов семей), а частоты и позывные — тем более; не зря ведут радиоразведку. Все мы (экипаж) — заложники и жертвы системы секретности!
Кто-то, он не один, по скудоумию не предусмотрел запасной вариант связи и передачу сигнала оповещения об аварии передатчиком „Тантал“, второй — не направил корабль связи в удалённый район, третий — судно АСС (здесь — в зоне НАТО постов связи АСС нет), четвёртый, коли нет корабля связи и судна АСС — не предусмотрел при ЧП использование „Радиосети взаимодействия ПЛ“, а пятый, забыв, что „в море всякое бывает!“ — утвердил и узаконил „спасение утопающих — дело рук самих утопающих“, превратил экипаж и К-19 в расходный материал.
Быть может, наш сигнал „SOS“ дойдёт до какой-нибудь дизельной подводной лодки, но её командир не имеет права передать в наш адрес квитанцию о приёме. Командир любого корабля в мирное время должен иметь такое право, приняв сигнал „SOS“! А если дизельные подводные лодки не продублируют наш сигнал в адрес Узла Связи СФ (ФКП)? Тупик?! Конечно, в самом крайнем случае можно выйти в эфир открытым текстом в радиосетях: „международная-аварийная“, рыболовных или транспортных судов. Но как определить этот крайний момент, как понять, что наша самозваная передача в радиосети „Узел Связи СФ — ПЛ ПЛ“ — бесполезна и пора влезать в другую радиосеть?!
Кто-то (не называю) из радистов попросил подмену: у него начали дрожать руки, сменился и залез под стол на матрас отдыхать, чтобы быть рядом, под рукой, т.к. может понадобиться в любой момент. У парня, очевидно, притупился инстинкт самосохранения: он не пошёл отдыхать на носовую надстройку, где уровень радиации ниже, чистый воздух, а не атмосфера 3-го отсека, насыщенная радиоактивными аэрозолями.
Мы уже много часов находимся под воздействием радиации, она делает своё чёрное дело. На сколько ещё часов, суток мы сохраним работоспособность и голову? Дрожь рук — опасный симптом и недопустим при работе на ключе. Все попытки с 9-00 час передать сигнал „SOS“ на Берег напрямую передатчиком „Искра“ и через дизельные лодки передатчиком „Тантал“ — безуспешны!
Решаю: в 20.00 — это крайний срок, а дальше выходим в эфир открытым текстом!
Позже, в госпитале Полярного, я спрошу офицера Узла Связи СФ: „Как реагировала на наши передачи приёмозаписывающая аппаратура?“ Он ответил, что пару раз аппаратура сработала, но запись расшифровке не поддалась. И только через 30 лет мне станет известно, что изолятор антенны „Ива“ был раздавлен давлением воды. (Могу лишь предположить, что в изоляторе возникла микротрещина, и проникшая влага вызывала рассогласование антенны с передатчиком во время сеанса передачи.) Передатчик „Искра“ подвёл нас: пропадающий дефект, став явным, сыграл свою роковую роль в тот памятный день».
Вспоминает радист Виктор Шерпилов:
«Я помню ту огромную тяжесть, которая на нас давила, когда не прошло радио на Узел Связи СФ, как мы, не выходя из рубки, час за часом искали неисправность. Я любил и до этого случая дойти до сути неисправности и устранить её, но на этот раз не получилось. Я помню, что мы перебирали всё новые и новые варианты связи, изымали блоки передатчика, всё „прозванивали“ и искали причину неисправности, а потом при передаче меняли и передатчики, и антенны. Когда мы решили перейти на ручную передачу, то по очереди „сидели“ на ключе, но и не оставляли попыток восстановить передатчик „Искра“.
В нашу ручную передачу была включена радиосеть Узла Связи СФ, и работали мы по книге частот и времени передач Узла Связи СФ. Я не помню, сколько раз выходил на мостик подышать, мне кажется, я в то время и не ел, и не пил, не потому, что боялся радиации, а потому, что от напряжения в меня ничего не лезло. Потом уже узнал, что где-то раздавали спирт… О радиации мы кое-что знали раньше, но в то время, когда на АПЛ выключили все дозиметры, мы о ней не думали или, вернее, я не думал. Я знал, что надо найти неисправность передатчика, и это отодвигало все другие мысли.
Я стал думать об опасности, когда прилёг в рубке под столом отдохнуть, а связь уже была налажена через „эску“. Но, по-моему, никакого страха не было — будь что будет!..»
«В 15 час 30 мин на ходовом мостике К-19 сигнальщик доложил вахтенному офицеру: „Вижу цель!“ Цель увеличивалась и приближалась к лодке. Свой или чужой? Вскоре распознали — это наша дизельная подводная лодка серии „С“. Радость экипажа была безгранична, это спасение!
В рубку радистов с мостика поступил приказ командира АПЛ: „Установить связь с ПЛ "С" на УКВ“. Старшина команды Н. Корнюшкин вставил в радиостанцию „Акация“ (дальность действия — прямая видимость, режим — микрофонный) действующий на текущие сутки кварц — и включил частоту. На запросы радиста лодка не отзывалась… Связь командиров обеих лодок была установлена при помощи электромегафонов, когда „Эска“ застопорила ход в 20–30 метров от левого борта АПЛ. Командиры представились друг другу, а затем выяснили, что на лодках в УКВ-радиостанциях разные номера кварцев, т.е. приём и передача велись на разных частотах, что не позволило установить связь. Я проверил расписание действия кварцев, доведённое нам, и не поверил своим глазам: на данное время номер кварца в моём расписании не совпадает с номером кварца, названным командиром „Эски“! При такой организации связи на УКВ мы могли установить связь лишь с лодками нашего соединения, но они в 2800 км от нас в губе Западная Лица. Я дал указание перейти на кварц „Эски“, и связь наконец была установлена».
Далее приведу строки из статьи Жана Свербилова «ЧП, которого не было…» (журнал «Звезда» № 3.1991), командира С-270. Это его корабль первым подошёл к аварийной К-19.
«Это было в июле 1961 года Подводная лодка С-270, которой я в то время командовал, участвуя в ученьях под кодовым названием „Полярный круг“, находилась в северной части Атлантического океана. В этом районе было свыше тридцати подводных лодок. Поднявшись для очередного сеанса связи на глубину девять метров, мои радисты приняли радио: „Имею аварию реактора. Личный состав переоблучён. Нуждаюсь в помощи. Широта 66 северная, долгота 4 градуса. Командир К-19“.
Собрав офицеров и старшин во второй отсек, я прочитал им шифровку и высказал своё мнение — наш долг идти на помощь морякам-подводникам. Офицеры и старшины меня поддержали. Сомнение вызывало только место нахождения аварийной подводной лодки: долгота в радиограмме была не обозначена. То ли восточная, то ли западная. Наша С-270 в это время была на Гринвиче, то есть на нулевом меридиане. И тут старпом Иван Свищ вспомнил, что суток семь тому назад мы перехватили радио, в котором командир К-19 доносил о состоянии льда в Датском проливе. Так мы догадались, что долгота, на которой находится аварийная лодка, западная.
Мы всплыли в надводное положение и полным ходом пошли к предполагаемому месту встречи. Погода была хорошей. Светило солнце. Океан был спокоен. Шла только крупная зыбь. Часа через четыре обнаружили точку на горизонте. Приближаясь, опознали в ней подводную лодку в крейсерском положении. На наш опознавательный запрос зелёной сигнальной ракетой получили в ответ беспорядочный залп разноцветных ракет. Это была К-19.
До этого нам, то есть мне и моим офицерам, матросам, не доводилось видеть первую советскую ракетную атомную лодку. Вся её команда собралась на носовой надстройке. Люди махали руками, кричали, узнав от командира моё имя: „Жан, подходи!!“
По мере приближения к лодке уровень радиации стал увеличиваться. Если на расстоянии 1 кабельтова он был 0,4–0,5 рентген/час, то у борта поднялся до 4–7 рентген/час.
Ошвартовались мы к борту в 14 часов. Командир лодки Николай Затеев был на мостике. Я спросил, в какой он нуждается помощи. Он попросил меня принять на борт одиннадцать человек тяжелобольных и обеспечить его радиосвязью с флагманским командным пунктом, то есть с берегом, так как его радиостанции уже скисли и не работали…»
«Командир С-270 Ж. Свербилов в 10.00 по собственной инициативе начал операцию по спасению корабля и экипажа К-19. В 16.00 его подводная лодка ошвартовалась к борту аварийной К-19. Наконец-то наш командир Николай Затеев получил возможность установить связь с ФКП, используя передатчик Ж. Свербилова. Мой радист, побывавший на С-270 (отнёс шифрограмму для передачи), сообщил, что наш сигнал „SOS“ был принят подводной лодкой ещё утром. Нам повезло! Применённый способ связи сработал! Встреча двух лодок в океане не была случайной!
Весть была долгожданной, мы её слушали и ждали среди помех и „морзянки“ эфира с 6 часов утра. Мои парни — радисты Николай, Юрий и Виктор были настолько измотаны и уставшие, что не могли радоваться, да и я был не в лучшем состоянии.
Обстановка на АПЛ оставалась тяжёлой, но вопрос с обеспечением связи был решён. Моё главное дело было сделано, пусть сигнал „SOS“ не достиг Берега, он достиг Ж. Свербилова! Это был успех всей нашей БЧ-4. Информацию о приёме сигнала „SOS“ следовало подтвердить, обратившись к Жану Свербилову, а затем доложить командованию АПЛ, но усталость была такова, что я не сделал ни первое, ни второе. К тому же было не до победных реляций: на К-19 расхолаживали аварийный и соседний реакторы, выводили из действия механизмы и системы корабля. Атомоход, стоивший стране огромной суммы, умирал, превращался в безжизненную груду радиоактивного металла на плаву, а экипаж, свободный от вахт, „укрывался“ от радиации на мостике и носовой надстройке.
Наш зов о помощи услышали и радисты ПЛ С-159 Григория Вассера, который подошёл к К-19 в 19-00 часов. Командиры Ж. Свербилов и Г. Вассер, каждый самостоятельно, не поставив в известность командование СФ, приняли рискованное решение покинуть свои позиции в завесах и оказать помощь терпящим бедствие товарищам по оружию.
С подходом второй подлодки появилась возможность снять часть экипажа с К-19, и командир Н. Затеев принял решение — эвакуировать половину личного состава На „фонящей“ К-19 в очаге радиации остались офицеры, моряки — коммунисты и радисты.
Теперь связь с берегом дублировалась сразу по двум передатчикам с С-270 и С-159. С меня свалился тяжкий камень. Почувствовал голод и жажду, мне принесли бутылку сухого вина и плитку шоколада. Всюду радиация, а вино и шоколад защищены от радиоактивной пыли. Из „горла“ выпил несколько глотков вина за найденный выход из тупиковой ситуации и закусил шоколадом. Нервное напряжение несколько спало, но появились упадок сил, головная боль, полное безразличие ко всему, окружающее воспринималось как в тумане или полусне. Я погрузился в странное состояние, из которого вышел спустя месяцы. Однако остался на ногах и продолжал исполнять свои обязанности. Радисты несли приёмную вахту, а я пошёл курить на мостик. По пути зашёл в 4-й — ракетный отсек, где было моё спальное место. Тишина. Отсек освещён, но пуст, ни единой живой души! Очевидно, радиация здесь высокая, а в 6-м — реакторном — и вовсе ад! Забрал папиросы и двинулся на мостик.
В памяти остались отдельные моменты из жизни экипажа до подхода двух наших лодок: утро, много солнца, голубое небо, ни облачка. Океан спокоен, как озеро, волнение — 0 баллов, а в полдень — 1 балл, а вечером — уже 2–2,5 балла. Отличная видимость, с надеждой осматриваю горизонт, но глазу не за что зацепиться: на горизонте ни одной чёрной точки, ни своих, ни чужих. На мостике и палубе — офицеры, старшины и матросы, кругом люди, но мне среди них одиноко и, несмотря на тёплое утро, зябко. Пытаюсь обдумать сложившуюся ситуацию: на мне — ответственность за связь. Передатчик вышел из строя, и на меня свалилась задача по спасению экипажа! Никто из сослуживцев не может мне помочь, всё надо решать самому: жизни многих людей, в том числе и своя собственная, зависят от моих решений и действий радистов. Холодно! Положение — хуже не придумать!
Кто-то спросил: „Роберт, как у тебя?“ Отвечаю, что очень плохо, сбой в передатчике, неисправность не выявлена. „А как у вас?“ Слышу ответ: „Температура реактора растёт, кругом — радиация“. Всё настолько плохо, что говорить не хочется, лишь смолим папиросы одну за другой. Невозможно поверить, что в такое чудесное утро на нашем месте может вырасти атомный гриб.
На мостике дозиметрист производит замеры. Спрашиваю: „Сколько?“ Он ответил: „5 рентген“. У матроса испуганно-ошарашенные глаза, он не верит показаниям прибора. Если на мостике — 5 рентген, то сколько же в отсеках подводной лодки?!
Ещё одно впечатление. На мостике стоит незнакомый, прикомандированный на время похода офицер, под ним… лужа. Вероятно, он давно здесь, всё слышал, всё понимает, но он не востребован, а это самое страшное. Я не осудил его, не осуждаю и сейчас.
Ещё картинка. В коридоре 2-го отсека идёт наш командир в сопровождении двух офицеров. Я встал в положение „смирно“ и уступил дорогу. У всех троих поверх одежды — широкий ремень и сбоку кобура с личным оружием, снаряжены, как в базе на дежурстве. Увидеть такое на корабле, в море — чрезвычайный случай. С кем воевать? От кого обороняться? Горизонт чист, у акустиков — то же, в океане мы одни. Вдруг осеняет: вооружены на случай бунта экипажа! Понимаю, первым, кому экипаж выскажет своё недовольство, кого выбросит за борт, буду я! Следом могут полететь и радисты, не наладившие связь. Мне не выдали оружие: должно быть, сомневаются, не застрелюсь ли я из-за чёртовой связи! Не застрелюсь. А пока надо идти к радистам, которые работают на грани срыва, не слыша и не видя результата.
…Возвращаюсь с перекура В ЦП — характерный запах и ёмкость с прозрачной жидкостью. „Что это?“ — спрашиваю у моряка, наполняющего кружку. „Спирт“, — отвечает тот и объясняет, что всем членам экипажа рекомендовано выпить спирта для выведения из организма радиации. Но это не для меня, мне необходима ясная голова для восстановления связи.
И последнее. Прохожу через 2-й отсек, а в кают-компании крутят фильм „Золотая симфония“ — балет на льду с чудесной музыкой. Моряки смотрят картину, а кругом бушует радиация! Я остолбенел. По трансляции раздалась команда, несколько моряков встали и пошли заступать на вахту. Замполит командира К-19 капитан 2-го ранга Александр Шипов организовал сеанс и отвлёк моряков от тяжких дум. Молодец! Даже не верится, было ли это?!
В 23.00 по указанию Берега к К-19 подошла третья подлодка — С-268, командир Геннадий Нефёдов. Теперь экипаж К-19 был эвакуирован полностью. Усилившийся шторм мог сорвать пересадку людей. Но успели!
Через несколько суток подошёл спасатель „Алдан“. Он привёл безлюдную К-19 в губу Западная Лица. В память врезалось несколько эпизодов:
…Эвакуация. Вечер, низкое солнце, море волнуется. На нашу К-19 с её немалым водоизмещением качка почти не влияет, а „дизелюху“ хорошо подбрасывает у нашего борта. Выбираю момент для прыжка… Прыгаю, и меня подхватывают под руки на палубе. Раздеваюсь полностью, всё снятое летит за борт, оставляю лишь часы и документы. В 1-м отсеке на „пятачке“ у торпедных аппаратов мне льют на голову из чайника тёплую воду. Это первичная дезактивация.
Говорю, что с меня стекает в трюм радиоактивная вода, в отсеке будет радиация. Мне отвечают: „А мы её откачаем“.
…21–22.00. Офицеры К-19 плотно сидят вокруг столика кают-компании. Одеты кто во что: матросская роба, белая рубаха, гражданская сорочка. На столе что-то из еды, но никто не ест. „Может, налить "шила"?“ — спрашивают хозяева. Соглашаемся на компот.
„Кто тут из вас старший? Вашему экипажу — радиограмма!“ Старший среди нас — помощник командира капитан 2-го ранга В. Енин. Он знакомится с радиограммой, затем сообщает нам, что Командование СФ приказывает всем командирам боевых частей и служб К-19 подготовить вахтенные журналы для дачи показаний следственным органам. Мы ещё не добрались до Берега, а органы уже начали свою работу.
…Ищу себе место для отдыха. В кают-компании на диванах и столе лежат люди, во 2-м отсеке мест нет. Иду в 1-й отсек, здесь также всюду лежат люди. На 3-ярусных койках — наши переоблучённые моряки из аварийной партии. Среди них Юрий Повстьев. Вахтенный моряк откуда-то достал и дал мне матрас. Огляделся, единственное свободное место — между торпедными аппаратами. Прошёл между ними в нос, бросил матрас на настил, там и лёг. Чувствуется качка, слышны удары волн о нос подводной лодки.
…Утро. Завтрак. Кто-то из офицеров-хозяев говорит Енину, что моряки К-19 не встают и не завтракают. Енин приказал своим офицерам поднимать людей, пошёл и я. Действительно, все наши люди лежат в лёжку, но мы их растормошили, они поднялись и даже завтракали.
…10.00. „Пожарная тревога!“ — не учебная: горит электрощит в корме. Только этого не хватало! Щит отключён, пожар ликвидирован.
11–12.00. Попытка перейти с подводной лодки на эсминец. На мостике 3 человека из аварийной партии, их не узнать: лицо и шея распухли, шея сравнялась с плечами (кто-то сказал, что это следствие поражения щитовидной железы). Ребят поддерживают под руки. Из-за большой волны переход на эсминец не состоялся.
15.00. На эсминце (как там оказался — не помню) получил истинное удовольствие от мытья в душевой. Это 2-я дезактивация. Нам выдали новую матросскую робу.
15.30–17.00. На палубе эсминца — яркое солнце, тепло, голубое небо, лёгкий ветерок приятно обдувает лицо, сушит волосы. Эсминец идёт полным ходом. Справа — близко берег, который смещается на корму. Прошу закурить у моряка с эсминца. Он отвечает, что у него нет, затем исчезает и возвращается с пачками папирос „Беломор“, раздаёт их подводникам в новых робах. Наверное, купил на свои кровные в судовой лавке. Мы благодарим его и затягиваемся. Благодать!
21–22.00. Город Полярный. Госпиталь. Зелёные армейские палатки, в них душевые. Это 3-я дезактивация.
Утром в коридоре госпиталя меня перехватил пом. командира Енин, исполнявший в походе обязанности и старпома, схватил меня за руку, повёл по коридору: „Где ты пропадаешь? Подведёшь ты меня под монастырь!“ Он завёл меня в комнату, где стояли стол и стул, сказал: „Вот тебе бумага и ручка! У тебя 5 минут! Садись и пиши всё о связи в день аварии“. И ушёл. Через 5 минут он появился и забрал наспех написанный мною текст. Енин спешил то ли на доклад командованию, то ли на допрос, об этом я мог лишь догадываться. Так появилась краткая записка — мой письменный доклад командиру К-19 о действиях БЧ-4 (радистов) в день аварии. Через 42 года снятая с неё ксерокопия попала мне в руки и помогла восстановить в памяти многое.
В госпитале начались допросы „компетентных органов“. Подписывал страницы протоколов и объяснительные записки флагманским специалистам по связи. Допросы носили обвинительный характер — как я дошёл до такой жизни, что допустил выход из строя атомной подводной лодки К-19 в целом и средств связи — в частности. „Собак не злил“, говорил и писал лишь минимум о своих действиях, и так, чтобы мои слова не были истолкованы во вред мне и членам экипажа. Не упоминал я о пропадающем дефекте передатчика „Искра“, о недостатках в организации связи на случай ЧП между участниками учения, понимал прекрасно: я — маленькая фигура в большом конфликте, где столкнулись интересы военно-промышленного комплекса страны и ВМФ СССР.
Не знаю, кто защитил экипаж К-19, но однажды допросы прекратились. Ну а в 1-м госпитале ВМФ в Ленинграде, куда нас привезли, провели 4-ю дезактивацию, о которой вспоминаю с улыбкой. Здесь медики организовали нашу обработку более продуманно: помимо внешней помывки была и „внутренняя“ промывка. Тут уж было не до смеха. Штатных „очков“ в гальюне не хватало, и он был „залит“ так, что радиация в нём повысилась до 1 рентгена. Наконец все чистки-промывки закончились, можно было обратить внимание на сестричек-медичек. Последние были поражены не только мужским обаянием северян, но и исходившей от них радиацией.
Усилиями медиков госпиталя ВМФ в Полярном, 1-го госпиталя ВМФ и Военно-медицинской академии им. Кирова в Ленинграде экипаж К-19 (за исключением восьмерых скончавшихся подводников) был поставлен в течение года на ноги.
И ещё несколько слов об обстоятельствах нашей эпопеи.
Я полагал, что 4 июля 1961 года в Северной Атлантике были развёрнуты 5–6 подводных лодок, выяснилось из статьи Ж. Свербилова — более 30 единиц!
„…Я думал о том, — пишет Жан Свербилов, — что мы, т.е. наш экипаж и я как его командир сделали святое дело. Все подводные лодки, участвовавшие в учении, приняли радио Коли Затеева, но никто, кроме нас, к нему не пошёл. Если бы не наша С-270, они бы все погибли, а их было более ста человек. Самой высокой наградой для меня и для всех нас было видеть глаза людей, уже почти отчаявшихся и вдруг обретших надежду на спасение…“
Лишь два командира подводных лодок: Жан Свербилов и Григорий Вассер отреагировали на наш призыв о помощи. Сердечное спасибо и низкий земной поклон Жану Свербилову и Григорию Вассеру, их экипажам!
Оглядываясь на трагические события, с горечью вынужден сказать:
1. 4 июля 1961 года Северная Атлантика была напичкана, как бочка сельдью, подводными лодками СФ, расположившихся вдоль курса К-19. Мы терпим бедствие среди них и не имеем легального канала связи с ними!
2. Лишь создав фиктивный Узел Связи, маскируясь под истинный, К-19 создаёт свой канал связи и получает возможность для передачи шифрограммы. После приёма и расшифровки её видно, что это сигнал бедствия, „SOS“, переданный с К-19. Применённый способ передачи и шифрованный текст обеспечили успех связи и скрытность К-19 (над нами не было самолётов и вертолётов НАТО).
3. Спасение экипажа К-19 из радиационной западни, в которую превратился наш корабль, стало возможным благодаря инициативным и мужественным действиям самого экипажа — матросов, старшин, офицеров и командира К-19 Николая Затеева, а также благодаря самостоятельным и мужественным действиям командиров С-270 и С-159 и их экипажей.
Помощь подошла к нам в 16.00 4-го июля. Шёл всего лишь 12-й час, а не 24-й. Но и этих 12-ти часов, плюс время до эвакуации, хватило, чтобы 139 человек, получили лучевое поражение, перенесли острую лучевую болезнь I, II, III степени. А это, конечно же, значительно повлияло на здоровье и продолжительность жизни каждого из нас.
В августе 1962 года я, уезжая к новому месту службы, расставался с экипажем, со ставшими близкими мне людьми — моими радистами, радиометристами и гидроакустиками. Один из них сказал: „Такой жизни, как на К-19, на "гражданке" не будет! Здесь жизнь и труд были наполнены глубоким смыслом! Такое удовлетворение от своей работы, как мы испытали на К-19, вряд ли повторится“. Эти слова он произнёс, несмотря на все пережитые экстремальные ситуации и аварию с лучевым поражением. Наш экипаж был молод, и мы своими действиями защищали Родину».

ОБ АВТОРЕ
ЛЕРМОНТОВ РОБЕРТ АЛЕКСЕЕВИЧ, родился в 1935 г., капитан 1-го ранга в отставке, окончил Высшее военно-морское инженерное радиотехническое училище в Гатчине. В 1958 г. служил командиром БЧ-4 — начальником РТС на подводных лодках СФ: дизельной проекта АВ-611 (Оленья Губа, 1958–1959 гг.), на атомной подводной лодке К-19, затем военпредом на предприятиях Молдавии (Бельцы, Кишинёв, Бендеры, 1962–1986 гг.).
С капитаном 2-го ранга в отставке Михаилом Викторовичем Красичковым я познакомился в Питере во время премьеры американского фильма о К-19. Как и все ветераны подводной лодки, он был шокирован вольностью киноизложения пережитой трагедии, техническими нелепостями и славословиями тех, кто никогда не бывал в морях. Красичков приехал из мало кому известного саратовского города Аткарска. Приехал вместе с женой, которая очень заботливо сопровождала больного мужа. Надежда Сергеевна очень тревожилась, что переживания, вызванные картиной, скажутся на сердце Михаила Викторовича. Но Красичков держался стойко, и мы расположились в тихом уголке фойе.
— В тот поход я был прикомандирован на К-19 в качестве командира 3-го дивизиона (командира реакторного отсека), — рассказывал Михаил Викторович, — поскольку штатный командир инженер-капитан 3-го ранга Плющ был в отпуске.
Моё место — в 8-м отсеке, там же и пульт управления ГДУ, и офицерская 8-местная каюта.
Много проблем было из-за течи парогенераторов. С течами мы научились справляться. К тому же на пульте были и сигнальные лампочки, и ключи отсечения… Входишь и первым делом бросаешь взгляд на мнемосхему пульта — лампочки не горят, значит, всё в норме.
Не буду повторяться — как случилась авария. Об этом уже много говорили и писали. Расскажу только о малоизвестных фактах.
Когда на импровизированном «военном совете» в кают-компании К-19 обсуждали, что делать и как быть, лейтенант-инженер Филин предложил подавать в реактор охлаждающую воду через клапан-воздушник, минуя все трубопроводы, где мог быть свищ.
Но нержавейку должен варить дипломированный сварщик. Нашли такого — матрос Семён Савкин.
После тревоги прибыли в аварийный 6-й отсек старшины Ордочкин, Рыжиков, Харитонов, а также Гена Старков и Енин. Отключили что надо, определили объём работ.
— Ну, ребята, тут делов хватит!
Решили разделиться на две смены и работать по 30–40 минут.
1-я смена — главстаршины Рыжикова, 2-я — моя.
Занимались подготовкой к сварке, подбирали трубку, гнули муфту… Дизель-генератор в 5-м отсеке перевели в режим сварки. Разложили схемы-«синьки»… Мы отключили ресиверные баллоны, проверили работу циркуляционного насоса 1-го контура, остановили его. Всё делалось без паники, все на своих местах. Держали связь с ЦП только через пульт ГЭУ.
Я держал трубку от насоса, а Савкин варил… Работали в масках от ИП-46, но без стёкол — запотевали. Некогда было раздышивать аппараты. Нам раздышивал их начальник химслужбы Коля Вахрамеев.
После смены выходили, снимали резиновые маски ИПов и шли дышать на мостик.
Своей жизнью я обязан лейтенанту Борису Корчилову. Вот как это было.
Мы сварили проливную систему. Чтобы опробовать её, пустили подпиточный насос. Вода пошла, это было видно по тонким струйкам, которые разбрызгивались через поры плохой сварки в такт поршневому насосу. Вдруг струйки прекратились. Звоню на пульт — в чём дело?
— Да подключили насос к почти пустой цистерне.
Я взревел:
— Вы там в холодке сидите и путаетесь, а мы в реакторном уродуемся!
В этот момент в отсек приходит Корчилов. Он мой ученик, я его готовил, положил мне руку на плечо и сказал:
— Миша, мне разрешили тебя подменить.
Я отправился на пульт, чтобы дать там разгон — поторопить с включением насоса. Прихожу — только рот раскрыл, а они мне:
— Всё работает, только что переключили на другую цистерну!
Бросаю взгляд на прибор АСИТ-5 и вижу, как начинает снижаться температура в рабочих каналах. Вздох облегчения — охлаждающая вода стала поступать в реактор. И в этот момент доклад из отсека: наблюдается голубое пламя в районе ионизационных камер. Это, конечно, было ионизирующее излучение гамма- и бета-частиц. Все, кто оказался в этот момент в отсеке, получили максимальное облучение, превышающее предельно допустимые нормы.
До сих пор меня мучает вопрос: так, значит, пуск насоса усугубил радиационную обстановку? И чем больше думаю, тем больше убеждаюсь — да. Подача воды в раскалённую активную зону реактора резко ускорила разрушение зоны, что привело к скачкообразному повышению активности в отсеке…
Вода пошла в раскалённые рабочие каналы. Там было градусов 400. Термический удар, потрескались стенки стальных обсадок. Радиация полыхнула невидимым пламенем. Обстановка резко ухудшилась. К тому же солёная морская вода удерживает наведённую радиацию. Корчилов и ребята пробыли там минут 10. Но этого хватило, чтобы получить смертельную дозу. Они хватанули при пуске насоса 945 рентген.
Я не удержался и спросил:
— Разве вы не знали, что давать воду в рабочие каналы — это всё равно, что заливать в раскалённый котёл воду? Взрыв…
— Знали. Но выбрали из двух зол меньшее. Тепловой взрыв был бы ещё хуже…
Ну а что надо было делать вместо пуска насоса, тогда никто не знал… Никто не предвидел, к чему это приведёт. Это сейчас хорошо рассуждать в спокойной обстановке…
Вскоре голубое пламя исчезло. Все работы по сварке системы мы закончили к 12 часам 4 июля. Таким образом, реактор без охлаждения находился 8 часов.
Корчилова из отсека я выводил…
Потом в реакторный пришёл Затеев. Я ему:
— Товарищ командир, немедленно уходите!
— Ну, я только посмотрю…
Я повторил свою просьбу. Нечего ему было зря облучаться. Он не уходит. Тогда я матюгнулся. Ушёл. Слава богу, не обиделся…
О появлении голубого пламени немедленно доложили в ЦП. Отсек загерметизировали, личный состав вывели из реакторного отсека в центральный пост. Переход из носа в корму был разрешён только через верх. Я задержался на пульте. И в это время почувствовал тошноту, слабость. Нагнулся над раковиной умывальника — стравил. Подумал — перекурил слишком на мостике, к тому же ничего не ел. Но Коля Михайловский, увидев, как меня выворачивает, сказал, что это от облучения. Только тогда до меня дошло, что все мы, кто работал в реакторном, хватанули изрядную дозу. Но сколько именно? Об этом я узнал только много лет спустя из одного секретного некогда документа…
Потом к нам подошла дизельная подводная лодка С-270, которой командовал капитан 3-го ранга Жан Свербилов. Мы его звали Жан Вальжан. «Эска» раза в три меньше нашей К-19. Поэтому принять всех она не могла. Перешли на неё с отваленных носовых рулей глубины человек тридцать. Тут же, на палубе, сбрасывали с себя радиоактивную одежду. Кителя с золотыми погонами швыряли в море. Жалко было. Их ветром уносило. С погонами быстро тонули… Прибыли на лодку босиком и в кальсонах, а кто и просто нагишом.
На «дизелюхе» нас переодели. Свербилов потом не мог обмундирование списать, которое нам выдали… У него инженер-механиком служил Толя Феоктистов, мы с ним вместе «Дзержинку» кончали. Он:
— Чем тебе помочь?
— Под душ надо.
— Нет у нас такой роскоши.
Принёс мне в носовой отсек три чайника с водой. Хоть первую пыль радиоактивную смыл…
Потом пересадили нас на эсминец «Бывалый». А тамошний механик — тоже мой однокашник, Толя Писарев.
— Что для тебя сделать?
— Устрой душ.
Отвёл он меня в машинное отделение. Час стоял под душем, радиацию смывал.
…В Полярном возле Циркульного дома толпился народ — смотрели, как наш эсминец подходит. Машины «скорой помощи» стояли на причале.
Жена, Надежда Сергеевна моя, хотела сюрприз мне сделать. Оставила полугодовалого сына у мамы и приехала с Большой Земли встречать меня в Западной Лице. Да не встретила — меня в Полярном высадили, а оттуда в Ленинград увезли.
В Ленинграде, в Военно-медицинской академии, где нас разместили, облучёнными подводниками занимались врачи-радиологи Волынский и Закржевский. Закржевский сам давал нам свой костный мозг, и сын его тоже. Много и успешно занималась нами врач Беата Витольдовна Новодворская. Выхаживала нас, как мать родная.
Михаил Викторович достал блокнотик и открыл на нужной странице:
— Вот, у меня тут всё записано. После жёсткого гамма-облучения прожили:
Ордочкин — (990 рентген) — 8 суток.
Корчилов — (945 рентген) — 8 суток.
Харитонов — (935 рентген) — 11 суток.
Савкин — (930 рентген) — 9 суток.
Пеньков — (890 рентген) — 13 суток.
Косычев — (845 рентген) — 8 суток.
Рыжиков — (720 рентген) — 21 сутки.
Повстьев — (629 рентген) — 18 суток.
Я схватил 300 рентген, а мичман Ваня Кулаков — 369.
Вот ещё одна выписка — из дневника врачебных наблюдений: «Угнетённое состояние больных сменилось затем кратковременным двигательным и психомоторным возбуждением, общим бесконтрольным чувством внутренней тревоги, страха. На протяжении всего заболевания сон был неглубоким, чутким, прерывистым, насыщенным неприятными сновидениями».
Обслуживающему персоналу сказали, что у нас острая психическая реакция, чтобы никто с нами в споры не вступал и выполняли бы все наши пожелания. Первое наше пожелание было, чтобы вместо белых исподних — «солдатских» — рубашек нам выдали флотские тельняшки. Выдали.
Потом приходит медсестра в палату, спрашивает, кто что желает на обед. Мы ушам не поверили. Я переспросил:
— А что можно заказать?
— Всё, что хотите.
Дальше бараньей отбивной фантазии не хватило. Баранью, говорю, мне отбивную, да с косточкой и чтоб на косточке бумажная кисточка была. Посмеяться решил.
Смотрю, приносят баранью отбивную, мать родная — с косточкой, а на косточке, как в ресторане — бумажная кисточка!
Потом ездили на отдых в отпуска. В поезде к нам присматривались соседи по купе — вроде бы такие молодые, явно не воевавшие на фронтах, а с боевыми орденами. За что?
Мы отмалчивались…

Дальнейшая судьба Михаила Красичкова такова: службу закончил в 1979 году в Севастополе. Остался в «Голландии» старшим инженером в лаборатории.
Оба сына родились, слава богу, до ядерной аварии. Оба стали моряками, только торгового флота. Эдуард ходит в Стамбул на теплоходе «Михаил Водяницкий», Вадим совершает рейсы в Атлантике.
От старшего сына — внучка Аня, она пошла в первый класс с 5 лет. В институт — Севастопольский приборостроительный — поступила в 15 лет. Чудо-ребёнок. Свой, становой якорь ветеран К-19 бросил в городе Аткарске, что в 80 километрах от Саратова.
В Карском море, омывающем скалистые утёсы Новой Земли и берега Ямала, лежит в заливе Степового атомная и навечно подводная лодка К-27. Как она там оказалась? Неизвестная миру катастрофа вроде «Комсомольца» или «Курска»? Да, катастрофа, но совсем иного свойства…
В октябре 1963 года была спущена на воду и сдана Богу в руки, а флоту в опытовую эксплуатацию уникальная атомарина. Нарекли её К-27. Литера «К» означала принадлежность её к классу подводных крейсеров. Это была, как утверждают старожилы Северного флота, первая в мире атомная охотница на подводные лодки. Уникальность её определялась тремя буквами — ЖМТ, что в расшифровке обозначает жидкометаллический теплоноситель. Это значит, что в парогенераторы вместо воды, как на других атомаринах, поступала расплавленная жаром реактора свинцово-висмутовая лава.
О первых походах необычного корабля рассказывает старший помощник командира К-27 капитан 2-го ранга Юрий Воробьёв:
— В 1964 и 1965 годах К-27 (получившая у моряков на Северном флоте название «Золотой рыбки») совершила два автономных похода. Первая «автономка» по длительности пребывания под водой стала для ВМФ рекордной для того времени и подтвердила высокие эксплуатационные качества корабля. В походе на борт поступило сообщение, что создателям ПЛА (часть из них была на борту) присуждена Ленинская премия. Впоследствии высокие государственные награды получили и члены экипажа.
Огромный интерес проявляла к нам американская военная разведка. Первый выход «Золотой рыбки» в дальние моря осуществлялся в условиях строжайшей секретности. Лодка вышла из базы на Кольском полуострове, погрузилась и после перехода всплыла в Средиземном море, у борта находившейся там плавбазы с заранее натянутым тентом для скрытности. Так вот сразу после всплытия подлетел вертолёт американских ВМС, снизился и из него в мегафон на чистом русском языке поздравили командира и экипаж с благополучным прибытием…
В Мурманске живёт один из первопроходцев советского атомного подводного флота контр-адмирал Николай Григорьевич Мормуль. Ныне он стал летописцем Северного флота, на его счету несколько книг. Мы встретились с ним в те дни, когда вся страна следила за работой водолазов на погибшем атомном подводном крейсере «Курск». Зашла речь и о К-27, к которой мой собеседник имел прямое касательство как бывший начальник технического управления Северного флота Вот что он поведал о дальнейшей судьбе «Золотой рыбки»:
— Вернувшись из Средиземного моря, лодка пришла в Северодвинск на судоверфь, которая её «родила», и встала к тому же причалу, от которого её оторвали, словно ребёнка от пуповины. Здесь К-27 снова прочно и надолго связали береговыми коммуникациями, обеспечивавшими жизнь реактора. Предстояла перезарядка реакторов, и кульминационным моментом этой операции была выемка из реактора отработанной активной зоны. После этого, длившегося несколько месяцев, первого этапа последовал осмотр внутренностей корпуса реактора и загрузка в расплавленный металл свежей активной зоны.
Хочу пояснить: «активная зона» — это блок, в котором вмонтированы урановые стержни. Забавно вспоминать, но в первые годы обучения экипажей в Обнинске слово «реактор» произносить запрещалось. Это приравнивалось к разглашению государственной тайны. Даже на лекциях перед своими слушателями преподаватели называли реактор «кристаллизатором». Хотя из магазинных очередей в Северодвинске наши жёны приносили порой такие тайны, что мы только диву давались…
После перезарядки реакторов надо было вновь смонтировать системы и механизмы, а также провести швартовые и ходовые испытания.
В мае 1968 года субмарина совершила переход из Северодвинска в главную базу и приступила к отработке курсовых задач. За 2–3 дня К-27 должна была провести контрольный выход и развить 100-процентную мощность. Однако парогенераторы на левом борту давали хронические микротечи, и это благоприятствовало образованию окислов и шлаков теплоносителя. Командир БЧ-5 Алексей Анатольевич Иванов давно требовал температурной регенерации сплава. Эта операция связана со стоянкой подлодки у причала, а такую возможность найти было не просто, ведь лодка связана с другими системами флота, зависит от погоды, авиации и прочего. И хотя Иванов записал в журнал: «БЧ-5 к выходу в море не готова», мнение главного инженера корабля попросту проигнорировали. Лодка вышла в полигон боевой подготовки. Кроме 124 человек штатного личного состава на её борту находились представители главного конструктора по реакторной становке В. Новожилов, И. Тачков и представитель НИИ Новосельский.
— И что же потом случилось?
— Вот вам моя только что вышедшая книга «Катастрофы под водой». Читайте!
Читаю: «В 11 часов 35 минут 24 мая 1968 года стрелка прибора, показывающего мощность реактора левого борта, вдруг резко пошла вниз. На пульте управления главной энергоустановки находился в это время и командир БЧ-5. Иванов понял: чего он опасался, всё-таки случилось… Окислы теплоносителя закупорили урановые каналы в реакторе, как тромбы — кровеносную систему человека. Кроме того, вышел из строя насос, откачивающий конденсат. Тот самый, от которого образовались окислы».
В последующем расчёты показали, что разрушилось до 20 процентов каналов. Из этих разрушенных от температурного перегрева, — попросту говоря, сгоревших — каналов реактора теплоноситель разносил высокоактивный уран по первому контуру, создавая опасную для жизни людей радиационную обстановку. Даже во втором отсеке, где расположены кают-компания и каюты офицеров, уровень радиации достиг 5 рентген. В реакторном отсеке он подскакивал до 1000 рентген, в районе парогенераторов — до 500… Напомню, что допустимая для человека норма — 15 микрорентген. Переоблучился весь экипаж, но смертельную дозу получили в первую очередь те, кто работал в аварийной зоне.
— В марте 1998 года, спустя 30 лет после аварии на К-27, — продолжает свой рассказ Николай Мормуль, — я в очередной раз находился на излечении в Научно-лечебном центре ветеранов подразделений особого риска и встретился там со своим сослуживцем по атомным подводным лодкам на Северном флоте контр-адмиралом Валерием Тимофеевичем Поливановым. Поведал ему, что продолжаю работать над атомной темой о подводниках, и просил поделиться своими воспоминаниями и фотографиями в период службы в 17-й дивизии подводных лодок в Гремихе. Через некоторое время он прислал мне письмо, в котором рассказал об аварии на К-27. В 1968 году капитан 1-го ранга Поливанов был начальником политотдела дивизии и о событиях на лодке осведомлён был очень хорошо. Вот что он сообщил:
«25 мая 1968 года мы с командиром дивизии контр-адмиралом Михаилом Григорьевичем Проскуновым около шести вечера прибыли на плавпричал — встречать пришедшую с моря подводную лодку К-27. Это была плановая встреча, никаких тревожных сигналов с моря не поступало. После швартовки на пирс вышел командир капитан 1-го ранга Павел Фёдорович Леонов и доложил:
— Товарищ комдив, лодка прибыла с моря, замечаний нет!
Мы с ним поздоровались, а следом за командиром на причал сошли заместитель командира по политчасти капитан 1-го ранга Владимир Васильевич Анисов и начальник медслужбы майор медицинской службы Борис Иванович Ефремов. Оба, словно в нерешительности, остановились в нескольких шагах от нас. Я подошёл к ним, и после приветствий доктор доложил: обстановка на подводной лодке ненормальная… Специалисты и командир реакторного отсека едва ходят, больше лежат, травят. Короче, налицо все признаки острой лучевой болезни. Я подвёл их к командиру дивизии и командиру Леонову и попросил доктора повторить то, о чём он только что рассказал мне. Командир корабля Леонов посмотрел в его сторону и произнёс:
— Уже доложились!..
Доклад врача Леонов прерывал комментариями, дескать, личный состав долго не был в море. В море — зыбь, поэтому травят… И не стоит поднимать паники, если моряки укачались.
В это время к нам подошёл специалист из береговой службы радиационной безопасности с прибором в руках и заявил:
— Товарищ адмирал, здесь находиться нельзя, опасно!!!
— А что показывает твой прибор? — спросил я. И услышал в ответ:
— У меня прибор зашкаливает.
Оценив обстановку, комдив объявил боевую тревогу. Подводные лодки, стоявшие на соседних причалах, были выведены в точки рассредоточения. Мы с комдивом убыли в штаб дивизии. Командующему Северным флотом доложили о ЧП по „закрытому“ телефону и шифровкой. Я доложил в Политуправление флота.
Было принято решение убрать весь личный состав с подводной лодки, кроме необходимых специалистов, которые должны обеспечивать расхолаживание энергоустановки. Я вновь поехал на причал. По пути приказал сажать в автобус в первую очередь спецтрюмных, вышедших с подводной лодки, видел, как вели под руки лейтенанта Офмана. Его держали двое, и он с трудом двигал ногами… Остальные спецтрюмные также выглядели не краше. Автобус сделал несколько рейсов до казармы, пятнадцать человек, наиболее тяжёлых, сразу же поместили в дивизионную санчасть. Посильную помощь оказывали корабельные врачи, в гарнизонном госпитале спецотделений тогда ещё не было.
Около 23 часов нам стали звонить из Москвы, Обнинска, Северодвинска и других городов, связанных со строительством и созданием этой подводной лодки. Все просили информации о случившемся и давали рекомендации по своей части. Вспомнив о подобной ситуации с К-19, мы с комдивом пошли в госпиталь: надо было поить облучённых апельсиновым соком и спиртом. На флоте бытовало мнение, что алкоголь повышает сопротивляемость организма к радиации. На следующий день к нам, в забытый Богом край, прилетел вертолёт с военным и гражданским медперсоналом. С ними же прибыла главный радиолог Министерства здравоохранения СССР А. Гуськова. Посетив больных, которые ещё не пришли в себя, она пожурила нас за самодеятельность со спиртом. Гуськова безотлучно находилась при больных до самого момента их отправки в Первый военно-морской госпиталь Ленинграда.
Был установлен воздушный мост из вертолётов (аэродрома в Гремихе нет), и в дивизию оперативно доставляли нужных специалистов, материалы, оборудование и медикаменты. 27 мая прибыли академики А.П. Александров и А.И. Лейпунский (он был разработчиком отечественной ЖМТ-установки), заместитель министра судостроительной промышленности Л.Н. Резунов и другие важные персоны.
Командование ВМФ решило отправить весь экипаж в 1-й госпиталь ВМФ в Ленинград. Пробыли больные там до конца июля. В течение первого месяца умерли восемь человек. А остальные были освидетельствованы, признаны годными к службе на атомных лодках и отправлены в отпуск».
Но вернёмся за хлебосольный стол старого адмирала:
— Как-то в ноябре 1999 года я, будучи в Питере, зашёл в клуб моряков-подводников, что на Васильевском острове, и получил там ксерокопии писем старшины 2-й статьи Мазуренко Вячеслава Николаевича, который служил на К-27 турбогенераторщиком.
«Вот уже более 30 лет как произошла авария ядерного реактора на К-27, которая повлекла гибель нескольких моих сослуживцев по атомоходу. 28 мая на личном самолёте командующего Северным флотом адмирала Лобова, — пишет старшина Мазуренко, — нас первых десять человек отправили в Ленинград. Через пару недель пятеро из прибывших умерли. За эти 30 лет жизнь разбросала моих друзей в различные уголки нашей бывшей Великой страны. Я стараюсь поддерживать связь, ни на Украине, ни в России — никто не получил материальной компенсации ни за потерю кормильца, ни за потерю здоровья».
Увы, но это так…
— Николай Григорьевич, как сложилась судьба самой «Золотой рыбки»?
— Почти пятнадцать лет К-27 простояла в Гремихе. На ней проводили различные технические эксперименты, даже вышли на мощность правым бортом. Потом перебазировали в Северодвинск, чтобы подготовить к затоплению.
В конце 1981 года, будучи начальником Технического управления Северного флота, я зашёл на стоящую в заводском доке субмарину. Встретил меня капитан 2-го ранга Алексей Иванов. Да-да, тот самый инженер-механик, взявший на себя смелость записать в журнале: «БЧ-5 к выходу в море не готова». Во время аварии Иванов получил более 300 рентген, однако, отлежавшись в госпитале, попросил оставить его на «своей» лодке. Он ведь в состав первого экипажа К-27 вошёл ещё в 1958-м. Лейтенантом, командиром турбинной группы принимал подлодку из новостроя и более 20 лет преданно ей служил.
Конечно же, для Иванова не было секретом, что авария навсегда угробила уникальный атомоход. И что выйти в море ему больше не суждено, понимал тоже. Единственное, что светило его кораблю в будущем, — это «саркофаг» для реактора да могила на глубине 4000 метров (такова была рекомендация МАГАТЭ в качестве минимальной глубины захоронения твёрдых радиоактивных отходов). Однако привязанность моряка к своему кораблю — самая трогательная, самая непостижимая вещь в суровых, порой жестоких буднях военного флота…
Мы прошлись с Ивановым от центрального отсека до кормового. В основном меня интересовал реакторный — там готовили «слоёный пирог» из твердеющей смеси, битума и других защитных долговечных материалов. И я, и Иванов знали, что подводную лодку готовят к захоронению, но об этом, не сговариваясь, молчали.
Поразило идеальное содержание отсеков. Чистота там царила такая, что за поручни можно было держаться в белых перчатках. И это — при сокращённом в три раза экипаже. С какой же любовью содержал корабль его последний командир и бессменный старожил Иванов!..
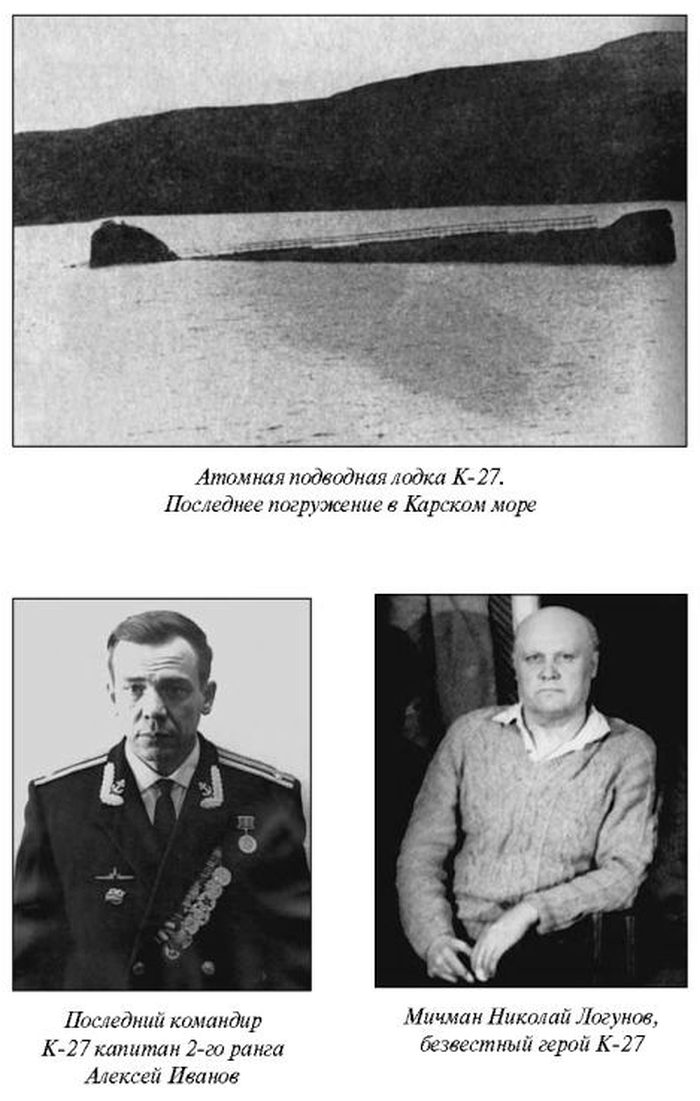
Распрощавшись с Мормулем, я отправился в Питер искать теперь уже почти легендарного для меня Иванова.
Последний командир К-27 капитан 1-го ранга в отставке Алексей Анатольевич Иванов живёт на Васильевском острове; еду к нему на улицу Кораблестроителей. Встретил меня высокий, сухощавый, очень спокойный и очень грустный человек. Расспрашиваю Алексея Анатольевича, что и как было дальше:
— Стали мы готовить К-27 к её последнему погружению. Сняли турбины, ещё кое-какие агрегаты… Восстановили плавучесть, навели в отсеках такую чистоту, какая и на боевых кораблях не снилась. Всё-таки в последний путь голубушку провожали…
— Почему её решили затопить? Ведь столько старых атомарин в отстое ныне…
— Дело было не в возрасте. Дело в том, что после аварии, после мощного перегрева расплавленный уран вместе с металлом-теплоносителем вымыло в первый контур. При скоплении в системе урана более килограмма могла возникнуть критическая масса со всеми вытекающими из неё в виде цепной реакции последствиями…
— А с реакторами как поступили? Почему их не вырезали?
— Активные зоны в них были новые, невыработанные… И не поддавались выгрузке. Поэтому весь первый контур залили фурфуролом, он кристаллизируется и становится как гранит. Весь реакторный отсек залили битумом. Подгоняли на причал асфальтовозы и через съёмный лист в отсек… Говорили, что на сто лет такой защиты хватит.
— Ну, вот уже 18 лет прошло, а что будет через оставшиеся 82 года?
— Поднимать её, конечно, надо. Вот на «Курске» новые судоподъёмные технологии освоят, и хорошо бы К-27-й заняться. Она лежит на недопустимо малой глубине. Всё в Арктике почище будет.
— Почему же её затопили всего на 33 метрах?
— Точку затопления определяли в Москве. Со мной, сами понимаете, не советовались.
В сентябре 1982 года лодку отбуксировали в Карское море. Недалеко от северо-восточного берега Новой Земли было намечено место её затопления. Открыли кингстоны, заполнили главную осушительную магистраль. Я поднялся на мостик, снял флаг и положил его за пазуху. Сходил с корабля последним. Практически вся моя жизнь была отдана этой подводной лодке… С буксира торопили криками и жестами, я прыгнул в шлюпку. Стальное тело лодки, каждый сантиметр которого был мне знаком, спокойно колыхалось совсем рядом. Я поцеловал корабельный металл и, не выдержав, заплакал…
Но субмарина не спешила тонуть: она всё больше заваливалась на нос и наконец застыла с задранным хвостовым оперением. Было ясно, что её нос упёрся в грунт: длина лодки составляла всего 109 метров, а топили её вопреки рекомендациям МАГАТЭ на глубине 33 метров. Оставить К-27 в таком положении, конечно, было невозможно. Буксир-спасатель «наехал» на хвост, пробив балластные цистерны, и вскоре вода сомкнулась над ней. Это произошло в точке с координатами 72°31' северной широты и 55°30' восточной долготы.
— А как вы себя сегодня чувствуете?
— По врачам не хожу. Курить бросил… Правда, головные боли дают знать, кровь иногда беспричинно из носа идёт. Зуб только один остался… А в остальном — держусь.
— А дозу большую схватили?
— Кто же её знает? Нам не объявляли… Думаю, не меньше 400 рентген.
Алексей Анатольевич, слава богу, держится ещё молодцом, чего не скажешь о других его сослуживцах, нахватавшихся «бэров». Как и большинство бывших подводников, ударился он в огородничество — огурчики, капуста, всё своё, с дачного участочка на Карельском перешейке.
Если бы американские коллеги Иванова, инженеры-механики с таких же «термоядерных исполинов» увидели его дом (по средним питерским меркам, вполне нормальное жилище), они бы решили, что это многоэтажный барак для военнопленных, взятых после исхода Холодной войны. Панельные стены, сработанные грубо, зримо, неряшливо, если не рабами Рима, то уж наверняка военными строителями со всей пролетарской ненавистью к тем, кто будет жить в этих многоэтажных «хоромах». Как и повсюду у нас, стены лифта исписаны именами поп-групп, поп-звёзд и прочих «поп…». Исполосованные бритвой объявления на стенах… Всюду следы вандализма, бунтующей злобы. Это тоже радиация, не менее зловредная для души, чем жёсткие «гаммы» уранового излучения. Среда нашей жизни, отравленная точно так же, как воды Северного Ледовитого океана.
С чего мы начнём своё великое очищение? С подъёма «Курска»? С подъёма К-27? С подъёма затопленных ядерных реакторов ледокола «Ленин»?
Умерли после радиационной аварии в Баренцевом море на атомной подводной лодке К-27 24 мая 1968 года:
1. Мичман Владимир Воевода — 07.06.1968 г.
2. Мичман Николай Логунов — 09.01.1995 г.
3. Старшина 2-й статьи Виктор Гриценко — 16.06.1968 г.
4. Старшина 2-й статьи Александр Петров — 24.06.1968 г.
5. Старшина 2-й статьи Владимир Пономарёв — 29.05.1968 г.
6. Старший матрос Владимир Куликов — 18.06.1968 г.
Прежде всего я попросил его показать руки. Я ожидал увидеть на ладонях моего собеседника шрамы от лучевых ожогов или иные. Следы той невероятно опасной работы, которую он проделал. Ведь у Марии Склодовской-Кюри, работавшей с радиоактивными элементами, руки были именно в таких отметинах. Но пальцы моего собеседника ничем не отличались от моих — руки как руки. Булыгин всё понял и усмехнулся:
— Я же профессионал…
Да, в отличие от тех, кто впервые познавал смертоносную силу урановой руды, капитан 1-го ранга Владимир Константинович Булыгин был настоящим профи, то есть дипломированным радиохимиком. Более того, много лет возглавлял цикл радиационной безопасности в Центре подготовки экипажей атомных подводных лодок. Но даже его охватила оторопь, когда он узнал о ЧП в губе Андреева — глухоманной бухточке, где размещалось самое большое хранилище отработанных ядерных материалов Северного флота…
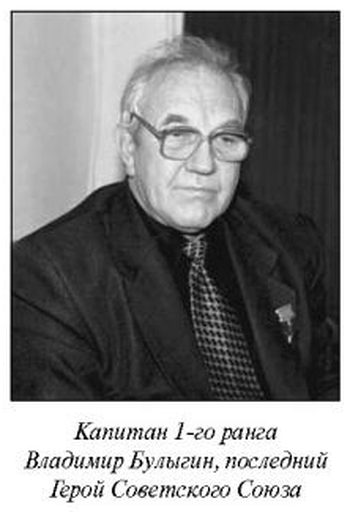
Архитектура двадцатого века не знала подобных сооружений — хранилище отработанного ядерного топлива. Этот небывалый тип построек — Дома Невидимой Смерти — пришлось создавать в конце 1950-х годов, когда стали накапливаться отработанные в реакторах атомных подводных лодок и ледоколов урановые стержни — ТВЭЛы — тепловыделяющие элементы. Никто не знал, как утилизировать этот опаснейший «шлак» ядерных «кочегарок», поэтому до лучших времён, которые так ещё и не наступили, решили хранить отработанные, но пышущие смертью стержни в глухоманной бухточке Кольского полуострова под названием — губа Андреева. Принцип хранения вольно или невольно подсказала сказка о Кощее Бессмертном, смерть которого таилась на кончике иглы, и была упрятана в яйцо, яйцо в утку, утка — в зайца, и так далее. Трёхметровые «иглы» урановых стержней были упрятаны в чехлы из нержавеющей стали — по три-четыре штуки в каждой оболочке. Чехлы — опускались на цепях в 70-метровый бассейн, наполненный водой и заключённый в бетонные стены, пол которого был сложен из бетонных плит со свинцовыми прокладками.
Это серо-бетонная постройка похожа на гибрид зернового элеватора, железнодорожного пакгауза и заколдованного средневекового замка. С последним её роднят глухие стены без окон, железные врата да мрачные легенды. Возможно, в чьём-нибудь фольклоре и существует миф про безлюдный замок, в чьих затопленных подвалах таится дух смерти, упрятанный в подвешенные на цепях сосуды. Эдакое узилище запечатанных джиннов. Но здесь, в Андреевой губе, это сооружение называлось весьма прозаично — здание № 5 берегового хранилища отработанного ядерного топлива. Однако проза жизни не меняла зловещей сути: в двух бассейнах, заполненных водой, — в «подвале» — висели на цепях цилиндрические трёхметровые «чехлы» из нержавеющей стали; в каждом чехле — по семи пеналов, в каждом пенале — пышущая лучами смерти тепловыделяющая сборка с урановыми стержнями в кожухе. В верхнем этаже «замка» — технологическом зале — давно застыл на приколе тельферный кран, с помощью которого когда-то опускали стальные чехлы в воду бассейна. Обе его ванны были до предела «завешаны» отработанными сборками. Если бы стенки хранилища были прозрачными, глазам бы предстало нечто подобное «гребёнке» органных труб. То был орган, на котором Смерть положила себе сыграть реквием по человечеству…
Шла Холодная война. Атомные ракетоносцы несли свою океанскую службу с предельным напряжением. А за все преимущества атомного реактора приходилось расплачиваться именно здесь — в губе Андреева. Отдалённые последствия лучевых болезней, радиоактивного заражения природы казались в разгар ядерного противостояния меньшим злом, чем серия атомных ударов по плану «Дропшот». А что делать с отработанным ураном — разберёмся как-нибудь потом, когда время будет… По всей вероятности, точно так же рассуждала и супротивная сторона, поскольку проблема утилизации атомных подводных лодок и их реакторов не решена и в ВМС США.
Итак, год от года хранилище в губе Андреева полнилось, потом его и вовсе закрыли. Лишний раз туда старались не заглядывать. Шли годы. Менялись вахты в необитаемой бухте. Зарастала бетонка, ведущая к зловещему зданию № 5. Прошло двадцать лет со дня ввода в строй хранилища в 1962 году. Последнее время матросы, охранявшие объект, толковали меж собой, что в здании происходит нечто странное: что-то звенит, с грохотом падает… Однажды на стене нижнего этажа, где находилась правая ванна бассейна, появилась огромная сосулька. Кто мог подумать, что это пробился сквозь бетон «коготь» ядерного монстра, заточённого в здании № 5? Матрос, бесстрашно справивший малую нужду на сосульку, отскочил от неё как ошпаренный: счётчик Гейгера, висевший на шее, грозно защёлкал. Матрос немедленно доложил об утечке радиоактивности начальству.
Из Североморска прибыла комиссия из флотских специалистов. Они-то и установили, что потёк сварной стык одной из ванн биозащитного бассейна. Незадолго до беды строители рванули аммоналом неподалёку скальный грунт. Сотрясения почвы оказалось достаточным, чтобы лопнул шов. Утечка охлаждающей воды, в которую были погружены чехлы с отработанными сборками, воды, ставшей радиоактивной с гамма-фоном до полутора рентгена в час, поначалу казалась небольшой — до 30 литров в сутки. Но уже через месяц-другой в ручей, бежавший окрест, стало выливаться из повреждённой оболочки до 100 литров в день. Вода в нём «зафонила»: 3 x 10 в минус седьмой степени кюри на литр. Не исключался и более мощный — залповый — выход охлаждающей воды из бассейна. Тогда в здание № 5 было бы просто не войти. Уровень излучения поднялся бы в сотни раз.
Так в феврале 1982 года Северный флот был поставлен перед угрозой серьёзной экологической катастрофы, если не сказать большего. К сентябрю радиоактивной воды из бассейна убегало уже около 30 тонн в сутки. Возникла опасность оголения верхних частей хранящихся сборок. Если бы речь шла только о радиоактивном заражении местности, это было бы полбеды. Но внимательный осмотр здания № 5 показал, что на дне бассейна образовался завал из сорвавшихся с цепей чехлов. Цепи, на которых они висели, ржавели, обрывались под солидной тяжестью, и на дне образовалась целая баррикада.
— А в ней могла образоваться критическая масса?
— Могла… — раздумчиво отвечает мой собеседник. — Ещё как могла со всеми вытекающими последствиями в виде цепной реакции и неминуемого тогда ядерного взрыва. И где — в заливе, на другом берегу которого стояла целая флотилия атомных подводных лодок…
Тогда ещё мир не знал слова «Чернобыль», как не знал он и названия губы Андреева. Но Чернобыльская авария — ничто по сравнению с тем, что могло разыграться на берегу глухоманного фиорда. Ядерный взрыв вблизи границы с Норвегией и Финляндией мог нанести непоправимый ущерб этим странам. О жителях Кольского полуострова и говорить не приходится.
Не было и нет на планете Земля более насыщенного ядерными материалами места, чем Кольский полуостров: тут и флотилии атомных подводных лодок, и атомные ледоколы, и ядерные арсеналы, хранилища и могильники радиоактивных отходов… Историки говорят, что в древние времена здесь процветала цивилизация гипербореев. Она погибла, считают они, в результате какого-то чудовищного катаклизма, возможно — сверхмощного ядерного взрыва. История повторяется. Или же собиралась повториться в конце двадцатого века нашей цивилизации…
Она бы и повторилась, если бы в России не было таких офицеров, как капитан 1-го ранга Владимир Булыгин… Именно ему предложили возглавить аварийно-восстановительные работы. К тому времени Владимир Константинович был одним из самых опытных радиохимиков в советском флоте. За спиной выпускника Бакинского военно-морского училища были уже и дезактивационные работы на первом советском атомном подводном ракетоносце К-19 после серьёзной аварии с ядерным реактором, и десятки перезарядок активных зон на подводных атомоходах, и создание уникальных установок для очистки радиоактивной воды…
— Мне сказали: эта работа займёт 15 лет. Я ответил: или мы сделаем это за год, или ищите себе другого руководителя.
Для начала решили заделать трещину. Но как её обнаружить? Предложили спустить в бассейн водолаза, который бы и нашёл место лопнувшего стыка и заделал бы его. Я сказал: «Если так, то дайте мне ножницы для стрижки овец и я сам обрежу водолазу шланги — чтоб не мучился потом парень от схваченных доз». Водолаза отменили.
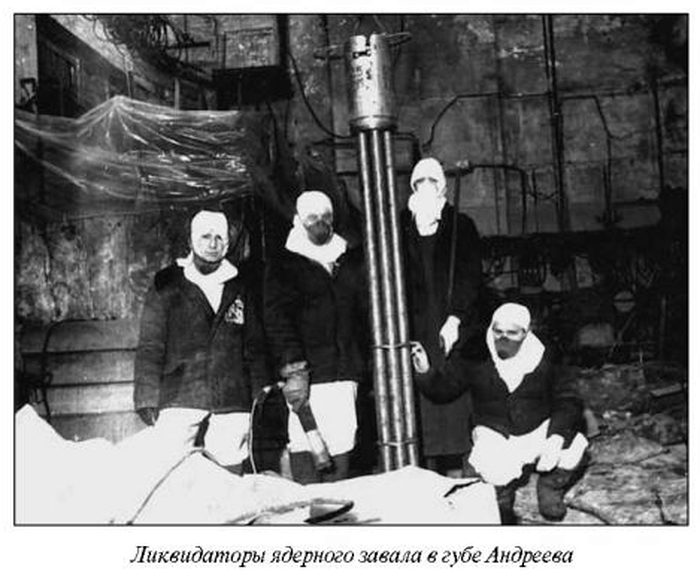
Работы в Андреевой губе шли в два этапа: в 1983–1984 годах и в 1989 году. Всего надо было выгрузить более 1000 чехлов (7000 урановых сборок). И не просто выгрузить, а перегрузить, упрятать лучевую смерть в более надёжное хранилище, чем бассейн с водой. Такое место нашли неподалёку от здания № 5 — в полузаглублённой ёмкости для сбора жидких радиоактивных отходов. В своё время её не успели пустить в дело, теперь она пригодилась как нельзя кстати. Самое главное — чехлы в ней разнесены на достаточное расстояние, так что цепную реакцию вызвать довольно сложно.
Булыгин вовсе не походил на супермена, которому всё нипочём. Широкоплечий и улыбчивый, с манерами, скорее, преподавателя словесности, нежели наставника из учебного центра атомщиков, ликвидатора ядерных завалов. Не могу представить себе этого седоватого, в очках, человека, хватающего голыми руками урановую сборку.
Это была самая настоящая Зона, ставшая явью из романа братьев-фантастов Стругацких. Как это ни грустно, но мы и в самом деле родились, чтоб сказку сделать былью.
Булыгина можно было бы назвать сталкером. Но роль его в Зоне была гораздо сложнее, чем назначение гида-проводника. Он не приспосабливался к Зоне, а переделывал её, уничтожал в ней те злые силы, которые зародились и вызрели в бетонном подполье.
— Работали так, — рассказывает Булыгин, — сменная бригада поднималась в технологический зал и укрывалась за штабелем бетонных плит и свинцовым щитком с оконцем, как в рентгеновском кабинете. Оттуда поднимали тельферным краном чехол из бассейна. Потом выбегал такелажник и быстро — на всё про всё 60 секунд — пытался перецепить поднятый чехол с урановыми сборками в захват перегрузочного устройства. Если он не успевал этого сделать, значит, немедленно убегал в укрытие — за свинцовый козырёк, и его тут же подменял другой боец. Он тоже должен был управиться за минуту, чтобы не схватить «дозу».
Поднятый чехол отправлялся в бункер, где его опускали в одну из ячеек бетонного монолита, установленного в кузове мощного карьерного самосвала — «БелАЗа». Машина отвозила опасный груз к полузаглублённой ёмкости, предназначенной некогда для жидких радиоактивных отходов. И другой кран — огромный портальный — перегружал чехол за чехлом в ячейки бетонных сот. И так раз за разом, день за днём, неделя за неделей, месяц за месяцем… Всего было выгружено более 1000 чехлов, в которых содержалось 7000 отработанных, но не потерявших своей убойной лучевой силы урановых сборок.
— До этого подобную же работу мы проводили на Дальнем Востоке, — рассказывает Булыгин. — Мы там тащили чехлы из-под воды. Полностью очистили хранилище и отправили на переработку два эшелона. За эту работу меня в первый раз представили к званию Героя Советского Союза. Однако получил я тогда три строгих выговора, чтобы не высовывался. И на этом всё заглохло. Ну а здесь, на Севере, всё было несколько иначе… Поменялось руководство. Пришёл контр-адмирал Лебедько, наш главный куратор и вдохновитель. Большую оперативную помощь в нашей работе оказывал тогдашний начальник Техупра Северного флота контр-адмирал Николай Мормуль. Моей правой рукой был старший лейтенант Станислав Калинин. Как на самого себя мог положиться на капитана 3-го ранга Валерия Шумакова. Он единственный, кто вёл фотосъёмку наших работ.
Самое сложное началось, когда дело дошло до разбора «баррикады» на дне бассейна. Упавшие чехлы подцепляли самодельными приспособлениями — «удочками». То была дьявольская «рыбалка». Свыше 120 чехлов оказались негерметичными и даже частично разрушенными. Их надо было осушать и переупаковывать выпавшие из них смертоносные стержни. По идее, это должны были делать роботы со специальными манипуляторами. Но где их взять? Всё делали люди — Булыгин с сотоварищами. И они это сделали: порой — голыми руками. Вот почему я и попросил своего собеседника показать свои руки. Мы пьём кофе в гостиничном буфете…
— Владимир Константинович, если не секрет, сколько доз вы схватили тогда?
Булыгин отделывается шуткой:
— Мои дозы, как и мои года — моё богатство!.. Знаете, когда работы в декабре 1989 года закончились, даже жалко было расставаться. Все сроднились друг с другом.
— Женщины участвовали в вашей работе?
— Нет, не участвовали. Не женское это дело — радиация… На объекте работали 20 военных специалистов и 28 гражданских. Двоих гражданских спецов я представил к званию Героя Социалистического Труда с формулировкой: «За личное мужество при ликвидации ядерноопасного завала отработанного топлива». Это были научные сотрудники НИТИ Владимир Ильин и Николай Петров.
Представление к наградам подписал начальник Управления боевой подготовки Северного флота контр-адмирал Владимир Лебедько, который лично курировал ход опаснейшей работы.
— И что же?
— Кроме орденов, я просил командование выделить особо отличившимся ликвидаторам цветные телевизоры и несколько «Волг», — вспоминает Владимир Георгиевич Лебедько. — Кто-то из московских флотоводцев поставил на моей шифровке резолюцию: «Тов. Лебедько. Надо быть скромнее». А командующий Северным флотом меня ещё и отругал за то, что я послал подобное «прошение» без его ведома. Как же без вашего ведома, — возмущался я, — если вы сами его подписали?!
— А я не читал.
Короче, так и остались мои бойцы без наград. Но тут новая аховая ситуация: в Ладожском озере нашли немецкий эсминец с радиоактивными отходами от бывшего спецполигона. «Зелёные» подняли шум: ходили по Невскому с транспарантами — «Ленинградцы пьют отравленную воду Ладоги». Разгорался большой скандал. Министр обороны СССР маршал Язов звонит командиру ленинградской ВМБ: «Срочно проведите очистные работы, иначе мы все сгорим!» Я тогда возглавлял учебный центр в Сосновом Бору. Вице-адмирал Валентин Селиванов мне перезванивает. «Где Булыгин со своей группой?» Я ему: «Не пойдут больше булыгинские ребята, обещали наградить за Андрееву губу и прокатили». «Срочно готовь новые представления!» И надо отдать должное адмиралу Селиванову: через сутки был готов Указ о присвоении капитану 1-го ранга Булыгину звания Героя Советского Союза. Эсминец благополучно вычистили. Радиоактивные материалы отправили на химический комбинат «Маяк».
То был последний Герой, который успел получить Золотую Звезду при жизни. Вскоре Советский Союз перестал существовать. Знаменательно, что первыми Героями были полярные лётчики. А вот последним стал — радиохимик-ликвидатор, положивший здоровье на расчистку ядерных завалов Советской державы.
Не зря говорят, во многом знании — много печали, много будешь знать, скоро состаришься. Оно мне надо — знать то, без чего я спокойно проживу. Мало ли, что, где, когда могло случиться? Не случилось — и слава богу!
И всё-таки знать надо — потому что, не будь таких людей, как Булыгин и ему подобные, мы бы не вылезали из чудовищных бед. Он и сейчас ещё в свои шестьдесят с лишним лет востребован, как молодой лейтенант то и дело мотается из Питера на Дальний Восток или на Крайний Север. Ибо всюду столь остро необходим его уникальный опыт укротителя радиации.
Звезда последнего Героя сияет на его пиджаке во все пять лучей своей нестрашной — золотой радиации.
В тот год за августом ещё не утвердилась дурная слава «чёрного месяца», но это случилось именно в августе, спустя ровно тридцать лет после взрыва американской атомной бомбы в Хиросиме. 10 августа 1985 года на подводной лодке К-431, стоявшей в бухте Чажма, взлетел на воздух ядерный реактор.
Флот был велик числом кораблей, силён отвагой и выносливостью моряков, но нищ заботой о кораблях и людях, убог розмыслом флотовождей и опасен самовольством иных офицеров.
Была Чесма, и была Чажма…
А ещё был Чернобыль. Но беда в Чажме случилась на девять месяцев раньше. Её так и называют теперь — прелюдия к Чернобылю. Жаль, на Чернобыльской АЭС совершенно ничего не знали о том, что случилось в Чажме. Может быть, и взрыва реактора удалось избежать…
На заре XX века самым тяжким делом для команд боевых кораблей была погрузка угля. Уголь грузили в корзинах, которые матросы носили на спинах. В конце века грузили уже не уголь, а ядерное топливо — в основном на атомные подводные лодки. Пусть не так часто, как уголь (раз в несколько лет), но это было не менее трудоёмко, а главное — опасно. На смену активной зоны реактора атомной подводной лодки уходило до полутора месяцев. На деле перегружали и дольше.
За четверть века существования атомоходов флотский люд к «атому» попривык и, несмотря на тяжёлые ядерные аварии на К-19 или на К-27 (да мало ли их было?), с ядерной энергетикой стал общаться на «ты». Только так можно объяснить то, что произошло 10 августа 1985 года в тихоокеанской бухте Чажма.
Летом 1985 года атомная подводная лодка К-431, носитель крылатых ракет, истощив свой топливный «атом», пришла в бухту Чажма для смены активной зоны. Именно в этой бухте всё было приспособлено для сложной и трудоёмкой работы. К-431 встала к заводскому пирсу, где уже стояли плавучая контрольно-дозиметрическая станция и атомная подводная лодка первого поколения «Ростовский комсомолец» (К-42). К правому борту К-431 пришвартовали несамоходную плавучую техническую базу ПТБ-16, или проще — плавмастерскую № 133, специалисты которой и должны были производить замену отработанного ядерного топлива на свежие ТВЭЛы — стержни тепловыделяющих элементов. Командовал плавтехбазой капитан 1-го ранга Чайковский. Трудно сказать, приходился ли он родственником гениального композитора, но фамилия для флота неслучайная: известно, что родной брат Петра Ильича был одним из первых русских подводников.
Вроде бы, всё делалось так, как требуют строжайшие инструкции и наставления по проведению подобных работ. Над реакторным отсеком К-431 поставили алюминиевый домик типа «Зима», прикрывающий раскрытый сверху отсек от дождей и прочих осадков. Загерметизировали шестой — реакторный — отсек, и обе переборочные двери, ведущие в смежные отсеки опечатали, так что ни одна посторонняя душа не могла проникнуть к месту опасного священнодействия — перезарядки лодочного реактора. Всё это напоминало операцию на открытом сердце. Но чтобы вскрыть это урановое «сердце», надо было снять крышку реактора — полутораметровый стальной цилиндр толщиной в человеческий рост. Между крышкой и корпусом реактора — круговая красномедная прокладка, которая за годы эксплуатации «прикипает» к стальным окружьям так, что требуется специальное устройство для подрыва крышки. Оно так и называется — гидроподрыватель. О том, как это происходит, детально поведал бывший лодочный инженер-механик капитан 2-го ранга Валерий Захар:
«…Для этого выгружают стержни компенсирующей решётки и аварийной защиты, монтируют установку сухого подрыва, закрепляют компенсирующие решётки стопором, крышку захватывают четырёхроговой траверсой и поэтапно, с выдержкой времени по установленной программе, поднимают, не допуская малейших перекосов.
Взамен снятой крышки устанавливают биологическую защиту. Отработанные ТВЭЛы — тепловыделяющие элементы — в количестве 180 штук демонтируют специальным устройством и отправляют в отсек плавтехбазы, где они хранятся под слоем воды. Место посадки в реакторе калибруют, промывают бидистиллятом. В подготовленные ячейки вставляют новые ТВЭЛы, которые закрепляют аргоновой сваркой. Крышку с реактором устанавливают с новой красномедной прокладкой. Для создания герметичности её прижимают к корпусу нажимным фланцем, обтягивая гайки на шпильках гайковёртами под давлением до 240 кг/см кв. Герметичность стыковки проверяют гидравлическим давлением на 250 атмосфер и делают выдержку на утечку в течение суток».
Вот такая канитель — с чётко предписанной и оговорённой до мелочей каждой операцией. Обратим внимание на то, что крышка снимается и ставится ровнёхонько — без малейших перекосов, что сделать на плаву весьма непросто.
Однако человек привыкает ко всему, тем более к рутине, и начинает эту рутину упрощать, а то и просто игнорировать.
Как и все большие беды, трагедия Чажмы началась с мелочи — с обломка электрода, попавшего под красномедную прокладку.
«По технологии сборки, — отмечает специалист-атомщик, — начальник смены должен был лично убедиться в чистоте поля перед укладкой красномедной прокладки. Занимаясь подготовкой технических средств к следующему этапу, офицер перепоручил проверку мичману. Эта небрежность в исполнении своих обязанностей, но не диверсия, породила цепь причин, приведших к катастрофе».
Да, именно со злополучного обломка электрода всё и началось. Надо было снова поднимать крышку реактора, повторять опаснейший этап перезарядки…
При обнаружении любой неполадки или неисправности во время перегрузки активной зоны строгая инструкция требует собрать комиссию, куда обязательно должен входить офицер Технического управления флота, изучить проблему и составить протокол.
Поскольку за командира плавтехбазы (он был в отпуске) оставался его заместитель по перезарядке капитан 3-го ранга Валерий Сторчак, он, не откладывая дела в долгий ящик, и собрал «проблемный совет». Дивизию подводных лодок, в которую входила К-431, представляли капитан 2-го ранга Виктор Целуйко (зам начальника электромеханической службы 29-й дивизии) и капитан 3-го ранга Анатолий Дедушкин (врио командира БЧ-5 перезагружаемой подводной лодки К-431), от береговой технической базы присутствовали её временный командир капитан 3-го ранга Владимир Комаров и его подчинённые — научный руководитель лаборатории физического пуска реакторов капитан 3-го ранга Александр Лазарев, инженер лаборатории старший лейтенант Сергей Винник. Чуть позже к ним присоединился опоздавший, но всё же успевший, на свою беду, инженер группы радиационного контроля службы радиационной безопасности капитан-лейтенант Валерий Каргин. Никто из них ни сном ни духом не ведал, что эта их последняя служебная встреча. Потому что все они спустились в реакторный отсек К-431, а в бухту Чажма уже входил катер-торпедолов, который, несмотря на знак ограничения хода, поднятый на брандвахте, шёл со скоростью около 12 узлов. Его командир, некий безвестный мичман, очень торопился домой…
Это было второе роковое обстоятельство, наложившееся на первое — обломок электрода, из-за которого надо было вторично поднимать многотонную крышку реактора.
Утро «чёрной субботы» — 10 августа 1985 года — выдалось пасмурное и дождливое: «скоро осень, за окнами август…»
«Крышку поднимали носовым краном плавмастерской, — свидетельствует капитан 2-го ранга Валерий Захар. — В организации работ были сделаны грубейшие нарушения ядерной безопасности. В суете команду „Атом“, как это должно делаться при проведении „операции № 1“, по кораблю не объявили. При монтаже устройства сухого подрыва не закрепили стопор удержания компенсирующей решётки. Установке стопора мешала кница в выгородке реакторного отсека. Её надо было срезать газорезкой. Этого не сделали.
Подъёмное устройство, называемое благодаря своему внешнему виду „крестовиком“, не отцентровали с гидроподъемниками и вместо жёсткой сцепки взяли крышку стропами».
Бывший командующий 4-й флотилией атомных подводных лодок вице-адмирал Виктор Храмцов:
— Итак, одиннадцать офицеров перегрузочной команды сняли крепления с крышки реактора, и кран плавучей мастерской начал поднимать её. Офицеры рассчитали расстояние, на которое кран мог поднять крышку так, чтобы не началась цепная реакция. Но они не знали, что вместе с крышкой вверх пошла компенсирующая решётка и остальные поглотители. Создалась критическая ситуация! Дальнейший ход событий зависел от малейшей случайности. И она произошла, не зря говорят: дьявол сидит в мелочах. Крышка с компенсирующей решёткой и поглотителями висела на кране плавмастерской, которая могла качнуться в ту или иную сторону и таким образом ещё более поднять крышку на пусковой уровень или опустить. Как раз в этот момент с моря подошёл торпедолов и на скорости в 11–12 узлов прошёл по бухте Чажма. От торпедолова пошла волна. Она качнула плавмастерскую с краном. Крышка реактора была вздёрнута со всей системой поглотителей на ещё большую высоту, и реактор вышел на пусковой уровень. Произошла цепная реакция. Выделилось огромное количество энергии, мощный выброс выметнул всё, что было в реакторе, над ним и рядом с ним. Перегрузочный домик сгорел и испарился. Сгорели в этой вспышке и офицеры-перегрузчики… Кран на плавмастерской вырвало и выбросило в бухту. Крышка реактора весом в 12 тонн вылетела (по свидетельствам очевидцев) вертикально вверх на высоту полтора километра и снова рухнула вниз на реактор. Потом она свалилась на борт, разорвав корпус ниже ватерлинии. Вода из бухты хлынула в реакторный отсек. Всё, что было выброшено в момент взрыва, легло на К-431, К-42, плавучую мастерскую, дозиметрическое судно, акваторию бухты, пирсы, завод, сопки. Ветер был со стороны бухты на завод. В считанные минуты всё вокруг аварийной лодки, всё, попавшее в след выпадения осадков, стало радиоактивным. Уровни гамма-излучения в десятки, сотни раз превышали санитарную норму. Это произошло в 12 часов 5 минут 10 августа 1985 года.
За своё попустительство, за свои ошибки офицеры-перегрузчики заплатили самой страшной ценой — собственной жизнью. О мёртвых — либо хорошее, либо ничего.
За несколько минут до взрыва врио командира плавмастерской капитан 3-го ранга Сторчак спустился в подпалубные помещения проверить, как идёт большая субботняя приборка — время подходило к обеду. Именно там — в низах ПМ-133 — он и услышал роковой взрыв. Плавмастерскую резко качнуло и так накренило, что у многих мелькнула мысль, что крен превысил угол заката. Но плавмастерская всё-таки вернулась на ровный киль, а потом покатилась на другой борт. По натянутым нервам резанул трезвон аварийной тревоги. Капитан 3-го ранга Сторчак выскочил на палубу. Первое, что он увидел — клубы чёрного дыма, валившие из огненного кратера за рубкой атомарины — оттуда, где только что стоял домик «Зима», где работали люди. Длинные нити чёрной копоти медленно кружились в воздухе. Матрос-узбек, вцепившийся в леер, испуганно кричал, глядя на палубу: «Ноуга! Ноуга!» Сторчак перехватил его взгляд и увидел чью-то оторванную окровавленную ногу. Повсюду валялись куски решётки ядерного реактора, и только теперь стало ясно, что произошёл тепловой взрыв, а значит, из разверстого чрева подраненной лодки бьют смертельные лучи немереной радиации.
Сторчак принял на себя командование пунктом перегрузки. Он бросился на ГКП — главный командный пост — и тут же получил доклад от начальника службы радиационной безопасности лейтенанта Молчанова, что все измерительные приборы зашкаливают. Только потом, спустя несколько суток удалось установить мощность дозы излучения во время взрыва по золотому кольцу, снятому с руки одного из погибших офицеров. Исследование показало, что в момент взрыва излучение достигло 90 тысяч рентген в час.
В довершение ко всему из отсека-хранилища ТВЭЛов огорошили сообщением о сквозной пробоине борта плавмастерской. Пробоину нанёс острый рваный край развороченного корпуса атомарины, но, по счастью, выше ватерлинии. Сторчак ещё не успел отдать никаких приказаний, но командир трюмно-котельной группы старший лейтенант Сергей Ильюхин, повинуясь сигналу «Аварийная тревога», уже бросил своих бойцов на тушение пожара, полыхавшего в реакторном отсеке злосчастной атомарины. Пенные струи били в огнедышащий зев, не принося особого результата. Пожар в отсеке бушевал неукротимо.
В распоряжении Сторчака находились четыре офицера, два мичмана и шестьдесят матросов. Он прекрасно понимал, что со стороны аварийного отсека идёт жёсткое радиоактивное излучение. В эти гибельные минуты он сумел поберечь молодых матросов от воздействия радиации. Отправил двадцать пять перегрузчиков на берег. Опыта борьбы за живучесть у них было маловато и особого толку от их присутствия на плавмастерской не было. Поняли ли они, что командир ПМ-133 спас не только их, но и их будущих детей, их будущие семьи от генетических уродств, от неизлечимых болезней? Возможно, с годами и поняли, а кое-кто даже выбрал капитана 3-го ранга Валерия Сторчака в заочные крёстные отцы своих детей. Но тогда об этом никто не думал. Оставшихся матросов Сторчак распределил по сменам, которые возглавили старший лейтенант Сергей Ильюхин и мичманы Евгений Ларионов и Юрий Кужельный. Всего на несколько минут вбегали моряки в опасную зону, из стволов ранцевых пеномётов они били в жерло огненной топки, в которую превратился шестой отсек К-431, пытаясь сбить пламя, лишить его кислорода. Но пена вскоре кончилась, и горящий отсек пришлось заливать через гидранты забортной водой. Пока одни глушили огонь, другие собирали с залитой кровью палубы куски тел, складывали их в прорезиненные мешки. Когда кончалось отмеренное Сторчаком время безопасного пребывания в зоне облучения, моряки быстро менялись, и те, кто получил очередную дозу, бежали укрываться в относительно безопасное место — в кормовой трюм за цистерну пресной воды. Там же аварийщиков переодевали в чистые робы, благо на плавмастерской был некий запас рабочей одежды.
Битва за спасение К-431 продолжалась свыше полутора часов. Потом из бухты Стрелок подошёл спасатель «Машук» и отвёл ПМ-133 из Чажмы к острову Путятина. Двое суток они смывали с палубы и надстроек плавмастерской радиоактивную грязь, пока их не сменил резервный экипаж.
Плавмастерскую увели, и горящая К-431 осталась наедине с судьбой и сошвартованным с ней «Ростовским комсомольцем» и бесполезным дозиметрическим судном. В её отсеках не сразу поняли, что произошло. Просто бросились выполнять то, что предписано аварийным расписанием по пожару в отсеке, а когда дошло, что радиоактивный фон превысил допустимые нормы в сотни раз, вот тут не все выдержали поединка с незримой смертью. Один офицер сбежал на плавказарму, заперся в своей каюте и напился в стельку. Потом на суде офицерской чести он объяснял свои действия тем, что «хотел снизить алкоголем воздействие радиации на организм». Его уволили в запас за трусость. Однако большинство подводников осталось в медленно тонущей атомарине, пытаясь удержать её на плаву. Увы, на обесточенной подлодке не работал ни один водоотливной насос, ни одна помпа… Но даже если бы и удалось пустить в ход осушительную систему, то и это не спасло бы корабль от медленного затопления, ведь вода поступала в реакторный отсек через полутораметровую трещину в прочном корпусе, а потом растекалась по смежным отсекам через выгоревшие сальники и прочие уплотнения, испуская лучи смерти.
Тем временем из посёлка Ракушка в Чажму мчались на своих машинах командир К-431 капитан 2-го ранга Леонид Федчик, штатные инженеры-механики — командир БЧ-5 капитан 2-го ранга Игорь Ерёмин и командир первого дивизиона капитан 3-го ранга Владимир Румянцев. Вместе с ними ехали и три мичмана, сорванные из отпусков страшной вестью. На КПП чажминского завода их встретил начальник штаба 4-й флотилии контр-адмирал Геннадий Агафонов.
— Главная задача — сохранить корабль на плаву! — сказал он командиру.
Мчался в Чажму из владивостокского аэропорта и командующий флотилией контр-адмирал Виктор Михайлович Храмцов. Много позже он вспоминал:
— 10 августа 1985 года я вместе с командным составом Тихоокеанского флота находился на борту самолёта. Возвращались из Москвы, где были на приёме у Главнокомандующего ВМФ. Настроение было приподнятое. Мне дали понять, чтобы я готовился к новой должности — начальника штаба Северного флота и что готовится представление на присвоение звания вице-адмирала… Приземлились во Владивостоке около 15.00. К самолёту подбежал дежурный офицер и доложил, что командующего 4-й флотилией просят срочно подойти к телефону. Я понял — что-то произошло, сердце защемило. Подошёл к телефону. Оперативный дежурный флотилии докладывает.
— В Чажме — тепловой взрыв реактора.
— Я тогда подумал, что случилось, наверное, не самое страшное, что могло случиться, — взрыв-то тепловой, а не ядерный. Но от этого было не легче. Вскочил в машину и помчался на завод. Машина подъехала прямо к пирсу, где стояла К-431. Обстановку оценил мгновенно: К-431 тонет, реакторный отсек заполнен водой, и теперь вовсю топит корму… Надо спасать корабль, но кругом, как в страшном сне — ни души. Я перебежал на дозиметрическое судно, потом на соседнюю К-42. И тут никого! Словно вымело всех.
Глубина у пирса была 15 метров, осадка у К-431 — вдвое меньше. Решение пришло сразу — аварийную лодку надо вывести на осушку и посадить её на грунт, как в док, но для этого необходимо было вытащить плавмастерскую на рейд, освободить атомоход от всякого рода концов: швартовых канатов, электрокабелей, вентиляционных систем, переходного и энергетического мостиков. Но как всё это сделать одному?.. И вдруг из ограждения рубки К-42 вышел капитан-лейтенант, дежурный по этой подводной лодке. К сожалению, я не запомнил его фамилии. Вместе с ним мы стали освобождать тонущую атомарину от всего, что связывало её с берегом, и в этот момент к плавпричалу подошёл морской буксир.
Я объяснил его капитану обстановку и дал команду полным ходом тянуть К-431 на берег, пока она не сядет на грунт. Мы с капитан-лейтенантом в это время рубили пожарными топорами всё, что можно было перерубить. Вот так мы и освободили лодку, а морской буксир на полном ходу посадил её на осушку. Лодка перестала тонуть…

За каждой фразой храмцовского рассказа — отчаянная, полная смертельного риска борьба за живучесть атомного корабля. Только один эпизод. Вода из реакторного отсека не уходила даже тогда, когда К-431 приподняли на мощных кранах так, чтобы трещина в прочном корпусе оказалась выше уровня моря. Выяснилось, что погружной насос достиг настила первого яруса и не берёт воду из довольно обширного трюма. Кто пойдёт в самое пекло ядерного котла, чтобы сбросить насос под пайолы? На это отважился командир реакторного отсека капитан-лейтенант Олег Мальво. Именно он проник в шестой отсек из седьмого, спустился на нижний ярус и выполнил то, что требовалось.
Вице-адмирал Виктор Храмцов:
— Вскоре из базы нашей флотилии прибыла аварийная партия во главе с моим заместителем по электромеханической части инженером-капитаном 1-го ранга О.Д. Надточием. В состав аварийной партии входили опытные офицеры штаба флотилии. Они осушили реакторный отсек, и подводная лодка всплыла. Затем заварили рваный борт.
Вместе с аварийной партией прибыли офицеры службы радиационной безопасности флотилии и начали обмеры зоны аварии. В зоне аварии и на самой лодке матросы срочной службы не использовались. Работа продолжалась до 23 августа. Ежедневно группу, побывавшую в зоне аварии, отправляли в госпиталь, где у них брали кровь на анализы. Всего через зону аварии прошло около 150 человек.
Подполковник медицинской службы Георгий Николаевич Богдановский, флагманский врач 9-й дивизии 6-й эскадры подводных лодок:
— В ту «чёрную субботу» я был на службе, поскольку у нас, как и на всём Тихоокеанском флоте, был парко-хозяйственный день. «Хлопка» я не слышал — от нашей бухты Конюшкова до бухты Чажма было километров шесть. Никакой информации о чрезвычайном происшествии я не получал, хотя и был старшим врачом гарнизона. Узнал, что что-то стряслось, от капитана 1-го ранга Виктора Репина, командира подводной лодки Б-99, стоявшей в заводе. Он прибежал, запыхавшись, и попросил, чтобы я подбросил его на своей «Волге» в Чажму. По дороге гадали, что там могло случиться? Я остановился у заводского КПП. Мы с Репиным кинулись на причал, у которого уже толпились матросы аварийных партий с других кораблей. Они прибежали, как велят Устав и инструкции, но как оказать помощь развороченному атомоходу — никто из них не знал. Слишком велики были повреждения. Куски человеческих тел были разбросаны по всему пирсу. Их собрали в одно место и накрыли одеялами, взятыми с торпедолова. Потом между лодкой и плавбазой всплыл ещё один обрубок… Даже мне, медику, повидавшему на своём веку немало трупов, было не по себе. Что же говорить о матросах-мальчишках, которые с ужасом взирали на лужи крови и то, что осталось от их сотоварищей… Разумеется, меньше всего они думали о радиации, которую излучал развороченный реакторный отсек.
— Жора, тут что-то не так! — нутром почуял неладное Репин и увёл своих людей в прочный корпус Б-99. Мы прибыли с ним без дозиметров, да даже если бы они у нас были, толку чуть. Все радиометрические приборы на причале зашкаливали.
Первую медицинскую помощь в привычном смысле этого слова оказывать было некому: были одни трупы. Раненых не было. Были смертельно облучённые люди. Но лечить их мне не довелось. Все тридцать девять человек с первичным диагнозом ОЛБ — «острая лучевая болезнь» — были отправлены в госпиталь посёлка Тихоокеанский. Нам же пришлось два дня собирать в резиновые мешки куски тел. А потом сожгли их на территории спецчасти — ядерного арсенала. Там же и погребли, поставив скромный камень…
Капитан 2-го ранга Валерий Захар:
— В воскресенье утром (10 августа) нескольких человек с ПЛА К-431 отвезли в госпиталь посёлка Тихоокеанский. Через день медики проверили у попавших в зону аварии щитовидную железу. Многих госпитализировали, особенно с ПМ-133. Некоторых отправляли в Ленинград. Валерий Сторчак отказался уезжать в центр.
«Лучше умирать дома…» — сказал он. Повод для такого настроения был веский. Какую дозу получили моряки при борьбе за живучесть подводной лодки и дезактивации плавмастерской, никто не зафиксировал по простой причине: не располагали средствами контроля больших доз. Было ясно, что облучились выше всяких норм. У некоторых образовались волдыри от радиоактивного ожога…
Всё было почти так, как на недоброй памяти «Хиросиме» — подводной лодке К-19. И даже подвиг Бориса Корчилова вольно или невольно повторил капитан-лейтенант Олег Мольво. Однако военные медики-радиологи уже не были столь беспомощны перед лучевой болезнью, как в начале 1960-х годов. Возможно поэтому, через несколько месяцев лечения и отдыха на острове Русский почти все моряки вернулись в строй. Остался жив и капитан 3-го ранга Валерий Сторчак, один из главных героев — в полном смысле слова — событий в Чажме. По всем канонам наградной системы его надо было представлять к ордену и, слава богу, не посмертно. Но награды получили совсем другие офицеры, фамилию же капитана 3-го ранга, первым принявшего на себя разгул ядерной стихии, не внесли даже в списки.
У нас не раз так бывало: людей, отличившихся при ликвидации той или иной аварии, старались не награждать, исходя из весьма спорной позиции главкома ВМФ: «Мы аварийщиков не награждаем». За этим весьма суровым кредо скрывался чисто чиновничий расчёт: если представлять тех же спасателей к наградам, тогда надо докладывать наверх и о чрезвычайном происшествии, которое всегда можно преподнести как аварию внутриведомственного значения. Не выносить сор из избы, даже если он и радиоактивный.
Именно поэтому до сих пор остались в тени самоотверженные действия капитана 3-го ранга Валерия Сторчака, да и не только его одного.
После Чажмы Валерий Петрович перевёлся в Севастополь — дослуживать до пенсии на Черноморском флоте. Где он теперь? Здоров ли, жив ли? Никто толком не знает.
Штатный командир К-431 капитан 2-го ранга Валерий Шепель находился в отпуске и о том, что стряслось с его кораблём, который принял резервный экипаж, узнал далёко от Чажмы. Прошло двадцать лет, прежде чем он рассказал то, что знал, о чём столько думал все эти годы…
Капитан 1-го ранга в отставке В.Н. Шепель:
— На третий день после трагедии на территории завода нашли золотое обручальное кольцо одного из погибших, по которому установили, что в момент взрыва уровень радиации достигал 90 тысяч рентген в час. Много это или мало?
Для сравнения — это втрое больше, чем при аварии на Чернобыльской атомной станции. Несмотря на гарь, копоть, гигантские языки пламени и клубы бурого дыма, вырывавшиеся из подводной лодки, в воздухе отчётливо чувствовался резкий запах озона, как после сильной грозы (первый признак мощного радиоактивного излучения). Люди его ощущали, но не задумывались, что это радиация и что их ожидает смертельная опасность. Они бросились тушить пожар. Осознание случившегося пришло позже, когда перед глазами людей предстала картина разрушенного ядерного реактора.
У заводчан и военных, которые первыми бросились к лодке, совершенно не было средств защиты, дозиметры вышли из строя из-за высокого уровня радиации. Лодка водоизмещением более пяти тысяч тонн тонула, и если бы она ушла на дно с развороченным реактором, вся радиоактивная грязь расползлась бы по бухте. К счастью, подоспел заводской буксир и лодку удалось оторвать от пирса и посадить на мель.
Начали замерять радиационную обстановку на причалах, практически все приборы зашкаливали. Прибывшие люди, работающие в спецодежде при температуре более 23 градусов тепла, падали в обморок. Светились не только стены цехов, но и крыши, пирсы. Облучение получили рабочие и жители посёлка Дунай. Матросов и солдат гнали в ядерный ад, как на убой. Было слишком мало техники, и главным орудием в основном была кирка и лопата. На первом этапе давали сменную рабочую одежду и обувь. И никто не думал о радиации, о дозах. Люди просто выполняли воинский долг. Флагманский врач, которому задавали вопрос о дозах облучения, отмалчивался и отшучивался. Был приказ — молчать.
О погибших говорили шёпотом. Их фамилии было приказано не упоминать. Более чем скромный обелиск, установленный на месте захоронения останков, хранит их имена. Вот они:
капитан 2-го ранга Виктор Целуйко;
капитан 3-го ранга Анатолий Дедушкин;
капитан 3-го ранга Владимир Комаров;
капитан 3-го ранга Александр Лазарев;
капитан-лейтенант Валерий Коргин;
старший лейтенант Герман Филиппов;
старший лейтенант Анатолий Ганза;
старший лейтенант Сергей Винник;
матрос Николай Хохлюк;
матрос Игорь Прохоров.
Несмотря на то что и до 1985 года происходили аварии, из-за чего лодки полностью выходили из строя, а количество жертв было значительно большим, аварию в бухте Чажма на атомной субмарине К-431 специалисты оценили как самую крупную атомную катастрофу на флоте за последние три десятилетия…
В официальных документах постарались смягчить суть ЧП и вместо «тепловой взрыв ядерного реактора» писали «хлопок». Но это был именно тепловой взрыв. Боролись с его последствиями упорно и долго.
Вице-адмирал Виктор Храмцов:
— В зоне аварии находились завод и посёлок… Там работами руководил командующий Приморской флотилии вице-адмирал Николай Лёгкий, а общее руководство осуществлял командующий ТОФ адмирал Владимир Сидоров. В аварийной зоне работали военные строители, полк химической защиты флота и служба радиационной безопасности завода.
Химический и радиационный контроль осуществлялся под личным руководством начальника химслужбы флота капитана 1-го ранга Киселёва. 23 августа в 16.00 я на буксире перевёл К-431 через залив Стрелок в бухту Павловского, основную базу 4-й флотилии, к нулевому пирсу. Там она стоит и сегодня и по-прежнему «светится». К сожалению, сегодня таких «грязных» лодок на отстое стало больше, чем в мою бытность.
Ликвидация последствий аварии была организована следующим образом: общее руководство всеми работами взял на себя командующий ТОФ адмирал В.В. Сидоров, при нём был создан штаб, он был расположен в заводоуправлении. В него входили замкомандующего ТОФ по гражданской обороне контр-адмирал В.А. Мерзляков, помощник командующего ТОФ контр-адмирал Аполлонов, начальник технического управления ТОФ контр-адмирал Горбарец, командующий Приморской флотилией вице-адмирал Н.Г. Лёгкий, начальник химслужбы ТОФ капитан 1-го ранга Киселёв. И я, командующий 4-й флотилии контр-адмирал Храмцов. От строителей — полковник Брэм.
Загрязнённая радионуклидами территория была разделена на две зоны. Зона аварии, куда входили территория завода и акватория бухты, в радиусе примерно 100 метров вокруг аварийной лодки. В этой зоне работали аварийные партии от моей 4-й флотилии, а радиационный контроль осуществляла служба радиационной безопасности этой же флотилии во главе с капитаном 2-го ранга Полуяном, заместителем начальника службы радиационной безопасности 4-й флотилии.
В зоне следа радиоактивных осадков, а они выпали на часть территории завода, в сопки, активно работали военные ликвидаторы из строительных отрядов, силы Приморской флотилии, силы гражданской обороны и химслужбы ТОФ, личный состав береговой технической базы. Надо сказать, что на этой базе основную нагрузку по ликвидации последствий взрыва, захоронению твёрдых радиоактивных отходов, ремонту хранилищ ТВЭЛов, могильников, строительству в экстренном порядке новых хранилищ для ТВЭЛов несли военные строители и личный состав БТБ. Руководил работами капитан 2-го ранга В.Н. Царёв. На этот горячий участок его направил я. Здесь нужна была полная самоотдача, «хныканье» не допускалось. Я не ошибся — капитан 2-го ранга Царёв с честью справился с этой тяжёлой работой и был мною представлен командиром БТБ, а за мужество он был награждён орденом Красной Звезды.
Рабочие, служащие завода, население посёлка Дунай к работам по ликвидации последствий взрыва не привлекались, за исключением нескольких десятков человек, которые работали в энергоблоках, котельных, насосных станциях.
Высокие чины ВМФ и ТОФ остались в стороне, усидели в своих креслах, имея возможность использовать своё высокое служебное положение в корыстных целях. И их не особенно волновала судьба сотен и тысяч ликвидаторов, офицеров и матросов, солдат строительных отрядов, сил гражданской обороны. Всех, кто выполнил опасную работу по ликвидации последствий взрыва. Всех, кто работал до апреля 1986 года.
Было проведено расследование этой катастрофы комиссией, которую возглавлял начальник Главного технического управления ВМФ адмирал Новиков. Вот какие выводы сделала комиссия о причинах несанкционированного пуска реактора:
1. Нарушение руководящих документов по перегрузке активных зон реактора.
2. Отсутствие контроля за организацией перегрузки.
3. Реакция шла 0,7 секунды. Излучение было более 50 тысяч рентген.
4. Главный виновник — командующий 4-й флотилии атомных подводных лодок ТОФ контр-адмирал Виктор Михайлович Храмцов.
Здесь необходимо сказать, что береговая техническая база (БТБ) была передана техническим управлением ТОФ в состав 4-й флотилии за два месяца до катастрофы. БТБ была построена в конце 1950-х годов как специализированное, очень сложное и очень дорогое инженерное сооружение в бухте Сысоева. База должна была выполнять следующие функции:
— ремонт и перегрузка реакторов;
— хранение новых и отработанных тепловыделяющих элементов активных зон атомных реакторов (ТВЭЛ) в специальных хранилищах;
— захоронение твёрдых радиоактивных отходов в специальных могильниках;
— переработка жидких радиоактивных отходов, для чего под землёй была сооружена сложнейшая система из нержавеющих труб, испарителей, фильтров.
К дню приёма БТБ в состав флотилии все эти сооружения были в аварийном состоянии: хранилище ТВЭЛов треснуло по фундаменту, и высокорадиоактивная вода стекала в океан. А система переработки жидких радиоактивных отходов не эксплуатировалась с самого начала, была запущена и разграблена. А не использовали её потому, что был найден более простой способ — сливать радиоактивную воду в специальный технический танкер, разбавлять её чистой морской водой до терпимого уровня и потом сливать эту смесь в океан в районах специальных полигонов. Позднее на этих же танкерах стали вывозить твёрдые радиоактивные отходы и сбрасывать их в море. По этому поводу Япония и Южная Корея заявили протесты и даже имели место преследования наших технических танкеров их военными кораблями. Кстати, на Северном флоте картина была та же.
Деятельностью береговых технических баз должно было руководить техническое управление ТОФ, в состав которого входил специальный отдел, в котором получали деньги более десятка офицеров-физиков. Но надо было избавиться от береговой технической базы, от больших неприятностей, с ней связанных; ведь надо будет отвечать за бездеятельность, за преступную беспечность и равнодушие. Инициатором передачи базы на ТОФ был, как ни странно, начальник Главного технического управления ВМФ СССР адмирал Новиков. При приёме базы в состав 4-й флотилии составили акт технического состояния, командующему флотом адмиралу Сидорову я лично доложил, что база в аварийном состоянии и что в составе штаба флотилии нет специалистов-физиков для контроля за деятельностью базы и особенно за организацией проведения операции № 1.
Такова предыстория чажминского взрыва…
Надеюсь, что людям, причастным к флотской службе, понятно, кто главный виновник этой катастрофы… Тем не менее я получил НСС (неполное служебное соответствие) от Главнокомандующего ВМФ, а от партийной комиссии ТОФ строгий выговор с занесением в учётную карточку.
Ещё два года работы на полную самоотдачу и обращение к Богу помочь, немного удачи. Бог помог. Два этих года были результативными и удачливыми. Я снял неполное служебное соответствие и партийное взыскание, получил очередное воинское звание — вице-адмирала. К сожалению, сегодня я не боец, а инвалид 2-й группы, бессрочно, как некоторые молодые говорят и пишут — ушедший в пенсионное небытие.
Тихоокеанский «Чернобыль» был скрыт от общественности СССР, и о нём не узнала планета. Материалы расследования были спрятаны в архив Главного технического управления ВМФ… А командующий ТОФ адмирал В. Сидоров даже не спросил с начальника технического управления ТОФ адмирала Горбареца, почему ни он, ни офицеры отдела по ремонту и перезарядке активных зон реакторов не были при перегрузочной операции ни 9 августа, ни 10-го? Почему такие принципиально важные и опасные работы остались без руководства технического управления ТОФ?
15 сентября, когда комиссия закончила работу по определению причин аварии, я случайно услышал разговор между офицерами отдела технического управления ТОФ. Один офицер говорил другому:
— Как хорошо, что мы вовремя столкнули береговую базу на Храмцова, теперь он ответит, а мы будем в стороне. Нам повезло!
Но не повезло тысячам военных ликвидаторов, рабочим завода, нахватавшихся лучевых «доз».
Какова же радиационная обстановка в акватории бухты Чажма и на территории завода сегодня? Радиационное загрязнение там, как утверждают экологи, по-прежнему неблагополучное. Часть рабочих, служащих завода, жителей посёлка уехали на Большую землю. Но большинству ехать некуда, они остались жить на «грязной» территории. Эти люди в первую очередь заслуживают внимания со стороны государства и они, конечно же, должны получать компенсацию за утраченное здоровье по закону, принятому после чернобыльской трагедии, где говорится о «социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС». Решение Правительства РФ по этому вопросу должно подготовить Министерство судоремонтной промышленности. Вот только готово ли оно? Вот в чём вопрос.
И в чажминской, и в чернобыльской катастрофах причина была одна и та же — высококвалифицированные специалисты нарушили инструкции, потому что уже свыклись с атомом, считали, что с ним можно обращаться на «ты». Но любое нарушение инструкции — это уже критическая ситуация, а значит, непредвиденная случайность может стать роковой. Так оно и было в обеих катастрофах. Если бы после катастрофы в Чажме были правдивые доклады, вплоть до Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Правительства СССР или хотя бы довели правду до министра обороны СССР! Уверен, что тогда были бы приняты организационные меры, в том числе созданы комиссии по проверке всех ядерных объектов СССР, проверке компетентности, технической культуры персонала таких объектов. Тогда бы на Чернобыльской АЭС были бы сделаны выводы из катастрофы в Чажме. И, возможно, тогда бы не пришёл чёрный для планеты день — 26 апреля 1986 года.
Так подводники прозвали Норвежское море, где наши субмарины горели чаще всего. Впрочем, точной статистики на этот счёт нет, но по меньшей мере два пожара — на атомной подводной лодке К-3 в 1967 году и на атомной подводной лодке К-278 («Комсомолец») в 1989-м — вошли в мартиролог подводного флота как самые страшные…

Атомная подводная лодка К-3… Она была первая… За это её любили, за это ею гордились. Первая атомная подводная лодка СССР — К-3, или «Ленинский комсомол». Первый поход подо льды Арктики, первое всплытие на Северном полюсе… Её называли «Авророй атомного флота». «Авророй» — в смысле зари, предвестницы новой эры. Её изображали на почтовых марках и значках, её фотографии не сходили с обложек журналов. Но мирская слава проходит быстро — что у людей, что у кораблей…
Ещё только-только освоили ядерный реактор на суше, но уже дерзновенные головы то ли великих новаторов, то ли великих авантюристов предлагали поставить атомный «котёл» на подводную лодку и нырнуть с ним под арктические льды. Первыми это сделали американцы. Вторыми — мы. Несмотря на вторичность достижения, мы, как всегда, пошли своим путём и добыли на нём немало приоритетов. Впервые в облике субмарины появились китообразные формы, за что подлодки проекта 627А получили своё родовое имя «кит». «Киты» благодаря рациональным обводам значительно превышали подводную скорость американского «Наутилуса». Отец советской ядерной энергетики — академик А. Александров — писал главному конструктору первого советского атомохода — Владимиру Николаевичу Перегудову: «Ваше имя войдёт в историю техники нашей Родины как имя человека, совершившего крупнейший технический переворот в кораблестроении, по значению такой же, как переход от парусных кораблей к паровым».
Первый атомоход строила вся страна, хотя большинство участников этого небывалого дела и не подозревало о своей причастности к уникальному проекту. В Москве разработали новую сталь, позволявшую лодке погружаться на немыслимую для того времени глубину — 300 метров; реакторы построили в Горьком, паротурбинные установки дал ленинградский Кировский завод, архитектуру К-3 отрабатывали в ЦАГИ… Всего 350 НИИ, КБ и заводов «по кирпичикам» соорудили чудо-корабль. Первым его командиром стал капитан 1-го ранга Леонид Гаврилович Осипенко. Если бы не режим секретности, его имя прогремело бы на всю страну, как и имя Юрия Гагарина. Ведь Осипенко провёл испытания по-настоящему первого «гидрокосмического корабля», который мог уходить в океан на целых три месяца лишь с одним всплытием — в конце похода. Её нарекли К-3, быть может, в честь знаменитой «тройки», воспетой Гоголем. «Эх, тройка, птица-тройка…» Во всяком случае, моряки звали её меж собой «тройкой». Атомной «тройке» предстояли воистину сказочные дела, например, примчать экипаж на Северный полюс…
Осипенко вспоминал: «При спуске лодке, как заведено, было шампанское. Однако соблюсти традицию оказалось непросто. Ведь нос лодки представлял собой сферу, обтянутую резиной, и единственным местом, о которое могла разбиться бутылка, было ограждение горизонтальных рулей. Моряки — народ суеверный. Если не разобьётся шампанское в момент спуска, то все, кому придётся плавать на лодке, будут поневоле вспоминать об этом в критические моменты… Тут кто-то кстати припомнил, что хорошо, когда шампанское о борт разбивает женщина. Молодая сотрудница конструкторского бюро уверенно взяла бутылку за горлышко, размахнулась и… Бутылка точно приземлилась на металлическое ограждение. Брызнула пена, и все облегчённо перевели дух. В это же время Борис Акулов (инженер-механик К-3) разбил бутылку шампанского в реакторном отсеке. Он это сделал мастерски — матросы потом два дня собирали осколки».
Однако зловещий знак отметил первое глубоководное погружение К-3, когда в кают-компании треснуло зеркало. Дурная примета оправдалась не сразу, но уж так, что хуже некуда… Но об этом чуть позже.
Создание атомного подводного флота шло параллельно с развитием космического комплекса, и потому все «космические» сравнения тут совершенно правомерны. «Попасть в число первых офицеров атомохода было почти так же престижно, как несколько лет спустя быть зачисленным в отряд космонавтов», — утверждает второй командир К-3 Лев Жильцов. Первый экипаж атомохода был создан раньше отряда космонавтов. Да и первый выход в море атомохода состоялся раньше запуска искусственного спутника Земли почти на два месяца. Но если вывод на космическую орбиту спутника имел оглушительный успех, то выход в морские глубины корабля с «атомным сердцем» замалчивался до поры в режиме особо важной тайны.
Американцы были в шоке от того, что главный противник в Холодной войне — СССР — первым прорвался в космос. Надо было отвлечь внимание мировой общественности от полёта советского спутника, и тогда в том же 1957 году Пентагон направил атомную подводную лодку «Наутилус» на Северный полюс. Как откровенно выразился французский адмирал Лепотье, сделано это было «для того, чтобы спасти лицо американской науки и техники». Высадка людей на макушке планеты из-подо льда приравнивалась к высадке астронавтов на Луне. Вызов был брошен. И командиру К-3 Льву Жильцову была поставлена задача — доказать, что и нам подобное по плечу. К тому времени — к лету 1962 года — К-3 была вовсе не единственной атомариной в советском ВМФ. Под лёд на полюс могли пойти и другие, более новые корабли, тогда как «тройка» была уже порядком изношена — ведь на ней как на головном образце отрабатывались предельные режимы работы всех устройств и прежде всего — реактора, парогонераторов, турбин. На парогенераторной системе «буквально не было живого места, — удивлялся потом Жильцов, — сотни отрезанных, переваренных и заглушенных трубок… Удельная радиоактивность первого контура была в тысячи раз выше, чем на серийных лодках… Почему же, зная о почти аварийном состоянии нашей лодки, при решении вопроса государственной важности о походе на полюс, призванном заявить на весь мир о том, что наша страна осуществляет контроль над полярными владениями, остановились всё же на К-3? Ответ, может быть, странный для иностранцев, совершенно очевиден для русских. Выбирая между техникой и людьми, мы всего больше полагались на последних».
Жильцов был уверен в своих людях, и он дал согласие выйти на покорение полюса на «честном слове и на одном крыле». А люди были вот какие: когда стало ясно, что моряки энергетических отсеков облучаются в сто раз больше, чем концевых, старшина 1-й статьи Талалакин, служивший в отдалённом от реактора торпедном отсеке, предложил разделить радиационную опасность поровну — на весь экипаж, то есть перемешивать «фонящий» воздух между отсеками. Предложение приняли. «Таким образом, — сообщал первый командир К-3 Л. Осипенко, — все члены экипажа — рулевые, торпедисты, командование и даже корабельный кок — получали равную дозу с управленцами и турбинистами. И только когда по сто доз получал каждый, мы всплывали и вентилировали отсеки в атмосферу». Так в новых условиях соблюдался старый принцип: нигде нет такого равенства, как на подводной лодке: либо все побеждают, либо все погибают. Либо все облучаются…
С таким экипажем Жильцов увёл свою «тройку» под лёд. Шли в прямом смысле слова к чёрту на рога, «не зная броду». Вместо подробной карты с изобатами глубин и отметками подводных вершин на столе штурмана лежала чистая карта-сетка. Шли вслепую и вглухую. Акустики впервые работали в таких условиях, когда ледяной панцирь над головой отражал шумы собственных винтов, рождая слуховые иллюзии. Однажды глубины под килем стали резко уменьшаться.
Жильцов: «Получив тревожный доклад, приказываю немедленно подвсплыть и уменьшить ход до малого. Всеобщее внимание приковано к эхограмме: что будет дальше? Откуда взялась эта подводная гора и где её вершина?» Так был открыт гигантский подводный хребет на дне Ледовитого океана. Его назвали именем известного гидрографа Гаккеля. После Северной Земли, нанесённой на карту в 1913 году русскими моряками, то было крупнейшим географическим открытием XX века.
17 июля 1962 года в 6 часов 50 минут 10 секунд подводная лодка К-3 прошла точку Северного полюса Земли. Мичману-рулевому шутники посоветовали свернуть немного с курса, чтобы лодка с размаху не погнула земную ось.
Потом было всплытие на полюсе. Торжественно водрузили государственный флаг на самом высоком торосе. Жильцов объявил «увольнение на берег». Тут началось неподдельное веселье. Командир вынужден был отметить: «На полюсе подводники ведут себя, как малые дети: борются, толкаются, бегают в запуски, взбираются на высокие торосы, кидаются снежками… Бойкие фотографы запечатлели и лодку во льдах, и множество смешных ситуаций. А ведь перед выходом в море особисты прочистили весь корабль: ни одного фотоаппарата на борту быть не должно! Но кто лучше знает лодку и все потайные места — контрразведчики или подводники?»
Обратно возвращались полным ходом: глава государства Никита Хрущёв ждал их на берегу, чтобы лично вручить геройские звёзды руководителю исторического похода контр-адмиралу А. Петелину, командиру К-3 капитану 2-го ранга С. Жильцову и инженеру-капитану 2-го ранга Р. Тимофееву. Генсек обещал экипажу приём в Москве такой же, как первым космонавтам.
Итак, утром 8 сентября 1967 года штаб дивизии атомных подводных лодок в Гремихе получил тревожный сигнал из Норвежского моря: объёмный пожар на подводной лодке К-3. Есть жертвы…
Крейсер «Железняков» с резервным экипажем на борту экстренно снялся с бочек и полным ходом двинулся к пострадавшей атомарине. Неизвестно было, как поведут себя торпеды с ядерным снаряжением при таком пожаре, не сработают ли их предохранители, если в аккумуляторных ямах рванёт «гремучий газ» — водород, смешанный с воздухом.
Тем не менее К-3 вернулась в Гремиху своим ходом в надводном положении — с приспущенным флагом. А это означало — на борту есть погибшие. И было их немало — 39 тел остались за стальными переборками носовых отсеков.
Остатки уцелевшего экипажа разместили на плавказарме, изолировав подводников на время работы государственной комиссии по выяснению причин пожара. Но сначала о внешних обстоятельствах трагедии.
Рассказывает помощник командира К-3, тогда ещё капитан-лейтенант Александр Лесков:
— В результате бесконечных торжественных, никчёмных мероприятий, сопровождавших подводную лодку несколько лет после похода на полюс, из неё сделали фетиш. Очень скоро экипажу стало не до боевой подготовки. Измученные отсутствием настоящего дела командиры тихо спивались, потом их так же тихо освобождали от занимаемых должностей.
И всё-таки именно «тройке» пришлось выручать флот, когда в июле 1967 года на Ближнем Востоке заполыхала война, и кроме неё из атомных подводных лодок послать в Средиземное море было некого. В авральном порядке собрали экипаж, назначили нового командира и «выпихнули», как говорят в таких случаях подводники, на боевую службу. К-3 честно выполнила свою миссию, все 80 суток боевого патрулирования прошли в экстремальном режиме: нет ничего изнурительней, чем провести жаркое само по себе средиземноморское лето в пекле ядерной «кочегарки». Температура в турбинном отсеке весь поход стояла под 60 градусов.
На обратном пути в Норвежском море — в этом море пожаров — на К-3 разыгралась чудовищная трагедия. Около двух часов ночи 8 сентября в носовом торпедном отсеке вспыхнул объёмный пожар: воспламенились пары огнеопасной гидравлики. По сути дела это был взрыв — и пусть не такой мощный, как взрыв тротила, но гибельная ситуация в носовых отсеках развивалась столь скоротечно, что моряки полегли замертво едва ли не в первую минуту. В центральном посту успели услышать только короткий вызывной сигнал межотсечной трансляции.
Командирскую вахту на центральном посту нёс помощник командира капитан-лейтенант А. Лесков:
— Я включил тумблер и спросил: «Кто вызывает?» Потом отпустил тумблер и… Сколько лет потом просыпался я среди ночи, заново, во сне услышав те страшные крики заживо горящих людей!
За считанные минуты в первом и во втором отсеках погибли 39 моряков. В трюме второго отсека в герметичной выгородке находился шифрпост. Там работал шифровальщик мичман Мусатов. Он не смог выбраться из своей капсулы из-за того, что крышка люка была завалена телами погибших. Мусатов погиб последним. Он ещё смог позвонить по телефону из своего «жарочного шкафа». Лесков услышал ею отчаянную мольбу: «Товарищ капитан-лейтенант, спасите меня, пожалуйста!..» Спасти его было невозможно…
Казалось, что и атомоход обречён на верную гибель: ведь в первом отсеке на стеллажах лежала добрая дюжина торпед, а в аппаратах находились торпеды с ядерными боеголовками. Ситуация, как на «Курске», — ещё полторы-две минуты, и взрыв всего боезапаса вместе с ядерными 330 боевыми зарядными отделениями. А рядом — берега Норвегии, натовской страны.
Командир К-3 Юрий Степанов принял единственно верное — спасительное! — решение. Страшно представить себе, что бы случилось, запоздай он хотя бы на полминуты с командой: «Сравнять давление с аварийными отсеками!» Дело в том, что тротил взрывается при одновременном повышении температуры и давления. Давление в горящих отсеках резко подскочило. И когда капитан-лейтенант Лесков открыл клинкет вытяжной вентиляции, сжатый почти до рокового предела воздух с яростным рёвом пошёл в центральный пост. То был даже не воздух — чёрный дым с хлопьями гари, перенасыщенный ядовитыми газами. Центральный пост оказался сразу загазован, в трюме погиб матрос-ученик, надевший не тот противогаз. Но другого выхода не было. Лодка была спасена от неминуемого взрыва, её провентилировали, и через какое-то время К-3 самостоятельно вернулась в базу — силами оставшихся в живых моряков. Никто из начальства не захотел брать в расчёт предельный технический износ «тройки» как головного корабля. На экипаж и командира навесили страшный ярлык «аварийщиков», пожар-де произошёл по вине личного состава, хотя достоверно это и не доказано. После ремонта Ю. Степанову и экипажу дали возможность «реабилитировать» себя повторным выходом в море. Но едва Степанов поднялся на мостик, как потерял сознание. Шок от пережитого был слишком силён. Выход отменили.

Через полгода Степанова списали на берег и перевели в севастопольское Высшее военно-морское училище им. Нахимова. Там ему вручили орден Красной Звезды за спасение первенца советского атомного флота.
Как потом сложилась судьба этого офицера, спасшего не только свой корабль, но и всё Норвежское море от радиоактивного заражения? Прошлым летом я попытался найти его следы в Севастополе.
Навожу справки, звоню… Училища, в котором преподавал Степанов, уже нет. Где его архивы — никому неизвестно. Последняя надежда — районный военкомат, в котором он состоял на учёте. Но тогда была другая страна, а сейчас военкомат служит новому государству. Безо всяких иллюзий, просто для очистки совести иду в военкомат. Девушка в украинской форме любезно мне объясняет, что все личные дела советских офицеров давно уже уничтожены. В лучшем случае дубликат, может быть, сохранился где-нибудь в Киеве. Но шансов мало…
Для очистки совести — как полезно, однако, чистить её, эту совесть! — девушка-прапорщик лезет на архивные полки, и вдруг сверху само собой падает личное дело капитана 1-го ранга Степанова! Такое впечатление, что он сам — с того света — подтолкнул эту тощую серую папочку.
— Надо же, — изумляется девушка, — не сожгли!
Как хотелось бы, чтобы иногда все наши и не наши чиновники не спешили исполнять свои должностные инструкции, особенно по части уничтожения документов.
Что может рассказать «Личное дело офицера запаса»? Очень многое из того, что составляет внешнюю канву служебной жизни, и почти ничего из сферы — «знаете, каким он парнем был!»
Листаю, читаю и пытаюсь понять этого человека по его последнему бумажному следу на Земле.
Итак, Юрий Фёдорович Степанов родился 15 мая 1932 года в Калинине. Отец — ветеран войны, лейтенант-танкист, работал администратором кинотеатра в Риге. Юрий закончил Рижское нахимовское училище, затем в 1952 году — Высшее военно-морское училище подводного плавания. Штурман. В 1966-м — Высшие специальные офицерские классы. Командиром крейсерской подводной лодки К-3 назначен 5 июля 1967 года.
Из курсантских и офицерских аттестаций: «…был старшиной роты. Чемпион училища и ВМУЗов по классической борьбе… В обстановке на море ориентируется хорошо и быстро принимает обоснованные решения. Офицер с высокими волевыми качествами». Ещё одна запись: «В сентябре 1967 года в сложной служебной ситуации получил отравление угарным газом с кратковременной потерей сознания и последующим психическим травматизмом. На протяжении 3–4 месяцев пять раз находился в обморочном состоянии». Так прервалась его командирская карьера. Вместо мостика — кабинет начальника заочного отделения Черноморского ВММУ им. Нахимова. Он не сдавался и всё ещё надеялся вернуться на действующий флот. В 1976 году прошёл стажировку в должности командира атомной подводной лодки на Северном флоте. Но врачи были неумолимы: к службе в подплаве — негоден. Другой бы сломался, спился… Юрий Степанов торил новую стезю: командир учебного батальона, преподаватель, а затем зам начальника кафедры тактики ВМФ… За успехи в обучении курсантов награждён орденом Трудового Красного Знамени. Ушёл в запас в 1989 году. Работал библиотекарем. Сын Вячеслав, дочь Татьяна. Дата смерти в личном деле не отмечена. Где-то в 1990-е годы. Но это уже другая эпоха и другая страна, где личные дела на советских офицеров уже не вели. Похоронен на 6-м километре от Севастополя.
Не было вины Степанова в том, что на К-3 полыхнул жуткий пожар. Последний аргумент в том давнем споре — признание бывшего флагманского механика Гремихинской дивизии атомных подводных лодок капитана 1-го ранга Ивана Морозова. Он вступился за честь командира и экипажа, прочитав очередную инсинуацию о трагедии «Ленинского комсомола».
Морозову как заместителю начальника электромеханической службы дивизии предстояло первому определить причины пожара. Для этого надо было провести разведку аварийных отсеков. Их ещё не вскрывали. Чтобы попасть в это царство мёртвых, надо было открутить полусотню болтов и поднять съёмный лист над люком для погрузки аккумуляторов во второй отсек.
— После 4-часового принудительного вентилирования съёмный лист был снят, — рассказывает Иван Фёдорович Морозов. — Двое добровольцев из трюмных машинистов вызвались обследовать носовые отсеки. Один из матросов должен был спуститься на палубу жилого отсека, встать под люком с фонариком и страховать второго разведчика, который пойдёт в нос. И вот тут-то случилось непредвиденное: первый же спустившийся трюмный машинист пулей выскочил наверх. В глазах матроса стоял ужас: «Товарищ капитан 2-го ранга, я не могу… Там такое…» Его колотило от стресса. Я отпустил обоих добровольцев в казарму и положил руку на плечо своему коллеге — помощнику начальника ЭМС по живучести инженеру-капитану 3-го ранга Павлу Дорожинскому:
— Похоже, Паша, придётся тебе… Найди там Серёгу, посмотри, где он лежит.
Серёга — Сергей Фёдорович Горшков, старпом К-3, был нашим общим другом. Мы должны были отдать ему свой последний долг. Дорожинский молча взял аварийный фонарик и полез во второй отсек.
У него ещё хватило душевных сил пройти в корму и после этого выбраться наверх. Лица на нём не было.
— Иван Фёдорович, — почти прошептал он, — я был в аду! Большая часть погибших лежит в кормовой части второго отсека. Они спеклись в одну массу, распознать их невозможно…
Далее началась жуткая работа по вытаскиванию обгорелых трупов. Потом выгрузили нетронутые огнём торпеды. Детально осмотрели место происшествия. Что же случилось?
В одном из узлов системы гидравлики произошёл прорыв рабочего тела — масла. Сильная струя ударила в горевшую лампочку электросветильника. Защитного плафона на нём не было — разбили в шторм. Пары распылённого масла вспыхнули в мгновение ока. Работала система вентиляции торпед. Сила пламени была такой, что корпус вентиля кислородного баллончика разрезало пополам, как газовым резаком. Произошло то, что называется роковым стечением обстоятельств. Цепная реакция беды, которая, как известно, одна не приходит. Прорыв масла — электролампочка — вспышка — пожар в замкнутом пространстве… Первопричина — прорыв гидравлики. Но почему? Ведь для атомного флота всё делалось архинадёжно.
Инженер-капитан 1-го ранга И. Морозов:
— Я присутствовал при демонтаже в первом отсеке. Снимали злополучную гидравлическую машинку (она открывала и закрывала клапан вентиляции балластной цистерны № 2 правого борта). И тут обнаружилось, что в штуцере гидравлической машинки вместо штатной уплотнительной прокладки из красной меди стоит шайбочка, грубо вырезанная ножницами или ножом из паранита. Со временем уплотняющее поле раскисло и прорвалось при очередном скачке давления. А давление в системе нешуточное — перепады от 5 до 100 кг/см. Чья-то рука поменяла прокладки во время докового ремонта корабля.
Доковый ремонт проводят заводские рабочие. Один из ветеранов-судоремонтников Александр Иванович Исполатов, работавший в 1960-е годы на Севере, рассказывал, что красная медь — хоть и не драгоценный металл, но весьма ценилась среди умельцев. Из неё вытачивали всевозможные поделки. Из той же прокладки, снятой из гидравлической машинки с К-3, кто-то сделал колечко для своей подружки. Быть может, оно и сейчас валяется в чьей-нибудь семейной шкатулке среди старых пуговиц, значков и прочей дребедени. Потускневшее медное колечко ценой в тридцать девять жизней…
Москва, как известно, сгорела от копеечной свечи. «Ленинский комсомол», как сегодня выяснилось, от грошового пустяка — паранитовой прокладки.
— А сегодня ещё хуже, — признавался автору этих строк командир атомной подводной лодки «Гепард». — Я боюсь пускать рабочих в отсеки. За каждым ремонтником ставлю матроса, чтобы тот следил — как бы чего не выкрутили, не сняли, не унесли. Ведь у нас в приборах не только медь, но и серебро, золото, платина. А работяги по полгода зарплату не получают. Их понять можно. Но ведь нам же в моря уходить, нам за их зарплату своими жизнями расплачиваться…
Та трагедия не стала достоянием нашей общей памяти ни в 1967 году, не попала она в фокус общественного внимания ни в «эпоху гласности», не знают о ней толком и сегодня. Морякам, сгоревшим на К-3, поставили скромный безымянный памятник вдали от людных мест. «Подводникам, погибшим в океане 08.09.67 г.». И маленький якорь у подножия плиты. Только 30 лет спустя, в Морском соборе Санкт-Петербурга появилась мраморная доска с некогда «засекреченными» именами. Сегодня есть шанс вернуть долг памяти. Подводная лодка К-3, стоящая ныне в ожидании резки, может стать уникальным памятником не только жертвам атомного флота. Она трижды памятник: памятник истории, памятник географии (первое всплытие на Северном полюсе) и памятник воинскому мужеству. А пока лодка доживает свой век у причала судоремонтного завода в Полярном.
Историческая ценность этого корабля не меньше, чем первого в мире человекоуправляемого космического аппарата «Восток» или крейсера «Аврора». Именно К-3, «русская тройка», открыла эру атомного подводного мореходства.
Исполнение приказа Главкома ВМФ о музеефикации К-3, подписанного в начале 1990-х годов, затянулось на долгие годы. Оно и понятно — деньги нужны, и немалые. После гибели «Курска» идея увековечить память подводников атомного флота ожила с новой силой. Документы об установке К-3 в Питере отправлены на самый верх. Говорят, на Неве уже подыскали место для вечной стоянки. Однако не так уж важно, где именно встанет «Аврора атомного флота». Главное, чтобы не отправили её на «иголки», которыми никак не залатаешь бреши в нашей истории.
Фиорд извилист и размашист, будто росчерк Бога по сотворению Земли. Величественная глухомань — столица атомного флота: Западная Лица. Но небо сегодня здесь ниже, чем где бы то ни было. Гранит — чернее. Снег — мертвее…
Я стою на девятом причале — том самом, от которого уходила в свой последний поход печально известная ныне подводная лодка. Он всё ещё пуст. Китолобые, острохвостые атомарины не спешат занимать его, как не спешат люди занимать опустевшие вдруг береговые кубрики поредевшего экипажа.
— Господи, как я не хотела, чтобы он уходил в этот поход!..
Ей было двадцать четыре — до сообщения о гибели лодки. Сколько же ей сейчас? После всего пережитого?
— Обычно я всегда его провожала. А тут не получилось: у Саши умерла мама. И он попросил меня уехать с детьми в Ленинград, побыть рядом с отцом.
Переживали они эту смерть оба мучительно. Ольга Сергеевна умирала в одиночестве, в реанимационной палате, перед самым Новым годом. Фронтовичка из медсанбата, она держалась мужественно и, чтобы не омрачать своим близким праздник, никого не позвала проститься. Саша был вне себя от горя. Командир корабля капитан 1-го ранга Ванин умудрился выхлопотать ему перед самой «автономкой» десять суток отпуска. Он приехал в Ленинград и очень боялся за отца, который после похорон едва переставлял ноги.
«Ну вот, — признавался он мне, — была мама, чувствовал себя ребёнком. А сейчас такая пустота, что жить не хочется. Когда на мостике один стою, цепью себя привязываю… За борт так и тянет…» — «А мы как же без тебя?!» — «Вот только вы и спасаете». — «Если ты не вернёшься, нам тоже не жить…»
Вот в таком состоянии он и уходил. Да, ещё написал мне письмо, подробное, распорядительное, как завещание, на двух страницах, и всё по пунктам: «Детей береги, лечи на „фазенде“ нашей (дом-развалюха), сетку на забор достать, маме камень поставить…»
Ушли они. А нам, жёнам, выдали набор «дефицитов»: тушёнка, сгущёнка, чай, кофе… Мыла, правда, не было.
Ох, им многим не надо бы было уходить. У Смирнова, штурмана, пошаливало сердце. Он на берег собирался списываться. Ткач, боцман, переслуживал свой срок, жена просила — «не ходил бы», вопрос с жилищным кооперативом решался…
Каждый день я ждала беды. Каждый день гадала над любым пустяком к счастью или к несчастью? Все приметы перебрала, какие есть. Ну прямо как старуха-ведунья стала.
11 марта Юленька, дочка, приносит большой казённый конверт со штемпелем войсковой части. Увидела — помертвела. Пока она ножничками «чик-чик», у меня сердце остановилось. Выпала открытка. Читаю — поздравление с Восьмым марта от командира корабля. У них традиция такая была: оставлять на базе письма ко всяким праздникам. И слова такие душевные: «Спасибо вам, наши боевые подруги, за мужество ожидания…» А я села за стол и заплакала. Вот вам и всё мужество…
Свёкор утешает: «Что ж ты плачешь, глупая? Всё хорошо». — «Дед, я же не знаю, как получают похоронки!»
Тогда, в субботу, я шила на машинке новые шторы. Работало сразу всё — и телевизор, и радиоточка. Саша всегда сердился на меня за это. Но сообщение о гибели лодки не услышала. Наверное, машинка шумела. Тут позвонила сестра свекрови. Дед снял трубку. Чувствую, в голосе изменился, всё «да», «нет»…
«Дед, что случилось?» — «Нина звонила. Что-то после ремонта звонок не работает».
Вижу, запереживал: ходит, вздыхает, курит, кашляет… Наконец признался: «Нина сказала, какая-то лодка на Севере утонула». — «Но ведь их же много плавает! Почему именно наша?»
Я тут же позвонила тёте Нине: «Что вы слышали?» Но она слышала только обрывок сообщения. Только положила трубку — звонок. Жена замполита первого экипажа: «Верочка, слышала сообщение? Василий Иванович обзвонил всех, мы думаем, что это ваша лодка». — «Но почему, почему наша?» — «По всем прикидкам так выходит — и торпедная, и атомная…» — «Все погибли?» — «Нет, есть живые». — «Что мне делать?» — «Мы считаем, тебе надо лететь».
Включила программу «Время». Приготовила бумагу, карандаш, чтобы всё записать. И валерьянку. Но ничего толком не сообщили. Соболезнование родственникам. А каким? Вся страна, наверное, всполошилась, сколько матерей, жён за сердце схватились. Сколько подводников в походе! Ведь им не сообщить оттуда: «Мама, я жив, это не со мной». Хоть бы фамилию командира сразу сказали, и то стало бы ясно.
Звоню в наш городок. Заказ берут только на понедельник. Линия занята: «Не одной вам нужно». Бегу на телеграф, шлю срочную подруге: «Узнай, чья лодка! Позвони немедленно».
Утром жёны побежали в ДОФ — Дом офицеров флота, где заседала правительственная комиссия. Но там ей ничего толком не сказали — кто жив, а кто мёртв. Позвонила мне на другой день воспитательница из нашего детского садика: «Верочка, ничего толком не ясно. Приезжай».
Всю субботу и до воскресного полудня я проплакала. Дед еле держится, но утешает: «Будем верить. Не должно».
Надо лететь. Собираюсь сама, собираю Славика и плачу, плачу, плачу. Оделись мы, у самого уже порога — междугородка. Дед снял трубку, мне передаёт: «Это Североморск». А у меня ноги подкосились. В трубке незнакомый мужской голос «С кем разговариваю?» Я ни слова в ответ не могла выдавить. «Это жена капитана-лейтенанта такого-то?» — «Да». — «С вами говорит капитан 3-го ранга такой-то…» Каждое слово как вечность. Чувствую, упаду, не дослушаю. Уж лучше бы сразу убил. «Ваш муж… — и дальше — имя, отчество, фамилия — жив».
— Вы правду говорите? Вы меня не обманываете?!
— Ну что вы! Он страшно беспокоится о вас и просил сообщить в Ленинград.
— Как он?
— Всё нормально. Приезжайте. Вас всюду пропустят.
Юлька моя, первоклашка, в крик: «Мамочка, только возьми меня к папке, я буду слушаться!». В юбку вцепилась, не оторвать. Схватила обоих — и в аэропорт…
В Пулково встретила Любу, жену Смирнова, штурмана. Подошла к ней, смотрим друг дружке в глаза. Боимся спросить. Она первая решилась: «Что с Сашей?» — «В госпитале». — «Мне сказали, что мой тоже там, но в тяжёлом состоянии». — «Не переживай! Главное, что жив, а там выходят». Откуда я могла знать, что Миша Смирнов погиб вместе с лодкой? Потом рассказывали, что он до последних секунд помогал вытаскивать плотик, а когда лодка пошла вниз, ухватился за носовой руль глубины, улыбнулся на прощанье и ушёл в пучину. Высокий, крепкий, светловолосый и очень добрый к людям.
Люба летела со свекровью и двумя сынишками, Толиком и Витюхой (одному — пять, другому — четыре). В аэропорту она была с восьми утра и смогла достать билет только на наш рейс. Летели вместе.
В Мурманске лейтенант со списком в руке выкрикивал: «Кто едет в Западную Лицу?» — «Мы». — «Вы по телеграмме?» — «Да». Что за телеграмма, я не знала. Нас посадили в спецавтобус и повезли в военный городок Оставила детей у друзей и побежала в ДОФ узнавать, как можно попасть к Саше. «Вас к нему сейчас не пустят. Он в особом состоянии. Когда разрешат врачи, отсюда пойдёт специальный автобус. Так что запишитесь на поездку…»
Тут увидела Любу. Ей уже сказали, что Миша погиб. Она держалась хорошо: шла прямая, строгая… Я не выдержала, ткнулась ей носом в плечо, зарыдала. Она меня обняла и тихо так говорит. «Вы счастливые. Не надо, Верочка, не надо». Она ещё меня утешала. Только один раз простонала: «Ну почему?!» И всё повторяла: «Ну как же так? Ну как же так?..»
Перед походом мы собирались прийти на пирс и вместе встретить ребят. Хотели лодку посмотреть. Ведь ни разу не видели, какая она. Так и не получилось.
Потом, когда в ДОФе поставили гробы и портреты, я купила сорок две гвоздики и каждому поклонилась…
Подводники никогда не бравировали опасностью своей службы. Это считалось само собой разумеющимся. Средства же массовой информации предпочитали рассказывать широкой публике о том, как уютно чувствуют себя покорители глубин в зонах отдыха — с канарейками, искусственной травой и бассейнами.
Кто-то из писателей, впервые спустившихся в подводную лодку, заметил: «Логично носить часы в кармане, но жить в часовом механизме противоестественно». Для приближения к истине надо было бы добавить — в часовом механизме бомбы замедленного действия. Современная атомарина — это узилище чудовищных энергий — электрических, ядерных, тепловых, химических, заключённых в тесную броню прочного корпуса. Никому не придёт в голову размещать пороховой погреб в бензоскладе. Но именно так, с такой степенью пожаровзрывоопасности, устроены подводные лодки, где кислород в убийственном соседстве с маслом, электрощиты — с солёной водой, регенерация — с соляром. И это не от недомыслия, а от жестокой военной необходимости плавать под водой быстро, скрытно, грозно. В этом жизнеопасном пространстве, выгороженном в жизнеопасной среде, подводники вынуждены жить так, как живут солдаты на передовой, — смерть в любую секунду. Даже если лодка стоит у причала, она всё равно «зона повышенной опасности».
Повторю свою давнюю мысль: подводник не ходит в штыковую атаку и никогда не видит противника в лицо. Но он в любую секунду готов схватиться врукопашную с взбесившейся от боевой раны машиной, с беспощадным в слепой ярости робота агрегатом — мечущим электромолнии, бьющим струями кипящего масла, крутого пара, огня… Этот враг не берёт в плен. Он не знает ни выгоды, ни милосердия. Его не остановит победа. У него нет инстинкта самосохранения. Он бездушен, безумен и готов погибнуть вместе со своей жертвой…
Здесь, на пирсе, я попросил командира стоящей рядом атомной подводной лодки показать кормовой отсек, устроенный примерно так же, как на погибшем корабле… Молодцеватый кавторанг Геннадий Барышков, товарищ взятого морем Евгения Ванина, любезно предложил спуститься в глубокий стальной колодец входного трапа. Путь вниз пролегал сквозь объёмистую капсулу всплывающей спасательной камеры (ВСК). Я пробирался вслед за командиром в зарослях стальных корневищ, ныряя в норы межотсечных людопроводов, шлюзовых тамбуров, люков. В этом стальном чреве человек, протискивающийся, пригибающийся, извивающийся, выглядит как некий червячок, забравшийся внутрь исполинского машинного организма, который живёт своей собственной, никому не подвластной жизнью. Строго по часам необитаемые кормовые отсеки посещают своего рода дозорные, «бродячая вахта» — на языке лодочных остряков.
Любой пожарный инспектор, из тех, кто жучит жильцов за загромождённые лестницы, сошёл бы здесь с ума при виде того, как загромождены огнеопасной техникой отсеки и в какой тесноте, в каком неудобстве должны тушить подводники свои объёмные пожары.
У них всё, как у людей: и врождённые пороки, и надрывы от перегрузок. На взгляд большинства моих сотоварищей-подводников, роковыми для погибшей атомарины оказались именно врождённые пороки. О самом главном из них — чуть позже.
Известно, что ахиллесова пята всех типов подводных лодок (и дизельных, и атомных) — распредщиты, которые «коротят» чаще всего прочего электрооборудования. С них-то и начинаются подводные и надводные пожары. Корабли горят на всех флотах мира. Увы, это неизбежная дань Молоху технического прогресса, жертвенная плата за огромную энергонасыщенность современных кораблей, за чудовищную ударную, огневую мощь. Горят авианосцы и пассажирские лайнеры, крейсера и танкеры, атомарины и дизельные подлодки… Горят каждый год, а то и каждый месяц, если брать мировую статистику.
Противоборство огня и средств тушения в точности копирует диалектику брони и снаряда. «Дурная бесконечность», как определил бы её Гегель, ибо война «льда и пламени» идёт с переменным успехом и никогда не завершится вечной победой. Современный корабль есть оружие обоюдоострое, опасное не только для врага, но в немалой степени и для того, кто им владеет. Моряки, однако, никогда не были фаталистами. По воле волн плыли лишь их трупы, но не они сами. Бороться со стихиями (в том числе и огненной) всегда было профессиональной обязанностью мореплавателя, его уделом, его судьбой. Сегодня есть корабли, на которых арсенал средств борьбы с огнём не уступает по разнообразию и количеству боевому вооружению. Это спринклеры и огнетушители всевозможных зарядов, системы затопления и орошения, химическое и пенное тушение. Увы, порой и вся пожарная рать не в силах справиться с буйством огня. И всё же каждый командир, получив доклад о пожаре, исходит из того, что шансы на успех есть всегда, игра стоит свеч, и очаг возгорания может быть задушен в самом начале, на худой конец локализован. К пожарам, к возможности таких несчастий моряки, если не сказать, что привыкли, то, во всяком случае, психологически готовы. Отчасти поэтому большая часть корабельных пожаров тушится без жертв. Другое дело, что развитие любого пожара непредсказуемо. Дорогу пламени прокладывает не только горючий материал, но и игра случая, стечение обстоятельств: пожар пожару рознь, ни один не повторяет коварство другого. Пожар же на «Комсомольце» и вовсе небывалый. Он уникален, поскольку уникальна и сама атомарина: титановый корпус, большая глубоководность плавания… Давление воздуха, вырвавшегося из повреждённой системы продувания балластных цистерн, было намного выше, чем на всех остальных менее глубоководных лодках. Да и само повреждение трубопровода ВВД (воздух высокого давления) вольтовой дугой короткого замыкания (есть такая версия) — редчайшее обстоятельство, которое немедленно наложилось на «врождённый порок» корабля: масляная система при остановке гребного вала не герметизировалась по отсекам. Поэтому буря, вырвавшаяся из баллонов воздуха сверхвысокого давления, тут же «выстрелила» горящее масло в смежный — шестой — отсек, где мичман Колотилин принял огнемётную струю за выброс гидравлики. Впрочем, ошибка эта не имела для него уже никакого значения…
Можно ли было избежать этого «врождённого порока»?
Недавний командир стратегического ракетного подводного атомохода капитан 1-го ранга Э. Рыбаков рассказывал, как после первых выходов нового корабля в море он и его коллеги составили объёмистый список замечаний по обнаруженным недостаткам различных систем с предложениями по улучшению их на строящихся лодках этой серии. Список передали в ведущее КБ. И что же? Ничего не изменилось. Ответ по своему смыслу сводился к удручающей сентенции: «Берите то, что есть». Диктат судостроительной монополии здесь столь же вредоносен, как и диктат всех остальных безальтернативных фирм.
Из всех человеческих страхов самый острый — страх удушья. Без еды человек может жить неделями, без воды — сутками, без тепла — часами, без глотка воздуха не проживёт и пяти минут.
Отсек подводной лодки помимо всего прочего — это резервуар для дыхания, где один дышит тем, что выдыхает другой, где общие вдохи и выдохи мешаются, как струйки пота на плечах, налёгших на аварийный брус. Воздух здесь один на всех, как вино в братине. Отмерен он скупо, и в любую секунду — полыхни пламя — в горло хлынет раздирающий лёгкие ядовитый дым. Неспроста каждый из экипажа, от командира до кока, не расстаётся в отсеках с пластиковым футляром на боку, куда упрятаны дыхательная маска и регенеративный патрон. Запаса кислорода в ПДУ — так называется персональное дыхательное устройство — хватает лишь на первые минуты пожара, чтобы успеть включить систему тушения, добежать, найти и надеть индивидуальный дыхательный аппарат. И так все долгие месяцы плавания: оранжевый футляр ПДУ всегда под рукой, как фляжка с водой у солдата на поясе…
В странах с мало-мальски развитым подводным флотом к морякам глубин всегда относились с особым уважением. И даже вставали в присутственных местах при виде человека в форме подводника. И только в нашей стране, мир для которой зиждется на чёрных спинах атомарин, к жертвенному и весьма немногочисленному племени подводников привыкли настолько, что уже не о почестях речь, а о самом необходимом — крыше над головой…
Первым заметил беду, как ему и положено, вахтенный механик. В то утро им был командир дивизиона живучести капитан 3-го ранга Вячеслав Юдин. В 11.00 по распорядку дня был объявлен подъём для первой боевой смены, третья готовилась к обеду. Только что вахтенный офицер капитан-лейтенант Верезгов принял доклады из отсеков. Гортанный кавказский голос доложил из кормы:
— Седьмой осмотрен. Сопротивление изоляции и газовый состав воздуха в норме. Замечаний нет.
Это были последние слова старшего матроса Нодари Бухникашвили. По всей вероятности, он погиб сразу же, как только вспыхнул объёмный пожар. Даже не успел дотянуться до рычажка «лиственницы» — микрофона межотсечной связи. В необитаемом седьмом отсеке он был один. Он один лишь видел, что полыхнуло и как… Нодари Отариевич Бухникашвили, командир отделения машинистов трюмных, специалист 1-го класса… Черноусый худощавый парень родом из Гагры. Он не был пляжным мальчиком, каких немало в курортном городе. Металлист, но не из «хэви метал». Руки его, привыкшие к тяжёлому металлу слесарных инструментов, умели нежно держать гитару. Она осталась в каюте второго отсека вместе с «дембельным альбомом», для обложки которого Нодари вытачивал из плекса белого медведя на льдине и цифры «1986–1989» — годы службы на флоте.
11.03. На пульте вахтенного механика выпал сигнал: «Температура в 7-м отсеке больше 70°». Юдин немедленно доложил командиру.
— Аварийная тревога!
Торопливый клёкот ревуна взметнул всех, кто ещё просыпался. Звонки и ревуны на боевой службе подаются лишь в крайних случаях. Учебные тревоги, чтобы не нарушать звукомаскировку всегда скрытного плавания, объявляются лишь голосом.
Заместитель командира дивизии атомных подводных лодок капитан 1-го ранга Борис Коляда был старшим начальником на борту подлодки:
— Я выскочил из койки, натянул брюки и бросился в центральный пост. Куртку и ПДУ{1} надевал на бегу.
На ГКП (Главном командном пункте) уже были командир лодки капитан 1-го ранга Ванин, и инженер-механик капитан 2-го ранга Бабенко. Бабенко лихорадочно запрашивал аварийный отсек: «Седьмой, седьмой!..» Седьмой не отвечал. Я спросил:
— Люди там есть?
— Старший матрос Бухникашвили. На связь не выходит.
— Командир, давай ЛОХ{2} в седьмой!
Ванин помедлил несколько секунд, надеясь, что Бухникашвили ещё откликнется. Он не хотел верить, что Нодари уже нет. Командир с лейтенантских времён знал: дать фреон в отсек, где находятся люди, всё равно что пустить газ в душегубку — верная смерть. Но Бухникашвили не отвечал. Медлить было нельзя.
— Дать ЛОХ в седьмой! — приказал Ванин и прикусил губу. С этой секунды можно было считать, что матроса нет в живых. Мы надеялись, что это будет единственная жертва…
На сигнальном пульте загорелся мнемознак: «Дал ЛОХ в 7-й отсек». Это мичман Колотилин, техник группы дистанционного управления, включил из смежного шестого отсека станцию пожаротушения.
Обычно фреон — летучая жидкость — тушит любой огонь, накрывая очаг горения плотной газовой шапкой. Этот добрый джинн не раз выручал подводников — и дизелистов, и атомоходчиков. И всё бы тем и обошлось, если бы пожар не разгерметизировал трубопровод системы воздуха высокого давления. Отсек сразу же превратился в подобие мартеновской печи. Мощное давление заглушило впрыск фреона, раздуло пламя сжатым воздухом.
В корме бушевал тысячеградусный, многажды спрессованный и оттого ещё более яростный огонь, а на табло в центральном посту светился знак: «Температура больше 70 градусов». Других приборов, показавших бы, как высоко скакнули в отсеке температура и давление, на пульте не было. Но вскоре и без них стало ясно, что пожар необычный… Из шестого отсека мичман Колотилин сообщил тревожную весть:
— Наблюдаю протечки дыма…
Через несколько секунд и в шестом хлестнула огненная струя.
— Центральный! — рвался из динамика голос Колотилина. — Выброс гидравлики из-под правого турбогенератора. Бьёт, как из огнемёта… Трудно дышать… Прошу разрешения включиться в ИП!
— Добро!
Даже если он и успел натянуть ИП — изолирующий противогаз, то незамысловатый аппарат мог спасти его лишь от дыма, но не от огня. Шестой наддулся и тоже превратился в полыхающую топку. Немедленно остановили правый турбогенератор. Левый остановился сам. Тут же сработала автоматическая защита реактора. Замер гребной вал. Подлодка лишилась хода. Потерять ход на большой глубине — смертельный номер: под корпусом субмарины исчезает подъёмная гидродинамическая сила, несколько секунд инерции — и провал в бездну. В эти критические мгновения рок, и без того слепой, просто взбесился. Из пятого успели прокричать:
— Пожар!..
Из четвёртого доложили:
— Искрит станция циркуляционного насоса первого контура…
Межотсечная связь вдруг предательски прервалась. Отключился и телефон… Приборы на пультах «сыпались» один за другим. Заклинил вертикальный руль… То был бунт машин. На языке техники — лавинообразное нарастание аварийной ситуации. А под килем — километровая глубина. А над рубочным люком полуторастаметровая толща. А в отсеках — пожары. И нет хода. И нет связи… Что толку кричать в микрофон: «Пятый, дайте ЛОХ в шестой», когда впору давать фреон в пятый из четвёртого. Но там люди.
В эти секунды решалась судьба всех шестидесяти семи ещё живых на борту людей. Её решали в центральном посту пять человек: капитаны 1-го ранга Коляда и Ванин, инженер-механики Бабенко и Юдин, ещё боцман старший мичман Ткач, чьи руки сжимали «пилотский» штурвал. Из этой пятёрки, совершившей невидимый миру инженерный подвиг, заставившей всплыть агонизирующую атомарину, в живых потом остался только один — Коляда. Только он один видел и знает, как сноровисто и безошибочно действовал весь расчёт ГКП, как молниеносно переключили механики тумблеры и клавиши, обесточивая одни системы, запуская резервные. Понимали друг друга без слов — с полувзгляда. Пальцы их прыгали, как в дьявольских пассажах Паганини, ловя обрывки секунд…
Ещё не зная, проваливается лодка или всплывает, «хозяин реактора» капитан-лейтенант Игорь Орлов стал останавливать «грозное сердце» атомохода. Он опустил компенсирующие решётки на нижний концевик и погасил жар «ядерного котла». По счастью, насосы, подававшие «холод» в активную зону, работали исправно. Чернобыль не повторился.
С глубины 157 метров, на которой подводный корабль потерял ход, лодка всё же стала всплывать. Мичман Каданцев, старшина команды трюмных, сумел продуть цистерны главного балласта воздухом высокого давления.
Заметив, что замигало табло «Уход с глубины», вахтенный офицер Верезгов бросился в рубку акустиков. Надо было узнать обстановку на поверхности, чтобы не угодить под киль какого-нибудь судна. Тем более что атомарина всплывала неуправляемо — по спирали, из-за заклинившего руля.
Жёлтый «головастик» шумопеленгатора чертил по экрану круг, ломая его в одном и том же месте — в стороне, где шумели сейнеры. Рыбаки — враги рыб и подводных лодок. До них было далеко — кабельтовых четыреста.
В 11.14 подводную лодку качнуло, и мичман Каданцев, стоявший наготове у верхнего рубочного люка, услышал плеск воды, стекающей с рубки. Всплыли!
Командир уже успел осмотреть горизонт в перископ — серенькое утро, зыбь, ни единой точки в морском безбрежье.
— Отдраить верхний рубочный люк!
Каданцев провернул зубчатку кремальерного запора и откинул толстенный литой кругляк. Выход в мир солнца и ветра, в океан свежайшего воздуха был открыт. Но выйти наверх позволительно было пока лишь одному человеку — вахтенному офицеру.
Капитан-лейтенант Верезгов:
— Всплыли без хода с отваленными носовыми рулями глубины. Свежий ветерок прохватывал насквозь куртку РБ (лёгкая хлопчатобумажная одежда, которую атомоходчики носят в отсеках). Посмотрел на корму и ахнул. Толстое резиновое покрытие вспучилось и сползало с корпуса, словно чулок. В корме всё ещё бушевал пожар.
Скупые строчки вахтенного журнала:
«11.21. Пожар в IV отсеке. Горит пусковая станция насоса (искрит и дымит). Насос обесточен.
11.27. Принесён огнетушитель в центральный пост. На пульте управления движением лодки появился очаг открытого огня. Загазованность и ухудшение видимости в центральном посту».
Первый заметил дым из «корунда» капитан 1-го ранга Талант Буркулаков.
— Вон дымит! — крикнул он, указав пальцем на источник дыма. Стали выдёргивать электронные блоки. Из одного гнезда полыхнуло пламя. Очаг завалили огнегасящей пеной. Пульт обесточили, но раздирающий лёгкий дым заволок центральный пост — мозговой центр корабля.
— Лишним — наверх! — распорядился командир.
Все, кто не был занят борьбой за живучесть — гидроакустики, штурманы, вычислители, метристы, — полезли на мостик. Остальные — пультовики — надели маски ШДА — шланговой дыхательной автоматики, которая питалась от общесудовой магистрали сжатого воздуха. Гибкие шланги позволяли передвигаться в радиусе шагов десяти, они исправно подавали воздух, но… Угарный газ, как известно, коварен тем, что не ощутим ни на цвет, ни на запах. Никому и в голову не могло прийти, что из спасительных масок они дышат отравленным воздухом. Лишь лодочный врач старший лейтенант медслужбы Заяц почуял неладное, ощутив во рту едва различимый сладковатый привкус. Он сорвал маску и велел химику мичману Черникову замерить состав воздуха.
— Концентрация CO, — доложил ошеломлённый химик, — в смертельной дозе!
Высокое давление в горящем седьмом гнало окись углерода в систему ШДА, проходившую и через аварийные отсеки. Больше всех надышались ядовитым газом старший кок Сергей Головченко, радиометрист Сергей Краснов и торпедист Алексей Грундуль. Их немедленно вынесли на мостик, и доктор принялся за работу.
Из вахтенного журнала:
«11.34. Увеличивается крен на левый борт. Продут главный балласт.
11.41. Увеличивается крен.
11.43. Крен выравнивается.
11.45. Передано три сигнала аварии. Квитанций (подтверждений о приёме радио. — Н.Ч.) нет. Не работает охлаждение дизеля».
Остановили дизель-генератор, последнее «сердце» атомарины. Быстро переключились на питание от аккумуляторной батареи. Однако резкий скачок напряжения вывел из строя многие приборы. На табло управления ГЭУ — главной энергетической установкой (атомным реактором) — вспыхнули сразу все мнемознаки. Пульт испортился. Но и без его показаний было ясно: температура активной зоны падала, расхолаживание шло в автоматическом режиме.
«11.58. „Всем, у кого есть связь, выйти на связь с ЦП!“ (команда, переданная командиром из центрального поста. — Н.Ч.). С четвёртым отсеком связи нет. Там примерно 9 человек».
Теперь самым неотложным делом стало спасать этих девятерых. Что с ними? Живы ли? Что там творится в этих задымлённых и, может, ещё горящих отсеках?
В разведку ходят не только за линию фронта… Идти разведчиками в аварийный отсек вызвались командир дивизиона живучести капитан 3-го ранга Вячеслав Юдин (впоследствии погиб), и инженер-вычислитель лейтенант Анатолий Третьяков (жив). Натянув на лица маски изолирующих противогазов, они влезли в дымное жерло межотсечного люка. Лучи аккумуляторных фонарей вязли в густом, клубящемся дыму. Шли почти что наощупь. Шли, как по минному полю. В любую секунду из любого угла может хлестнуть крутым паром, огненной струёй, электрическим разрядом… В герметичной выгородке над реактором они нашли двух живых людей в масках ПДУ. Срок действия регенеративных патронов уже истекал, и разведчики подоспели вовремя. За руки они вывели реакторщиков из тёмных дебрей отсека. Это были инженер главной двигательной установки лейтенант Андрей Махота (остался жив), и техник мичман Михаил Валявин (утонул, тело не найдено).
Провентилировали четвёртый отсек и стали готовить к вскрытию пятый. Первым влез туда Юдин, за ним — добровольцы из аварийной партии. Здесь были дела похуже. Два часа назад по палубе отсека на высоте метра вдруг полыхнуло пламя. Загорелась одежда. Моряки тушили друг друга, прислонялись к переборкам, сбивали огонь с рукавов, штанин, плеч… Когда их вывели, кожа свисала с обгоревших рук лохмотьями. У капитана-лейтенанта Волкова, командира электротехнической группы, расплавилась на лице резиновая маска. Он спасся тем, что лёг на палубу, зажал нос и дышал через оголившийся загубник. (Увы, через несколько часов он погибнет в море.) Сильные ожоги получили инженер ГДУ лейтенант Александр Шостак (умер в воде), рулевой-сигнальщик матрос Виталий Ткачёв (не найден в море), машинист трюмный матрос Юрий Козлов (жив), старшина команды мичман Сергей Замогильный (умер в воде). Их немедленно отправили наверх, на мостик, где доктор Леонид Заяц вместе с начальником политотдела Буркулаковым развернули подобие лазарета.
Но в пятом оставались ещё двое: техник-турбинист мичман Сергей Бондарь, и его подчинённый матрос Владимир Кулапин. Они включились в шланговую дыхательную систему и, надышавшись угарного газа, потеряли сознание. Вытащить их оттуда взялись командир турбинной группы капитан-лейтенант Сергей Дворов (жив) и мичман Михаил Валявин, сам только что спасённый из приборной выгородки четвёртого отсека. Два безжизненных тела они с большим трудом вынесли из машинного лабиринта и на специальных лямках осторожно подняли наверх через 10-метровую башню всплывающей спасательной камеры.
Рассказывает лодочный врач старший лейтенант медслужбы Заяц:
— Мы сразу же принялись спасать этих двоих как самых тяжёлых. Кулапин не дышал, пульс отсутствовал, зрачки расширены. Те же признаки клинической смерти были и у Бондаря. Я делал непрямой массаж сердца, а Верезгов вдувал воздух в лёгкие матроса через рот. Буркулаков набирал в шприц адреналин. Я взял длинную иглу и сделал укол в сердце. Увы, оно так и не забилось. Вскоре по коже пошли синюшные пятна, и я констатировал смерть обоих. Они слишком долго дышали окисью углерода. Я спустился в центральный и доложил командиру, что на борту два трупа. Ванин велел записать их в вахтенный журнал и приспустить флаг.
Это были первые две жертвы, которые мы видели воочию. В это не хотелось верить. Но меня ждали остальные пациенты. Я поднялся на мостик, захватив из амбулатории чемоданчик с обезболивающими наркотиками. Волков и Замогильный, у которых слезла кожа с обожжённых кистей и предплечий, испытывали чудовищную боль, но оба твердили, что обойдутся без уколов, просили меня экономить морфин, который неизвестно скольким ещё понадобится. Никогда не забуду их мужество!
Из вахтенного журнала:
«12.25. Получена окончательная квитанция на сигнал аварии.
12.41. Задымлённость в 4-м отсеке очень большая.
12.48. В 1-м отсеке обстановка нормальная.
13.00. Подсчитать всех людей.
13.27. Выведен из 5-го отсека Кулапин. Начался сеанс связи. Нет пульса у Кулапина.
13.39. Состояние главной энергетической установки; заглушен реактор всеми поглотителями. У Кулапина пульса нет.
13.40. Дворов потерял сознание в 3-м отсеке.
13.41. В 5-м отсеке людей нет, 5-й отсек осмотрен. Бондарь поднят наверх (без сознания).
13.46. Слюсаренко, Третьяков — страхующие, Юдин, Апанасевич — аварийная партия в 6-й отсек.
14.02. Кулапин и Бондарь — умерли. Заключение врача».
Тем временем аварийная партия — Юдин и старший матрос Игорь Апанасевич (не найден в море) — попыталась вскрыть предпоследний, шестой отсек. Но едва приоткрыли перепускной клапан, как из шестого ударила струя чёрного газа. Пожар там бушевал по-прежнему. Приставили термометр к горячей переборке. Синий столбик зашкалил за 100 градусов.
В вахтенном журнале не ставят восклицательных знаков, но, право, эти записи звучат ликующе:
«14.20. Дан ЛОХ в 6-й отсек из 5-го.
14.40. Визуально обнаружен самолёт.
14.41. Ил-38, классифицирован».
Вахтенный офицер капитан-лейтенант А. Верезгов:
— Связь мостика с центральным постом — только голосом через спасательную камеру. Снизу запрашивают: «Не видны ли самолёты?»
Осмотрелся по горизонту — с левого борта 160 градусов заходит самолёт. Подумал — не наш. Но когда пролетел над рубкой, увидел на фюзеляже звезду.
«15.18. Передано на самолёт: поступления воды нет. Пожар тушится герметизацией.
15.23. Температура переборки 6-го отсека (носовой) — больше 100 градусов».
«Что вам нужно?» — запрашивали с самолёта.
«Фреон», — просил командир.
«К вам идут рыбаки, — сообщали лётчики. — Ориентировочное время прибытия — 18.00».
Теперь, когда стало ясно, что помощь близка, у многих на душе полегчало. Отсеки герметизированы, шестой заполнен фреоном. Большая часть экипажа выведена наверх, чтобы отдышаться от дыма. Огромная чёрная туша всплывшей атомарины покачивалась невалко. Казалось, самое страшное позади. В эти минуты никому в голову не приходило не то что взывать о помощи к норвежцам, сама мысль, что они могут очутиться вдруг в ледяной воде, казалась дикой. Все знали, что прочный корпус их подводной лодки — самый прочный в мире, как уверяли конструкторы и судостроители. Все знали, что нигде и никогда «погорелые» подводные лодки не тонули за считанные часы. Сутки, а то и несколько держались они на плаву. Вот почему подводники вышли наверх без гидрокомбинезонов, которые остались в задымлённых отсеках. Они вышли, чтобы перейти на борт плавбазы, а не прыгать в смертельно ледяную воду. Винить их в непредусмотрительности — всё равно что упрекать в беспечности жителей высокоэтажек в рухнувших армянских городах.
То, что произошло дальше, по своей неожиданности и скоротечности весьма напоминает землетрясение. Корпус подводной лодки содрогнулся от внутренних ударов. Это рвались, как сейчас полагают, запаянные банки с «регенерацией» — кислородовыделяющими пластинами — веществом, горящим даже в воде. Скорее всего, именно их воспламенение привело к тому, что прочный корпус прогорел на стыке гермопереборки (впрочем, последнее слово тут за Государственной комиссией). Так или иначе, но в оба кормовых отсека прорвалась вода. Затопление было стремительным, корма стала быстро погружаться, а нос — выходить из воды. На всё про всё оставались считанные минуты. Командир ринулся, чтобы поторопить тех немногих, кто заканчивал свои дела в «штабном» отсеке. Последним, кто видел его живым, был техник электронавигационного комплекса мичман Виктор Слюсаренко…
— По приказу штурмана я уничтожал в рубке секретную аппаратуру. Когда крикнули: «Всем выходить наверх!», схватил два спасательных жилета и кинулся в центральный пост. Столкнулся с командиром. «Ты последний?» — спросил он. «Кажется, да». Но внизу, в трюме центрального поста, хлопотал у дизель-генератора командир электромеханического дивизиона капитан 3-го ранга Анатолий Испенков.
Я прерву рассказ…
Так же как командир покидает борт корабля последним, так и инженер-механик выходит последним из-под палубных недр. Чаще всего не выходит, а до последних секунд — как это было на «Новороссийске», на «Нахимове» — обеспечивает свет бегущим в многоярусных машинных лабиринтах. Так погиб и Анатолий Испенков, переведя жизнь свою в свет, безо всяких метафор. Так погиб и его коллега комдив живучести Вячеслав Юдин, положив жизнь за живучесть всплывающей спасательной камеры. Вместе с ними до конца исполнил свой командирский долг капитан 1-го ранга Евгений Ванин.
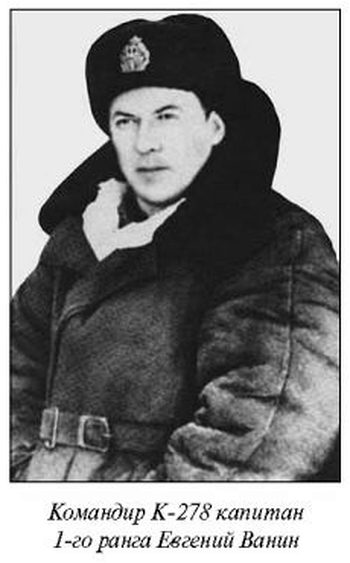
— В спасательной камере нас оказалось пятеро: Ванин, Юдин, мичманы Черников, Краснобаев и я, — рассказывает Слюсаренко. — Вместе с лодкой мы проваливались на глубину под грохот ломающихся переборок…
Этот украинский парень, наверное, и сам того не знает, что он единственный в мире подводник, кому удалось спастись с глубины в полтора километра.
История спасения людей с затонувших подводных лодок — это таинственная алгебра судьбы с коэффициентами роковых случайностей и счастливых шансов. Тут никаких формул, никаких законов. Бывало так: лодка тонула у причала — и никого не могли спасти. А то в открытом неспокойном море с предельной глубины подводники вырывались на поверхность с криками рождённого заново. Виктор Слюсаренко родился не в одной — по меньшей мере — в двух рубашках…
Войти вовнутрь этой уникальной атомарины можно было только через отделяемую от корпуса в случае нужды спасательную камеру. В её огромной капсуле мог разместиться весь экипаж, все 69 человек плотно усаживались в два яруса, механик отдавал стопора, и яйцеобразная титановая камера всплывала на поверхность с глубины в 1000 метров. Так было в теории. В жизни вышло так, что в момент быстрого затопления корабля почти весь экипаж находился наверху, то есть в ограждении боевой рубки, и потому все люди сразу же оказались на поверхности моря. Из отсеков подводной лодки не успели выбраться её командир капитан 1-го ранга Евгений Ванин, командир дивизиона живучести Юдин, командир электротехнического дивизиона Испенков, а также мичманы Черников, Краснобаев и Слюсаренко. Всех их неожиданное погружение субмарины застало в центральном посту корабля. Четверо из этой обречённой шестёрки уже находились в ВСК — во всплывающей спасательной камере. И только Испенков, нёсший вахту у дизель-генератора, и Слюсаренко были в самой лодке.
Слюсаренко:
— Лодка уже тонула. Едва я влез в горловину нижнего люка спасательной камеры, как из верхнего люка с десятиметровой высоты на меня обрушился столб воды. Он сбил меня вниз. Я с ужасом понял, что «Комсомолец» погружается с открытым люком. Это конец!
Внезапно поток воды прервался. Это мичман Копейка, прежде чем спрыгнуть с рубки в воду, успел захлопнуть входной люк. Ничего этого Слюсаренко не знал. Он только почувствовал, что водопад прервался и можно снова попытать счастья забраться в спасательную камеру. Лодка вздыбилась почти вертикально. Испенкова отшвырнуло вниз, на переборку отсека, ставшую теперь полом башни, в которую превратилась тонущая лодка. Слюсаренко же удалось вцепиться в горловину нижнего люка, и даже вползти в неё, благо стальной колодец теперь не нависал, а лёг почти горизонтально. Но как только мичман пролез в него по пояс, лодка отошла в нормальное положение, и Виктор, уже изрядно обессиленный, застрял на полпути, отжимая увесистую крышку.
— Страха не было, — рассказывал мичман. — Мне придало силы отчаяние. Я подумал, что там наверху ребята видят голубое небо, а я его уже никогда не увижу. И ещё как представил, что моя молодая красивая жена останется одна и к ней будут подбивать клинья другие, то сразу же рванулся вверх.
— Да вытяните же его! — услышал Слюсаренко голос командира.
Чьи-то руки подхватили его под мышки, втащили в камеру и тут же захлопнули нижний люк. Лодка стремительно провалилась в пучину. Слюсаренко окинул взглядом камеру. Сквозь дымку не рассеявшейся ещё гари недавнего пожара он с трудом различил лица Ванина и Краснобаева — оба сидели на верхнем ярусе у глубиномера. Внизу — командир дивизиона живучести Юдин и мичман Черников тащили изо всех сил линь, подвязанный к крышке люка, пытаясь подтянуть её как можно плотнее. В отличие от верхнего люка с накидной крышкой, нижняя откидывалась, и потому задраить её было куда труднее. Сквозь всё ещё не закрытую щель в камеру с силой шёл воздух, выгоняемый водой из отсеков, он надувал титановую капсулу, будто мощный компрессор. С каждой сотней метров давление росло, так что вскоре камеру заволокло холодным паром, а голоса у всех стали писклявыми. Всё-таки крышку втянули и стали обжимать кремальеру, чтобы как можно плотнее задраить люк, перекрыть наддув. Сделать это было совсем не просто. Шахта люка метра на полтора заполнилась водой, и Юдину приходилось погружаться с головой, нащупывая гнездо ключа. Вдруг снизу раздались стуки. Так стучать мог только человек. Это Испенков добрался-таки до входного люка и просился в камеру. Ванин крикнул сверху неузнаваемо сдавленным голосом:
— Откройте люк! Он ещё жив. Надо спасти!
Юдин снова окунулся, пытаясь попасть ключом в звёздочку кремальеры, но тут камеру сильно встряхнуло ещё раз. Ещё.
— Лопаются переборки, — мрачно заметил Юдин.
Стуки снизу затихли. Море ворвалось наконец в отсеки, круша всё, что заключало в себе хоть глоток воздуха. Лишь капсула спасательной камеры продолжала ещё свой стремительный спуск в бездну.
— Товарищ командир, какая здесь глубина? — крикнул вверх Слюсаренко.
— Тысяча пятьсот метров.
Их было пятеро, и они неслись вниз, в пучину, под грохот рвущихся переборок. В такие мгновенья перед глазами людей проносится всё, что дорого им было в жизни. Но у этих пятерых не оставалось времени на прощальные воспоминания. Им надо было успеть отдать стопор, чтобы титановое яйцо капсулы успело вырваться из тела титановой рыбины до той предельной черты, за которой тиски глубины расплющат её.
Мичман Черников читал вслух инструкцию по отделению камеры от корпуса. Она висела в рамочке, и мичман читал её, как чудотворную молитву: «…Отдать… Открыть… Отсоединить…» Но стопор не отдавался. Юдин и Слюсаренко в дугу согнули ключ. Скорее всего, сильное обжатие корпуса заклинило стопор.
Разумеется, спасательная камера должна была легко и быстро отделяться от субмарины при любых обстоятельствах. Однако на одном из учебных погружений стопор ВСК отдался сам по себе, и камера всплыла. После этого крепление усилили. И, видимо, перестарались… Гибнущая атомарина цепко держала последнее прибежище жизни на её борту. Глубина стремительно нарастала, а вместе с ней и чудовищное давление. Щипцы, сжимающие орех, рано или поздно сломают скорлупу. Спасательная камера превратилась в камеру смертников. Законы физики обжалованию не подлежат…
Глубиномер испортился на 400 метрах. Стрелка застыла на этой, оставшейся уже далеко наверху отметке, будто прибор смилостивился и решил не страшить обречённых в их последние секунды жуткими цифрами. Так завязывают глаза перед казнью… Корпус лодки содрогнулся, вода ворвалась в последний отсек.
Падение в тартарары продолжалось.
— Ну, вот и всё, — промолвил Ванин. — Сейчас нас раздавит.
Все невольно сжались, будто это могло чем-то помочь. Камеру вдруг затрясло, задёргало.
— Всем включиться в аппараты ИДА! — крикнул Юдин.
На такой глубине они бы никого не спасли, родные «ИДАшки». Но Слюсаренко и Черников, скорее по рефлексу на команду, чем по здравому разумению, навесили на себя нагрудники с баллончиками, продели головы в «хомуты» дыхательных мешков, натянули маски и открыли вентили кислородно-гелиевой смеси. Это-то их и спасло, потому что в следующую секунду Юдин, замешкавшийся с аппаратом, вдруг сник, осел и без чувств свалился в притопленную шахту нижнего люка. Оба мичмана тут же его вытащили и уложили на сиденья нижнего яруса, обегавшие камеру по кругу. Комдив ещё был жив — хрипел.
— Помогите ему! — приказал Ванин.
Слюсаренко стал натягивать на него маску, но сделать это без помощи самого Юдина было весьма непросто. Вдвоём с Черниковым они промучились с маской минут пять, пока не поняли, что пытаются натянуть её на труп. Тогда они подняли головы и увидели, что командир, Ванин, сидит ссутулившись на верхнем ярусе и хрипит, как только что бился в конвульсиях Юдин. Рядом с ним прикорнул техник-вычислитель мичман Краснобаев.
Аппаратов ИДА по счастливой случайности оказалось в камере ровно столько же, сколько и людей. «ИДАшки» вообще не должны здесь находиться. Просто доктор, готовясь использовать ВСК как барокамеру для кислородной терапии, велел перетащить сюда пять аппаратов.
— Один из них я тут же раскрыл, — рассказывает Слюсаренко, — и попытался надеть на командира. Но опять подвела неудобная маска. Очень плохая конструкция. Сам на себя и то с трудом натянешь, а на бездвижного человека — и говорить нечего.
Позже медики придут к выводу, что все трое — Юдин, Ванин, Краснобаев — умерли от отравления окисью углерода. Камера была задымлена, а угарный газ под давлением умерщвляет в секунды.
И всё же чудо случилось: ВСК вдруг оторвалась и полетела вверх, пронзая чудовищную водную толщу, представить которую можно, поставив друг на дружку три останкинские телебашни. То ли стопор отдался сам по себе, но камера неслась ввысь, как сорвавшийся с привязи аэростат.
— Что было дальше, помню с трудом, — продолжает свой рассказ Слюсаренко. — Когда нас выбросило на поверхность, давление внутри камеры так скакнуло, что вырвало верхний люк. Ведь он был только на защёлке… Я увидел, как мелькнули ноги Черникова: потоком воздуха его вышвырнуло из камеры. Следом выбросило меня, но по пояс. Сорвало об обрез люка баллоны, воздушный мешок, шланги… Камера продержалась на плаву секунд пять–семь. Едва я выбрался из люка, как она камнем пошла вниз. Черников плавал неподалёку лицом вниз. Он был мёртв.
Я не видел, как наши садились на плотик, и вообще не знал, куда они все подевались. Просто плыл себе, и всё, пока не наткнулся на свой собственный дыхательный мешок.
Да, этот парень родился не в одной, а в двух счастливых рубашках. Рыбаки, заметив в волнах оранжевую точку (дыхательный мешок), подобрали Слюсаренко.
ВСК — всплывающая спасательная камера — предназначалась для выхода с глубины всего экипажа. Из 69 человек она спасла одного. Но и в этом случае её строили не зря.
Виктор Слюсаренко живёт сегодня в Киеве, служит в органах безопасности Украины. Растит двух сыновей. Удивительная вещь: до рокового похода у четы Слюсаренко долгое время не было детей. Пережитый стресс, уверяют врачи, весьма способствовал долгожданной беременности. Жена мичмана родила сразу двойню.
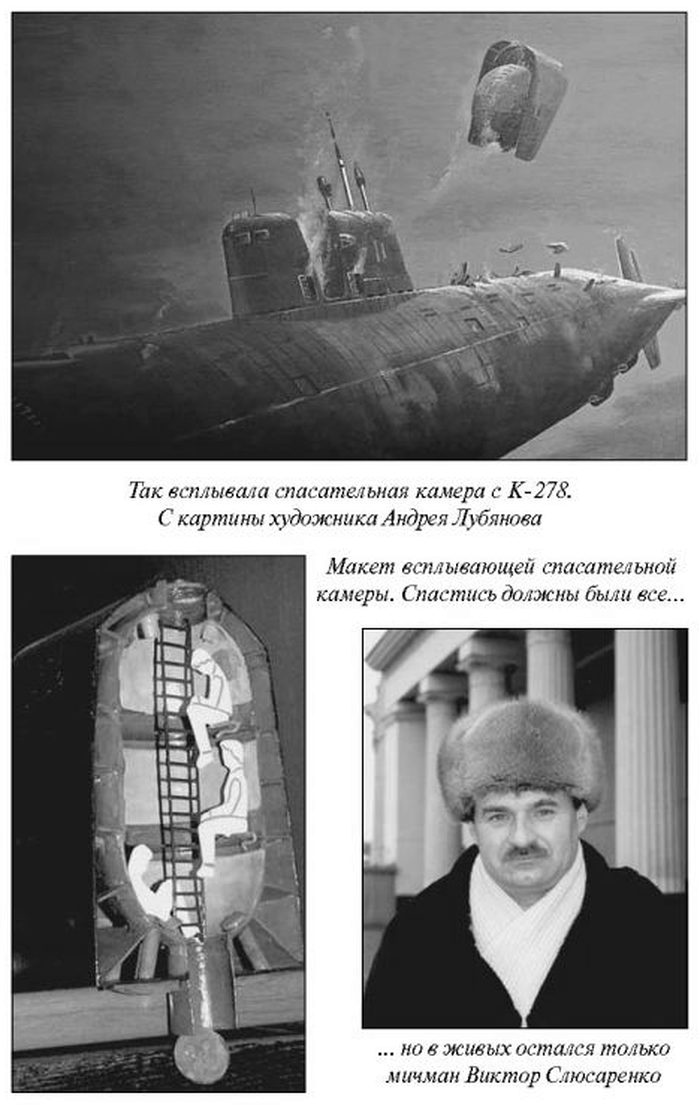
Они попали из огня да в полынью. В «Словаре командных слов» нет такой команды — «Покинуть подводную лодку!». Для подводников это звучит столь же абсурдно, как приказ «Расстаться с жизнью!», ибо подводная лодка, прочный корпус — защитная оболочка одна на всех, общее тело всего экипажа…
Покинуть подводную лодку?! В это не верилось, как не верится в конец света.
Мичман Кожанов, старшина команды гидроакустиков, глядя, как открывают контейнеры с плотами, шутливо воскликнул: «Неужели мне придётся замочить новые ботинки?!» Он мог шутить лишь потому, что, как и все, не верил в невероятное: их прочнейшая из наипрочнейших атомарина пойдёт на дно, как протараненная баржа. Но она пошла…
Капитан 1-го ранга Б. Коляда, заместитель командира дивизии:
— После 15 часов лётчики передали, что к нам идут атомная подводная лодка (она была приблизительно в ста милях), гидрографическое судно «Колгуев» и сейнеры во главе с плавбазой «Алексей Хлобыстов». Время подхода — 18 часов. Лодка вела себя нормально. Инженер-механик доложил мне, что при затоплении двух кормовых отсеков (шестого и седьмого) корабль по диаграмме остойчивости всё равно останется на плаву. Поэтому мы оценивали ситуацию так: выгорит кислород, вскроем отсеки, введём в строй рулевые машинки и пойдём на буксире в базу. То есть всё будет так, как на лодке, горевшей в Атлантике два года назад. Однако ближе к 17 часам крен и дифферент стали медленно нарастать на правый борт и корму. Я сказал командиру.
— Готовь «секреты» к уничтожению, а личный состав — к переходу на надводный корабль. Чтоб швартовая партия была на корпусе…
Около 17 часов подводная лодка резко пошла на корму. Когда я вылез наверх, оба спасательных плота были ещё в контейнерах. Вместе с мичманом Григоряном мы вытащили левый плотик. Он стал надуваться. Мы держали его за спусковой линь. Плот, надуваясь, приобретает шарообразную форму, и вот в этот момент его и перевернуло волной. Мы пытались вытащить его на носовую надстройку, но сильная волна перебросила его на другой борт. Все стали прыгать за ним. А плот правого борта, вытащенный наполовину, так и пошёл вместе с лодкой. Его потом выбросило из-под воды. Он вынырнул перевёрнутым, и его понесло ветром от нас…
Я был одет легко, в одном РБ, поэтому быстро догнал плот левого борта, облепленный людьми довольно густо. Талант Буркулаков протянул мне руку и помог влезть. Он вытащил меня из воды до половины…
Мичман Александр Копейка:
— Я, наверное, покидал мостик самым последним. Почему? Вытаскивал из ограждения рубки обожжённого. Когда же добрался до плотика, он уже был почти весь облеплен. Мне пришлось долго его обплывать, пока с левой стороны не нашёл за что ухватиться. Все в основном прыгали на правый борт, поэтому и плот был с правой стороны перегружен, а с левой — более-менее…
Лодка погрузилась метрах в трёх от плотика. Просто не верилось. Сколько нам на разводах зачитывалось о всяких авариях! Но я никогда не мог подумать, чтобы лодка могла вот так взять и исчезнуть…
…Потом, на плоту, мы, конечно, друг друга поддерживали, да и самолёты надежды много давали. С самого начала ещё терпимо было. А потом, примерно через полчаса, волнение усилилось и нас стало накрывать с головой. Вот тут многих просто отрывало и уносило. А кое-кто и сам терял силы: глаза стекленели, на губах пена выступала, отпускал леер и тут же уходил под воду.
Механик капитан 2-го ранга Бабенко до последней минуты спрашивал меня: «Где корабли? Где корабли?..»
У капитана-лейтенанта Богданова часы шли, и все спрашивали, сколько там до восемнадцати осталось? А он подбадривал: «Ребятки, потерпите немного, пять минут осталось». И так с добрых полчаса у него всё ещё «пять минут» оставалось. Поддерживали нас, пока были живы, старпом, капитан 2-го ранга Аванесов, начпо Буркулаков… Все верили, что нас не оставят, не бросят.
А потом вдруг под нами что-то взорвалось. Тряхнуло так — решили, плот лопнул. Осмотрелись — всё в порядке. Ну и чтобы всякую панику пресечь, запели «Варяга».
А командир БЧ-4 (связи) капитан 3-го ранга Володин до последних минут жизни всё повторял: «Ребята, я сам был на связи, я сам слышал, как лётчики передали: „Корабли идут на помощь“. И когда самолёты стали стрелять ракетками, мы поняли — помощь близка, на нас наводят суда, надо продержаться во что бы то ни стало. И мы держались».
Капитан медслужбы А. Заяц:
— Где-то за полчаса до гибели лодки я спустился вниз, зашёл к себе, взял фото дочери и сына. Хотел забрать и книги, что прихватил из дома, — «Гойя», «Рассказы о Пушкине» Тынянова, но оставил на полке. Подумал, что здесь они будут целее, чем на плавбазе. Я не сомневался, что нас поведут домой на буксире. На всякий случай попрощался с каютой, погасил свет. Поднялся наверх и увидел, как глубоко ушла корма в воду. Раньше как-то не смотрел в ту сторону — головы было не поднять, а тут — сердце ёкнуло.
Больные мои спрашивают: «Ну, как там?» Я их успокаивал: «Нормально». Подошёл к Волкову, командиру электротехнической группы, поправил повязки, тихо спросил: «Коля, как ты думаешь, продержимся?» Он мне так же тихо: «Слишком быстро нарастает дифферент…» Я поднялся чуть повыше, вижу — корма на глазах уходит в воду, и нет никакой силы, чтобы удержать, остановить её гибельное погружение. Тут стали спускать плотики. Я — к Коляде:
— Борис Григорьевич, больных надо в первую очередь.
— Да, конечно.
Я ждал, что плотик вот-вот появится по правому борту. А его всё нет и нет. Я перешёл на левый борт. Капитан 3-го ранга Манякин, комдив движения, рванул за пусковой линь, раздался хлопок, и плотик стал надуваться. Его мгновенно перевернуло. Все, кто стоял рядом, и Коляда, и Григорян, общими усилиями пытались вернуть его в нормальное положение. Одной рукой держались за леер ограждения рубки, другой рвали линь, когда волна подбрасывала плот. Четыре попытки не удались, плот был слишком тяжёл, пятая, самая сильная волна, и вовсе перекинула плот через надстройку на другой борт. Только тут я заметил, что стою в воде, рубка быстро погружается, лодка становится почти торчком. Крики. Шоковое состояние. Оторопь берёт, когда посреди моря твердь уходит из-под ног. Все ринулись вплавь. Неразбериха, толкотня. Ближайшая к лодке сторона плота была тут же облеплена. Я плыл в фуфайке и чехле от «канадки». Натыкался на кого-то, на меня натыкались, мешали друг другу. Плавать умели почти все, кроме старшего мичмана Еленика (он пошёл на дно сразу, ни за кого не цепляясь, без криков о помощи), матросов Головченко и Михалёва.
Отчётливо помню мысль: «Боже, какая нелепая смерть! Неужели и мне так придётся?!» Перед глазами встали мама, дети. «Что маме скажут? Где могила сына?!» И тут всё внутри поднялось, волна жизни такая накатила, откуда силы взялись — вцепился рукой в леер плотика, а рядом Игорь Калинин вскарабкался, влез сам и других стал втаскивать. Там, на плоту, собралось человек тридцать, а то и больше. Я смотрел на них, как на счастливцев, которым дарована жизнь… Во-первых, как врач знал, что в этой воде минут через двадцать наступит холодовой шок и остановится сердце, во-вторых, силы и без того уже меня покидали. На плот мне не забраться… Рядом мой бывший пациент, обгоревший лейтенант Шостак, налегке, без одежды, залез на плот. Прошу его:
— Саша, дай руку.
Он спустил ногу, в неё я и вцепился. Кто-то крикнул:
— На плотик больше не влезать! Иначе все потонем.
И, кажется, мичман Каданцев, у него голос громкий, чётко скомандовал:
— Разберитесь вокруг плотика!
Все расположились более-менее равномерно, и плотик выровнялся. Но волны накрывали нас с головой. Манякин захлебнулся прямо на плоту. Я почувствовал, что мне мешают брюки, скинул их. Потом, когда меня вытащили, то оказалось, что я в ботинках, но без трусов.
Минут 30–40 я держался за ноги Шостака. Потом мне удалось забросить на плотик и вторую руку. Вцепился намертво. Так меня и сняли.
Рыбаки приняли нас как родных. Оттирали всем, что содержало хоть толику спирта, — одеколоном, лосьонами, даже французский коньяк не пожалели.
Есть ли более жизнеутверждающее чтение, чем рассказы людей, переживших смерть? Пусть кому-нибудь вспомнятся в трудную минуту эти строки.
Фотография мичмана Юрия Анисимова, обнимающего своих троих, едва не осиротевших детей, обошла десятки газет… Его фамилия открывала список спасённых.
Мичман Ю.Н. Анисимов, техник гидроакустического комплекса:
— По тревоге я сразу же прибыл в первый (носовой) отсек Там уже были капитан-лейтенант Сперанский, мичманы Григорян и Кожанов. Мы с тревогой прислушивалась к командам, которые центральный пост давал в аварийные отсеки… Они неслись из динамика «лиственницы»… Больше всего боялись, что рванут аккумуляторные батареи. Дали и нам команду подготовить ВПЛ{3} к работе. Начали давать давление, а его нет… Потом пена пошла. Всплыли и сразу же заметили крен на левый борт… Всё водолазное имущество в отсеке было наготове. Если бы дали команду надеть, мы бы за пять минут одели друг друга.
Потом к нам постучал Калинин и сказал: «Ребята, одевайтесь потеплее и наверх выходите!»
Я взял два мешка с «секретами», потом ящик с документами на спину надел. Когда вылезал, услышал, как командир сказал: «Растёт дифферент на корму…» Вылез наверх, волной с меня ящик сбило. Ухватился за козырёк мостика. А когда вторая волна схлынула, увидел плот метрах в двадцати. Отпустил козырёк и поплыл прямо к нему. Володя Каданцев помог мне залезть. Там был такой прогиб, как яма, вот туда и плюхнулся. Но сильная волна смыла меня за борт. Так бы и унесло в море, но я ухватился за Калинина. Рядом из последних сил держался Сперанский. Очередная волна ударила, и он так откинулся, и всё… Смыло его… И как Волкова смыло, я тоже видел. Умирали все молча. Никто не кричал, не прощался… Очень тяжело было смотреть, когда на твоих глазах… И ничем не можешь помочь… Сам старался двигаться, чувствовал себя плохо. Всё время думал о детях, трое их у меня. Как подумаю о них, так сил прибавляется… Потом услышал: «Шлюпка! Шлюпка!» Легче стало и морально, и физически. И даже потеплело как-то. Судно я не видел. Оно сзади было… Со шлюпки кинули конец, и все быстро за него ухватились. Я одного помог поднять, второго. Почти последний с плота и снялся… Дальше что было, не помню почти. Открою глаза, смотрю — плывём. Глаза закрываю и снова ничего не помню. Пришёл в себя в каюте. Мне стакан спирта, разведённого с вареньем, дают. Я спрашиваю: «Что это?» А мне: «Пей, не спрашивай!» Потом кто-то спросил: «Щекотки боишься?» Я говорю: «Нет. У меня ноги и живот замёрзли». И они давай меня растирать. Очень хорошо растирали…
Оклемался. В парную, душ сходил. Прилёг, но никакого сна. Примерно через час куртку надел, нас вообще очень тепло одели, бельё водолазное выдали, свитеры, и вышел на верхнюю палубу. Там погибшие лежали. К тому времени всех уже наверх вынесли. На каждого смотрел и многих не узнавал. Все почти опухшие…
Капитан-лейтенант Виталий Грегулев, начальник химической службы. Рассказывал, чуть заикаясь, видимо, до сих пор не веря в своё спасение.
— В ночь на 7 апреля я дежурил. Проверял радиационную обстановку. Всё было в норме.
По сигналу аварийной тревоги сразу же перекрыл подачу кислорода во все отсеки. В кормовых — необитаемых — отсеках было процентов 20, а в жилых — 23. Система поглотителя окиси углерода вышла из строя.
В третьем отсеке, в штурманской выгородке, мы с мичманом Черниковым развернули пост переснаряжения изолирующих противогазов — «ИПов». Все аварийные партии уходили со свежими «ИПами». Кстати, они и ПДУ показали себя хорошо в отличие от шланговой дыхательной системы. Задумано хорошо, а исполнение… В ПДУ, рассчитанном на 10 минут, я бегал час.
Мичман Черников (позже погиб во всплывающей спасательной камере) действовал чётко и хладнокровно. Я не раз поминал добрым словом наших флагманских химиков Жука и Журавлёва — их школа.
Стали убирать отработанные ПДУ. Черников мне говорит. «Сейчас плавбаза подойдёт, но я, наверное, здесь останусь». Мы и предполагать не могли, что лодка не выдержит, начнёт тонуть… Тут прибегает Каданцев: «Вода в четвёртом!»
Когда дали команду выйти наверх, я схватил свой транзистор (мне его флагманский на день рождения в море подарил). Китель забрал, брюки. Вылез на мостик, вижу — плыть придётся. Всё оставил и прыгнул в воду с рубки. Вынырнул, обернулся — глазам своим не поверил — корабль тонет.
Поплыл к плотику, волны в лицо. Воды нахлебался, потерял плот из виду. «Ну ладно, — думаю, — чёрт с ним!.. Чего зря мучиться». Хотел руки сложить — и вниз. Вспомнил про семью… Рассказ Джека Лондона вспомнил — «Любовь к жизни». Его герой полз по тундре, боролся с волками. Я тогда думаю: «Нет уж, надо жить…» И многие так боролись. У нас на плоту один уже не мог руками держаться, отнимались от холода. Так он зубами за чью-то шинель схватился.
Очень жить хотелось! Вот сейчас телевизор смотрю, там бастуют, там кого-то режут. Но ведь вы же живёте! Чего вам ещё надо!
Когда вдруг открылся второй, пустой плотик, хотел плыть к нему, догнать. Но чувствую, ноги уже замерзают. Сбросил ботинки, стал растирать.
Капитан-лейтенант Юрий Парамонов:
— А я всё-таки решился. Прыгнул в воду и поплыл. Потом думаю: что это я в ватнике плыву; сбросил его, шапку сбросил… Плыть пришлось против волны. Гребни всё время плот заслоняли. Я-то его видел с высоты нашего борта. Словом, потерял из виду и вернулся к своему.
Капитан-лейтенант Грегулев:
— А ведь некоторые плавать не умели вовсе. Вот матрос Михалёв, трюмный. Хороший моряк, добросовестный. И вот он тихо так, молча ушёл. Нас в училище — я Каспийское кончал — первые два года здорово гоняли: и бегать, и плавать. Двойки ставили, отпусков лишали, но зато все к пятому курсу нормально плавали. Иначе бы я сейчас ничего не рассказывал… Я как борт шлюпки увидел, так и отключился. Очнулся уже на плавбазе. Лежу и думаю: «Чего это я голый?»
Никто из нас не заболел, потому что на «Хлобыстове» врачи сразу же нами занялись. У них там и терапевт, и хирург, и стоматолог, рентгенолог, и три медсестры… Врачи не виноваты, что Молчанов, Нежутин и Грундуль погибли. Ведь хорошо себя чувствовали. Вышли после ужина покурить — и на тебе. Потом выяснилось, что у них в организме начался необратимый процесс и этот почти незаметный для здорового человека «никотиновый удар» от одной сигареты для них оказался роковым.
Морякам «Хлобыстова» мы все своим вторым рождением обязаны. Когда они получили радиограмму «лодка горит», так они чуть ли не швартовы рубили. Из машин выжимали всё, что можно было. Даже пожарную команду в трюм спустили ~ до того они раскалились…
«Не забуду слов матери погибшего подводника, — пишет в газету моряк Владимир Плескач. — Выйдя из Дома офицеров, заставленного гробами и портретами погибших, она увидела многотысячную толпу отдающих последний долг и тихо сказала: „Как много людей собралось. А где все были, когда ОНИ погибали?“»
Где мы были?
В тот день, когда подводники замерзали на плотике, в продажу поступил апрельский номер журнала «Морской флот». На его обложке два моряка демонстрировали новейшую модель гидротеплоизоляционного спасательного костюма для арктических вод. Они улыбались, лёжа в воде, и показывали оттопыренные большие пальцы: «Во как хорошо!»
То была издёвка фортуны…
Узнав о гибели «Комсомольца» и смерти Таланта Буркулакова, наш общий сослуживец капитан 2-го ранга Владимир Стефановский написал в редакцию «Правды» горькое и честное письмо о том, как обстоят дела на подводном флоте и почему они так скверно обстоят. Поминался там и тот злополучный аварийно-сигнальный буй, который сорвало штормом на буркулаковской лодке.
«Для обозначения затонувшей подводной лодки, — пишет бывший флагманский механик нашей бригады, — предусмотрены два всплывающих аварийно-сигнальных буя для связи подводников с внешним миром. Один из них — носовой с радиосигнальным устройством. Нельзя сказать, чтобы они конструктивно были достаточно продуманны и совершенны. Крепление их к корпусу ненадёжно. Очень часто подводная лодка, уходя в море, возвращается в базу с зияющей пустой „корзиной“ — буй в сильное волнение срывается со своего штатного места и „уходит в самостоятельное плавание“. Тут вполне справедливо можно упрекнуть создателя такой конструкции. Но, с другой стороны, кому поможет этот буй, если, например, рабочая глубина погружения подводной лодки 300 м, длина кабель-троса буя соответственно 350 м, а под килем — километры? И всё же буй не раз выручал подводников.
Одним из основных элементов электрической сигнальной схемы буя является герметичная семиконтактная муфта. С некоторых пор она стала дефицитом. Трудно сказать, почему. Отчасти потому, что буй часто затекает по той причине, что подводник не всегда умело зажимает на нём колпак, эта муфта в морской воде быстро выходит из строя и уже ремонту не поддаётся.
Промышленностью почему-то в достаточном количестве они не выпускаются. Заводы выпускают то, что им планируют. А тот, кто планирует, не знает, что нужно.
Получается так, что подводная лодка, закончив, скажем, ремонт на заводе, не может выйти на ходовые испытания, так как аварийно-сигнальный буй не в строю — отсутствует семиконтактная муфта. Судоремонтный завод её изготовить не в состоянии. Да ему за это и не заплатят, потому что это комплектующее изделие и его должен обеспечить заказчик. А чтобы оплатили заводу, приходится искать незаконный обходной манёвр, прибегать к двойной-тройной запутанной и опасной бухгалтерии. То есть, чтобы сделать жизненно необходимую деталь, нужно идти на нарушение закона и изворачиваться. А потому чаще всего этот ажиотаж вокруг семиконтактной муфты заканчивается тем, что муфта эта вдруг появляется. Воспитанные в суровых условиях дефицита судоремонтники ничему не удивляются и вопросов, откуда муфта взялась, не задают.
Через несколько дней „танец с саблями“ вокруг этого скромного изделия возобновляется с ещё большей силой: на соседней подводной лодке пропала семиконтактная муфта! Но это ещё не всё. При подготовке подводной лодки к автономно-атлантическому плаванию представитель аварийно-спасательной службы флота не уйдёт с корабля до тех пор, пока буи вместе с этой семиконтактной муфтой не будут проверены на комплектность и в работе по прямому назначению. С большим трудом добываются по всему соединению и флоту все недостающие элементы схемы.
Наконец всё укомплектовано, всё работает. Представитель спасательной службы горд тем, что добился приведения в исправность спасательных средств, механик зол, что… зря потратил время. Через несколько дней (перед самым выходом в плавание) он даст указание матросу приварить этот буй к корпусу лодки намертво, по причинам, изложенным выше. На глубине Атлантического океана он никому не нужен. Не утонем — не будем биться в судорогах при его списании. Такой вот анекдот. К сожалению, на флоте таких анекдотов не перечесть».
В критические минуты, когда авария подводной лодки стала реальностью, судьбу подводника может решить индивидуальный спасательный аппарат ИДА.
Это довольно сложное устройство, позволяющее подводнику дышать по замкнутому циклу (аппарат—лёгкие) в любой, в том числе и отравленной, атмосфере, и даже под водой (хотя и не бесконечно и не на любой глубине). Этот умный и не требующий никаких дополнительных операций после включения на дыхание по замкнутому циклу аппарат спас немало жизней подводников.
Авторы некоторых публикаций в связи с катастрофой «Комсомольца» немало упрёков адресуют создателям аппарата ИДА, и справедливых, и попросту несерьёзных.
Существующий на вооружении флота аппарат ИДА создан в 1959 году. Соответственно его условное обозначение — ИДА-59. Он является составной частью индивидуального снаряжения подводника — ИСП-60. Поступил он на вооружение флота, конечно, значительно позже.
От опытного образца, а тем более от идеи до серийного производства новой, или даже не новой, а модернизированной машины или аппарата у нас проходит не один и не два года. Это наша беда. В нашем случае — это беда подводника и вина промышленности, за которой стояли «слуги народа» — министры, председатели, секретари и другие аппаратчики, создавшие такой уродливо-неповоротливый хозяйственный механизм.
Конечно, бросается, и даже резко, в глаза тот факт, что оружие уничтожения, самое что ни есть современное, идёт в ногу со временем, а средства спасения человека отстали на тридцать лет.
Гласом вопиющего в канцелярской пустыне прозвучал крик души бывшего командира атомной ракетной подводной лодки стратегического назначения капитана 1-го ранга запаса А. Горбачёва:
«На следующий день после катастрофы хорошо знакомый мне дворник недоумевал, почему это подводники гибнут от переохлаждения, когда в московских спортивных магазинах продаются костюмы с подогревом, с какими-то поплавками, сигнальными лампочками… Что можно ответить на это? В стране, и тем более в мире, действительно есть костюмы с отличным утеплением и даже с подогревом, с поплавком для длительного удержания на воде, с сигнализацией для ночного обнаружения и даже с герметичной микрорадиостанцией. В таком костюме можно держаться в ледяной воде часы, а то и сутки. Почему же их нет у наших подводников? Нет средств? Да ведь одна затонувшая подводная лодка стоит столько таких костюмов, что их хватило бы для всех моряков мира!
Почему бы подводнику не иметь лёгкий, удобный спасательный комплект, где будет всё необходимое для выживания на воде при всех условиях? Честное слово, слёз одной-единственной матери достаточно, чтобы все эти „мелочи жизни“ были решены раз и навсегда. На АПЛ есть индивидуально-спасательные аппараты для выхода из затонувшей лодки, для плавания на поверхности моря после всплытия за счёт плавучести гидрокомбинезона и дыхательного мешка аппарата. Однако всё это устаревшее, неудобное в использовании, громоздкое и тяжёлое устройство.
Почему же большинство подводников оказалось и без этого устройства? Наверное, потому, что на всех 69 человек их просто не было? Наверное, и потому, что весь этот водолазный комплект (аппарат, гидрокомбинезон, тёплое бельё) разукомплектован и хранится в разных местах отсека. При задымлённости, в экстремальных условиях личный состав, как правило, их не находит. Воистину всё сделано для того, чтобы подводник прыгал в воду без спасательных средств и тонул».
Неотвязный вопрос, едва заходит речь о трагедии в Норвежском море, на устах у всех: «Почему у нас так плохо со спасательными средствами?» Когда меня спрашивают об этом, я задаю встречный вопрос: а почему у нас так плохо с протезами для инвалидов и колясками для калек? С оказанием неотложной медицинской помощи на дорогах? С горноспасательной техникой? Всё это задубевшие плоды давнего небрежения нашей Системы ко всему личностному и индивидуальному, к каждому из нас как просителю, клиенту, пациенту… Всё это от чиновничьей привычки рассматривать вас всех как «население», «народную массу», «личный состав», с которым «архитекторы светлого будущего» обращаются столь же вольно, как с любым расходным материалом. Как с неизбежными щепками при рубке леса. Как скульптор с глиной. У нас всего много: и тайги, и глины, и людей.
Новое оборонное мышление непременно должно включать в себя и новое отношение к военному человеку — не как к инвентарному имуществу, живой силе, пушечному мясу, но как к кровной части народа, одетой в шинели.
О том, как спасали подводников, написано немало. И всё же многих мучает ещё один тревожный вопрос — а могли ли спасти всех, кто оказался на воде? Ведь большая часть моряков погибла не в отсеках, а в волнах. Так ли их спасали, как надо? Почему не обратились к норвежцам? Почему не вылетели гидросамолёты? Почему не раскрывались спасательные плоты? Все эти вопросы я задавал не только должностным лицам, но и своим товарищам по флотской службе, у которых не было причин кривить передо мной душой.
К норвежцам не обращались, потому что реальная необходимость в их помощи возникла не с первых минут всплытия, а лишь в 17 часов, когда подводная лодка, поджидавшая буксировщик, неожиданно для всех стала уходить в воду. Если бы в этот момент норвежцы получили международный «SOS», то их вертолёты, по признанию офицера спасательной службы Ариля Осереда из Будё, смогли бы поспеть к месту катастрофы только к 19.30, то есть на полтора часа позже советских рыбаков.
Почему не вылетели гидросамолёты Бе-12, командиры этих кораблей рассказали в своём горьком письме, адресованном в газету (копия — главному конструктору):
«С тактико-техническими данными нашего самолёта спасать в открытом море, при тех гидрометеоусловиях в районе потерпевшей бедствие подводной лодки, было невозможно. Гидросамолёт может выполнять взлёт и посадку только в идеальных условиях: при высоте волны 0,6–0,8 метра. И даже при таких условиях взлетать и садиться в заливе или на озере весьма непросто. Мы убедительно просим поставить задачу генеральному конструктору товарищу Константинову разработать настоящий спасательный гидросамолёт для оказания помощи в открытом море при волнении не менее 5 баллов. Хотим задать вопрос товарищу Константинову: „Почему в годы Великой Отечественной войны лётчики нашего полка на "Каталинах" спасали людей в открытом море при волнении более 4 баллов, а наш Бе-12, созданный через 20 лет после войны, не в состоянии?“»
Коллеги гидроавиаторов — лётчики-противолодочники — на своих «илах» оказались технически более подходящими для выполнения несвойственной им задачи. Вся беда в том, что подводников спасали так, как спасают лётчиков. Лётчик же приводняется вместе с автоматически надувающейся лодочкой и на ней подгребает к сброшенному на парашюте спасательному контейнеру (КАСу — контейнеру авиационному спасательному). Из лодки же тянет он пусковой шнур раскрытия большого спасательного плота. Ничего этого люди, окоченевшие в воде, проделать не могли. Их, подводников, всегда готовились спасать прежде всего из тисков глубины. Для этого построены специальные суда и подводные лодки. Но в этот раз подводники оказались в положении пассажиров злосчастного парохода «Адмирал Нахимов». Так же, как и та трагедия, эта, новая, ещё раз показала беспомощность наших спасательных служб перед проблемой, вечной, как само мореплавание, — спасения жизни на воде.
После всех бесед и расспросов могу сказать одно: в той ситуации и при тех подручных средствах, какими располагал Северный флот, был найден единственно верный выход: послать противолодочные самолёты, которые часами кружили над аварийной лодкой, держали с ней бесперебойную связь, а самое главное — по кратчайшей прямой навели на плотик, облепленный моряками, суда рыбаков. Любая неточность в курсе, лишние минуты поиска стоили бы новых жизней.
— Эх, окажись бы там катерок любой, захудалый, — вздыхали потом спасённые подводники, — всех ребят бы спасли…
Я был потрясён, когда на другой день после похорон подводников увидел в музейном ангаре ВВС Северного флота спасательный катер «Фрегат», который был создан специально для того, чтобы его сбрасывали с самолёта. До 1985 года он ещё стоял на вооружении поисково-спасательной службы ВВС флота. И вдруг — музейный экспонат.
— То, что вы видели в музее, — рассказывал начальник поисково-спасательной службы ВВС Северного флота полковник Куц, — это вчерашний день. Наше сегодня — десантируемый катер «Ёрш». Он выезжает из грузового салона «АН-двенадцатого» на специальных лыжах и приводняется на парашютах вместе с экипажем из трёх человек (среди которых фельдшер-спасатель). Вот это то, что было нужно там, в Норвежском море. Но…
Горькое «но», проиллюстрированное бесстрастными документами и негодующими комментариями, вкратце сводится к безотрадному выводу: катера сделаны настолько из рук вон плохо, что главный конструктор их вкупе с полковником Куцем подписали запрет на применение «Ершей» в деле. В таком виде они не только никого не спасут, но и погубят самих спасателей. Почему же их так сработали? В Питере, куда я прилетел с Севера, чтобы найти ответ на этот вопрос, В.Д. Рубцов, главный конструктор «Ершей», поведал старую как мир историю. Детище его погубила система коллективной безответственности. Так, Минсудпром отвечал лишь за мореходные качества катера, Минавиапром — за лётно-парашютные, Промсвязь — за аппаратуру радионаведения, которую выпускают как в морском (тяжеловесном) варианте, так и в авиационном (портативно-лёгком).
Думаю, что по тем же причинам подводники не скоро ещё получат неопрокидываемые плотики, спецодежду, которая не вспыхивает на теле, как бальное платье от новогодней свечи, удобные дыхательные маски из углеродистой ткани, которые не плавятся на лице, да и самое главное — корабли, способные продержаться в случае аварии до подхода спасателей.
И самый надёжный из всех кораблей
Вдруг капсулой смерти стал для людей.
Из матросской песни
…Раскалённая корма подводной лодки быстро уходила в пучину. Все, кто остался в живых, попрыгали в ледяную воду, стремясь к надувному плоту. Лишь в ограждении рубки, уткнувшись в рукав кителя, плакал корабельный кок-инструктор, великолепный кондитер, старший мичман Михаил Еленик. В свои сорок шесть он не умел плавать. Как и все, он искренне верил в непотопляемость своего чудо-корабля, как и все, он верил в нескончаемость своей жизни… Плакал скорее от обиды, чем от страха перед смертью, отсроченной всего лишь на три минуты. Рядом с ним метался старший матрос Стасис Шинкунас. Он тоже не умел плавать… Так и ушли они под воду вместе с кораблём…
Из всех эпизодов гибели «Комсомольца» почему-то именно этот больнее всего впечатался мне в душу. И ещё подвиг капитана 3-го ранга Анатолия Испенкова. Подменяя у дизель-генератора свалившегося без чувств матроса, офицер не покинул свой пост даже тогда, когда остался в прочном корпусе совершенно один. К нему бросился мичман-посыльный:
— Срочно на выход!
Испенков посмотрел на него с чисто белорусской невозмутимостью, надел поплотнее наушники-шумофоны и вернулся к грохотавшему дизелю. Погибавшему кораблю нужна была энергия, нужен был свет, чтобы все, кто застрял ещё в его недрах, успели выбраться наверх. Испенков и сейчас лежит там, на нижней палубе затопленного третьего отсека. Десять лет длится его бессменная вахта. И командир «Комсомольца» капитан 1-го ранга Евгений Ванин, как и капитан ставшего притчей во языцех «Титаника», как и многие командиры цусимских броненосцев, верный старинной морской традиции, разделил участь своего корабля…
Теперь, по прошествии стольких лет стало ясно, что гибель атомной подводной лодки К-278 («Комсомолец») носила эсхатологический характер. Она была таким же предвестником крушения Советского государства, как гибель дредноута «Императрица Мария» в 1916 году предзнаменовала крах Российской империи. Ни «корабль XXI века», как справедливо величали титановую сверхглубоководную атомарину, ни создавший её Советский Союз в двадцать первый век не вошли.
Для Военно-морского флота СССР (да и нынешней России тоже) та апрельская катастрофа в Норвежском море означала не просто потерю одного корабля и сорока двух моряков, но и пресечение перспективнейшего научно-технического направления. Был поставлен крест на программе создания качественно нового подводного флота страны — глубоководного. Программе, обеспеченной уже многими мировыми приоритетами.
Мы сидим в тесной комнатушке, где размещена одна из самых влиятельных организаций Санкт-Петербурга — Клуб моряков-подводников. Его президент бывший командир атомной подводной лодки капитан 1-го ранга Игорь Курдин взял на себя труд достойно отметить печальную годовщину: заказать панихиду в Морском соборе, собрать на поминальный ужин остатки экипажа К-278. Девизом Клуба стали слова: «Подводный флот — это не работа и не служба, это судьба и религия».
— Игорь Кириллович, за двенадцать лет следствия по делу гибели «Комсомольца» так и не всплыли имена прямых виновников гибели уникального корабля…
— Их нет да и быть в этом случае не может. Вина, как расплёсканная кровь, забрызгала ВСЕХ, кто хоть как-то причастен к созданию и эксплуатации этого небывалого корабля. Ведь «Комсомолец» в конечном счёте погубила бедность той страны, которая сумела сотворить титановый корпус, но не смогла содержать людей в этом корпусе.
Это аксиома: у такого корабля, как сверхглубоководный крейсер типа «Плавник», да и у любого подводного крейсера стратегического назначения должны были быть два экипажа — боевой и технический. Один управляет им в море, другой обслуживает его в базе. Более того — оба этих экипажа должны были состоять из профессионалов-контрактников, а не из матросов срочной службы, которые за два года, проведённых в прочном корпусе и близ него, только-только войдут в курс дела и которых постоянно отрывают от тренировок и учений на всевозможные хозяйственные дела. Но как раз именно на этом-то и решили сэкономить. Хотя стоимость содержания технического экипажа составляла лишь долю процента от стоимости самого корабля. Известно, чем оборачивается экономия на спичках…
— Но ведь были же созданы атомные подводные лодки 705-го проекта класса «Альфа», где весь экипаж состоит из офицеров и мичманов…
— Да, это так называемые лодки-автоматы. Конечно же, уровень подготовки такого экипажа стоит несравнимо выше, чем у матросов срочной службы. Флот не потерял ни одной «Альфы» по вине личного состава, хотя в том же Норвежском море и опять же в апреле, только семью годами раньше, на АПЛ К-123 произошёл выброс жидкометаллического теплоносителя по причине межконтурной неплотности парогенератора — заводской причине. Тем не менее облучённые моряки-профессионалы сумели спасти корабль и вернуть его в базу.
К сожалению, идеологи подводного судостроения ушли от курса на строительство «малонаселённых» лодок-автоматов, хотя это направление опережало по всем показателям на 10–20 лет все строившиеся и проектируемые в то время подводные лодки.
Вторая аксиома состоит в том, что ни на каком корабле аварийная ситуация не должна развиваться так, как развивалась она на злосчастном «Комсомольце» — лавинообразно — с отказом и возгораниями многих систем и агрегатов.
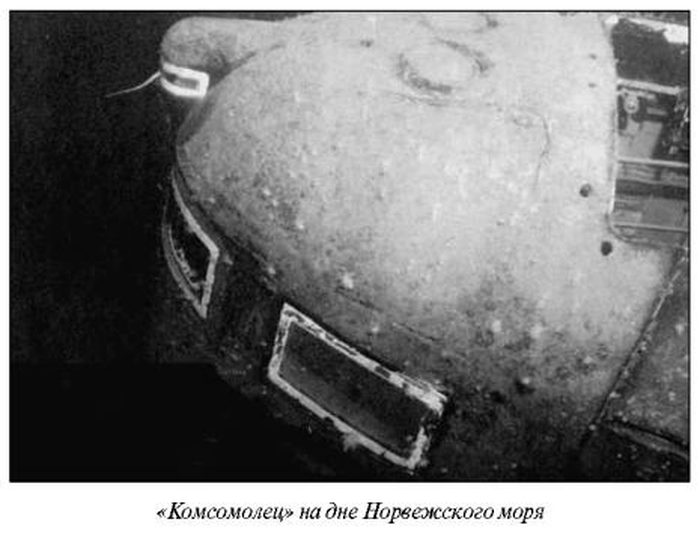
За минувшие годы о трагедии «Комсомольца» написан добрый десяток книг и монографий. Свой взгляд на подводную катастрофу века высказывали и моряки, и инженеры, и журналисты, и врачи. Одна из книг принадлежит перу заместителя главного конструктора атомной подводной лодки «Комсомолец» Д.А. Романову. Её главный тезис: трагедия близ острова Медвежий произошла из-за катастрофического разрыва между уровнем технической оснащённости современных подводных лодок и уровнем профессиональной подготовки подводников. В книге часто поминается и моё имя как представителя иной точки зрения на причины гибели К-278.
Глубокоуважаемый Дмитрий Андреевич! Несмотря на все сарказмы, которые вы отпускаете по моему адресу, я всё же преклоняюсь перед вашим конструкторским талантом и инженерным даром ваших коллег, создавших уникальнейшие и во многом непревзойдённые в мире подводные корабли. С вами невозможно спорить, когда вы разбираете ту или иную систему «Комсомольца». Но вы не убедили меня в безгрешности наших проектантов, и особенно судостроительной промышленности перед флотом. Не понаслышке знаю, какими «минами замедленного действия» оборачиваются для моряков и отдельные просчёты конструкторов, и заводской брак строителей. Техническое совершенство наших атомных кораблей рассчитано на абсолютное моральное совершенство тех, кто сидит за их пультами. Сверхсложная машинерия требует сверхстрогой жизни своих служителей. Они не должны быть подвержены никаким человеческим слабостям, их не должно ничто волновать на покинутом берегу, эти сверхаскеты должны жить чётко по распорядку и столь же чётко выполнять все сто двадцать пять пунктов эксплуатационных инструкций, обладая при этом непогрешимой памятью, стопроцентными знаниями и неутомимостью биороботов. Такова жёсткая конструкторская заданность к системе «Человек — АПЛ». Но система, в которой ошибка одного человека не может быть устранена усилиями десятка специалистов, — ненадёжная система.
Немало было сломано копий в полемике — поднимать со дна морского затонувшую атомарину или не поднимать.
— Анализ видеозаписей, фотографий, измерений, — утверждает ведущий специалист Института океанографии РАН доктор технических наук Анатолий Сагалевич, — показал, что поднимать «Комсомолец» нецелесообразно. Атомный реактор надёжно заглушён, и, как показали результаты измерений, опасности выхода радиоактивных веществ из него не существует. В то же время две ядерные боеголовки торпед, находящиеся в носовом отсеке лодки в агрессивной морской среде, подвергаются коррозии, что может привести к утечке плутония. Чтобы предотвратить или снизить до минимума выход плутония в окружающую среду, усилиями нескольких экспедиций на исследовательском судне «Академик Мстислав Келдыш» был частично герметизирован торпедный отсек затонувший лодки.
Игорь Курдин вставляет в видеомагнитофон кассету, и на экране возникает сумрачный силуэт расколотого ударом о грунт и взрывом одной из неядерных торпед носовой части «Комсомольца». Это съёмка с борта глубоководного обитаемого аппарата «Мир».
«Проходим палубу от носа до кормы, — комментирует Анатолий Сагалевич, инициатор и ветеран многочисленных погружений к затонувшему на полуторакилометровой глубине исполину. — Приближаемся к рубке, поднимаемся вверх, огибаем её слева и доходим до проёма, где размещалась всплывающая спасательная капсула. Внизу виден люк, через который покидали лодку последние её обитатели во главе с командиром. Они вошли в капсулу, надеясь, что она вынесет их на поверхность, однако недобрая судьба распорядилась иначе…
Кормовая часть лодки сверкает в лучах светильников аппарата „Мир-1“ как новенькая. Даже не верится, что она покоится на дне. А вот и седьмой отсек, где возник пожар, с которого, собственно, и началась трагедия…»
Запись давно кончилась, экран белёсо рябит… А Курдин сидит, уронив голову на руки, и вслушивается в странные свистящие подвывающие звуки. Их записали под водой океанологи в точке гибели «Комсомольца».
Здесь птицы не поют… Здесь стрекочет, урчит, скрипит, кудахчет, цокает, зудит всевозможная морская живность. Это эфир другой планеты. Это сам Океан поёт реквием по затонувшему кораблю. О, как могуч, страстен и невыразим его голос! Из клубка напряжённых мяукающе-ревущих звуков вдруг прорвётся нечто почти осмысленное, виолончельно-грудное… Наш общий пращур, чью соль мы носим в своей крови, отчаянно пытается нам что-то сказать, вразумить нас, предостеречь… Тщетно. Мы забыли древний язык океана и назвали его биоакустическими помехами… Не потому ли плакал мичман Еленик в рубке гибнущего корабля?
Мир об этом так и не узнал…
В Центральной Арктике под паковыми льдами на глубине 150 метров горел атомный подводный крейсер с двумя ядерными реакторами, с 16-ю баллистическими ракетами (с ядерными же боеголовками) и 130-ю живыми душами в одиннадцати отсеках, не считая трёх щеглов в вольере зоны отдыха… Пожар всегда страшен. Но когда подо льдами горит термоядерный исполин, то это уже не пожар, это начало апокалипсиса…
Сообщение ТАСС, если бы об этом разрешили сообщить, звучало бы так: «18 января 1981 года подо льдами Арктики затонул на глубине 3 тысяч метров ракетный атомный подводный крейсер стратегического назначения К-424. На борту находилось 130 человек… Причины катастрофы уточняются». Так могло бы быть, но так не стало, потому что на борту К-424 нашёлся человек, который сумел переиграть судьбу, отменить катастрофу, вернуть корабль домой, в базу… Это был командир подводного крейсера — 37-летний капитан 1-го ранга Николай Иванов.
Сегодня этот никому не известный герой живёт в подмосковной Балашихе, работает охранником на таможне… Автор этих строк приехал к нему в гости. Пока радушная хозяйка Светлана Петровна накрывала стол, Иванов достал фотоальбомы, развернул морские карты…
Николай Александрович Иванов попытался начать эту жутковатую историю с шутки:
— Один мой приятель как-то спросил меня: «Почему подводники начинают свои рассказы так — сплю я и вдруг…» Точно замечено. И эту историю я тоже мог бы так начать, если бы успел тогда добраться до койки. В 12.00 я сдал свою командирскую вахту старпому — капитану 2-го ранга Борису Плюснину, и отправился во второй отсек прилечь в каюте…
Шла обычная боевая служба в Арктическом районе. Мы находились на широте Шпицбергена подо льдами. Шли 23-и сутки под тяжёлыми паковыми льдами, без малейшей возможности пробить их, всплыть в случае необходимости. Старался не думать о ледяном панцире, который нависал над нами, как гробовая крышка…
В стране готовились к XXVI съезду КПСС, и наш поход, в успехе которого мало кто сомневался, должен был стать подарком съезду от моряков-североморцев. Так нас напутствовали перед выходом в высокие широты…
Я не успел ещё раздеться, как тишину жилого отсека взрезала пронзительная долгая трель звонка аварийной тревоги. И тут же встревоженный голос старпома:
— Аварийная тревога! Пожар в центральном посту!
Я немедленно метнулся в третий отсек. Едва отдраил переборочный люк, как уловил едкий запах дыма.
— Где горит?!
— Выгородка в районе гальюна!
Выгородка, забитая ящиками с запасными деталями — ЗИПом, находилась на средней палубе. Я приказал разгрузить её, чтобы добраться до очага возгорания. Раскидали ящики, но пламени не было видно. Дым валил из угольного фильтра, очищавшего воздух в гальюне. Пожар разгорался не на шутку. В Центральном воцарилась гнетущая тишина. Я ловил на себе тревожные взгляды, а кое у кого глаза были с полтинники. Вот когда я понял смысл выражения — у страха глаза велики. В каждом взгляде — немая мольба: командир, спаси! Ты знаешь, ты должен знать, что сейчас делать!
Будь это где-нибудь в Атлантике, я немедленно бы всплыл. Но у нас над головой был мощный паковый лёд и категорический запрет обнаруживать себя на поверхности. С каждой минутой росла токсичность нашего воздуха. Химик доложил, что концентрация окиси углерода увеличилась в 380 раз.
В центральный поднялся замполит капитан 2-го ранга Архипов и попросил разрешения увести людей, не занятых борьбой за живучесть во второй отсек. Я разрешил. Но сначала приказал поднять давление во втором и четвёртом отсеках…
Никто не имеет права покидать аварийный отсек. Этот жестокий закон Иванов решил нарушить, исходя из своего командирского права принимать решения по обстановке. Что толку от людей, не занятых борьбой за живучесть? Пусть меньше будет жертв… Трудно принимать безошибочные решения в считаные секунды да ещё в отравленной атмосфере, да ещё не располагая полной информацией о том, что горит. Но распоряжение Иванова наддуть смежные отсеки было спасительно правильным: когда «лишние» моряки переходили во второй отсек, угарный газ не пошёл вслед за ними, жилой отсек не задымили. В тусклом свете аварийного освещения дым сгустился до того, что уже не видно было и пальцев на вытянутой руке. Сизый дым пластами стелился по пультам, приборным панелям… Пот катился градом — ведь на средней палубе полыхало пламя. Третий отсек превращался в газовую камеру смерти. Труднее всего было на пульте, с которого управляли реактором. С этого поста не уйдёшь, умри, но обеспечь подводному кораблю ход, иначе всем хана. Чаще всего так оно и случалось — пультовики-управленцы погибали в своих выгородках, держа до последнего пальцы на кнопках. Так погибла вахта в посту управления ГЭУ — главной энергетической установки — на атомной подводной лодке К-8. Так погибли в сентябре 1975 года три капитана-лейтенанта во время пожара на атомарине К-47, командиры групп дистанционного управления. Так погиб на К-19 старший лейтенант-инженер Сергей Ярчук. Он умирал, отравленный угарным газом на глазах своего командира капитана-лейтенанта Милованова, который не мог оторваться от управления реактором ни на секунду… Обо всём этом был немало наслышан и командир дивизиона движения К-424 капитан 3-го ранга-инженер Владимир Морозов, обеспечивавший ход подводного ракетоносца. Понимая, что он обречён, Морозов написал командиру предсмертную записку (переговорное устройство вышло из строя): «Товарищ командир, Ваше приказание выполнили — ход корабля обеспечен. Теряю сознание, но остаюсь на посту».
Николай Иванов:
— Я приказал всплывать на перископную глубину и готовиться к пуску системы ЛОХ. Честно говоря, побаивался её включать, был немало наслышан о её смертносном воздействии на тех, кто не успел надеть маски…
Огнегасящий газ фреон можно пустить из баллонов станции ЛОХ в любой отсек. Фреон великолепно тушит огонь, но опасен для человека, как и любой не поддерживающий жизнь газ. Поэтому все, кто был в третьем, включились уже не в ПДУ, портативные дыхательные устройства, эдакие облегчённого типа изолирующие противогазы, которые подводники всегда носят при себе в пластиковых футлярах, а в дыхательные аппараты ИДА-59, чьи баллоны, наполненные кислородом и азотом, позволяют продержаться в дыму и под водой втрое дольше, чем в лёгких ПДУ. По какой-то причине не успели включиться ни в ПДУ, ни в ИДА младший штурман («штурманёнок») лейтенант Н. Шемитов и мичман Е. Баламатов и тут же жестоко поплатились…
Николай Иванов:
— Мне приносят в центральный пост записку. Красной пастой торопливо начёркано: «У нас два трупа. Погибли Шемитов и Баламатов…» А тут ещё инженер-механик капитан 2-го ранга Анатолий Чумак с докладом: «Товарищ командир, половина дыхательных средств уже израсходована. Ещё полчаса, и погибнем все…» Сам еле на ногах стоит — наглотался дыма, пока отдавал распоряжения. Ведь всякий раз надо маску снимать… Ну, думаю, семь бед — один ответ. Раз трупы на борту, всё равно с должности снимут, чёрт с ней, со скрытностью, надо всплывать.
Это сейчас легко рассказывать — под водочку с домашними огурчиками, а тогда капитан 1-го ранга Николай Иванов, как никто другой, понимал, что всплытие невозможно — над головой многометровые паковые льды. Если только не произойдёт чуда… И чудо произошло! Произошло, быть может, только потому, что командир был наречён именем небесного заступника моряков — Николая Чудотворца. Другого объяснения тому, что среди ледяных гор вдруг возникла полынья, затянутая всего-навсего лишь метровой толщины льдом, — нет. Подводный крейсер проломил его, как нож яичную скорлупу, и всплыл под низким серым январским небом приполюсного круга Где-то далеко на юге оставались северные отроги Шпицбергена…
Николай Иванов:
— Первым делом надо было вынести на мостик пострадавших. Но как это сделать, когда бездыханные тела совершенно не держатся в вертикальной шахте рубочных люков? И не подхватить их сверху — глубоко, и не протолкнуть снизу — высоко. Попробуй вытащи из колодца утопленника. Выход из ситуации нашёл наш боцман.
— Товарищ командир, а если мы их привяжем к койкам да так и поднимем?!
— Действуй!
Сняли подвесные койки, привязали к ним тела лейтенанта и мичмана и без особых проблем подняли их на мостик, в ограждение рубки. Теперь за дело взялся лодочный врач капитан Анатолий Двояковский. Он стал делать им искусственное дыхание. И тут произошло ещё одно чудо! Покойники ожили. Тяжело отравленные парни стали дышать. Если бы на Иванова не смотрели во все глаза подчинённые, он бы, наверное, перекрестился: слава богу, вернёмся без трупов!
Отдышался наверху и инженер-механик Анатолий Чумак, угоревший едва ли не больше всех. Командир подниматься на мостик не стал, хотя соблазн глотнуть свежего воздуха был очень велик. Но Иванов был нужен в центральном…
Пламя удушили фреоном. Третий отсек провентилировали. Стали разбираться, что же произошло. И тут впору было разразиться трёхэтажным матом. Но Иванов — сдержался. Начальник химической службы капитан-лейтенант Н. Симонов установил, что молодой матрос тайком закурил в гальюне, а окурок сунул в угольный фильтр. Почти чистый углерод не замедлил воспламениться. Возник эффект мартеновской печи. Огонь был такой, что расплавилась стальная переборка гальюна. Поскольку фильтр выходил в выгородку с запчастями, то создалось впечатление, будто горят ящики; их безуспешно пытались раскидать и в результате завалили вход в гальюн… От копеечной свечи, говорят, Москва сгорела. А от поганого окурка едва атомоход не сгорел. Молодого матроса даже под суд отдавать не стали: что с безотцовщины взять? Курить начал с третьего класса. И хотя на К-424 была специальная каюта для табакуров, юный разгильдяй зажёг сигарету там, где ему вздумалось.
Из того похода К-424 вернулась своим ходом — без жертв, без потери скрытности, выполнив все поставленные задачи. Даже птицы в зоне отдыха, весьма чувствительные к газовому составу воздуха, и те остались живы. На причале в Гаджиево корабль встречали с оркестром.
Николай Иванов:
— Когда я доложил встречавшему нас начальнику штаба дивизии капитану 1-го ранга Хренову о том, что у нас был пожар, тот оборвал марш на полутакте. Оркестр затих.
«Давай поподробнее!» — Голос его не предвещал ничего хорошего. Доложил всё, как было. А в ответ сразу же упрёк:
— Почему так много дыхательных средств израсходовали? А если бы был второй пожар?
— У меня был первый пожар, и если бы я его не потушил, второго бы уже точно не было…
Разбирались с командиром долго и строго.
Разумеется, никаких наград за решительные и грамотные действия по борьбе с пожаром подо льдом никто не получил. От серьёзного наказания (командир отвечает за всё, даже за то, что военкоматы присылают на подводный флот умственно неполноценных парней) Иванова вольно или невольно уберёг командующий флотилией вице-адмирал Лев Матушкин, который объявил командиру К-424 строгий выговор. И хотя дело дошло до командующего флотом и выше, ограничились «строгачом», ведь за одно прегрешение наказывать дважды по уставу не положено.
— Но самое страшное было впереди, — усмехается Иванов. — На другой день начинался очередной съезд партии и все экипажи развели по ленинским комнатам смотреть по ТВ торжественное открытие. А у нас, как назло, телевизор отказал. Не работает. Проверяющие из политотдела ходили по этажам. Если бы донесли, что «экипаж К-424 не смотрит открытие исторического события в жизни советского народа», о-о, такой бы шум поднялся, всё бы нам сразу припомнили. Но лодочные умельцы за полчаса наладили «ящик». Опять пронесло! Чудом.
Я заму выговор объявил — за «неготовность средств технической пропаганды». Тот обиделся — и в политотдел. Там взвились: как — в день открытия партийного съезда командир замполиту выговор объявляет?! Самодурство, аполитично! В истории флота такого не было!..
Но в истории флота не было и такого, чтобы подо льдами пожар тушили. А мы это сделали. В конце концов в Москве разобрались, из какого пекла мы без потерь выбрались. Представили меня к ордену Красной Звезды, но кто-то на самом верху посчитал — молод ещё, все ордена впереди.
И ушёл я в новую автономку. Но это уже другая история.
Если бы не безошибочные и своевременные действия капитана 1-го ранга Николая Иванова, жертв на К-424 было бы больше, чем на «Курске». Да и экология Центральной Арктики была поставлена под серьёзную радиационную угрозу. Никакой бы «Мамут» не вытащил затонувший ракетоносец с километровых глубин да ещё из-подо льда. Однако ничего этого не произошло. И потому историю с подлёдным пожаром быстро забыли, как и забыли тех, кто действовал в сверхэкстремальной обстановке смело и грамотно. Иванова перевели служить в Москву — преподавателем в Академию ВВС имени Гагарина. Учил авиаторов основам тактики Военно-морского флота. А там и на покой проводили. Вот только при расчёте пенсии забыли про 17 лет службы в Арктике на атомоходах, рассчитали как ординарного преподавателя. Ну ладно, орденом обнесли — не ради наград ходил Иванов под океанские льды, но чтобы так подло урезать пенсион отставному командиру атомного стратега, тут нужно было чугунной совестью обладать. И куда только Иванов ни писал — и министру обороны, и Президенту России, и своему депутату. Ответы приходили витиевато вежливые, но со ссылкой на один и тот же канцелярский казус: прежнее начальство не внесло указание о зачёте полярной выслуги на атомных кораблях в «боковик приказа». Забыло начальство наложить нужную резолюцию в этот самый пресловутый боковик. И никто теперь ничего поделать не может. Нет такой административной силы в стране, чтобы поправить несправедливый приказ. Остаётся утешаться тем, что имя капитана 1-го ранга Николая Иванова внесено не в «боковик приказа», а историю Российского подводного флота.
21 октября 1981 года. Среда, 19.00. Японское море.
Борт дизельной торпедной подводной лодки С-178.
Если что и предвещало несчастье, так это день выхода в море — понедельник. Да ещё крыса, выскочившая вдруг в штурманской рубке. Как и подобает настоящей корабельной крысе, почуявшей беду загодя, она принялась метаться по выгородке совершенно беспричинно, а потом нырнула в трюм центрального поста… Разумеется, ни штурман капитан-лейтенант Александр Левун, ни инженер-механик капитан-лейтенант Валерий Зыбин, наблюдавшие крысиные пируэты, не увидели в них ничего зловещего. Смешно чего-то опасаться в почти штилевом море. Да и выход был пустяковый — сутки в полигоне, сутки на замер шумности — и домой.
Лодка С-178 возвращалась в надводном положении. Огни Владивостока, рассыпанные по сопкам, манили своей близостью. Маяк острова Русский привычно посылал им свои чёткие проблески…
Борт С-178. 19.30.
Старший помощник командира капитан-лейтенант Сергей Кубынин приказал радиотелеграфистам запросить у оперативного дежурного базы «добро» на проход боновых ворот. Разрешение было получено необычно быстро — через пять минут. Кубынин доложил о том командиру — капитану 3-го ранга Маранго, и поспешил с мостика вниз, во второй отсек, составлять график вахт на стоянке в базе. Пока шёл ужин и боевая тревога при входе в узость не была объявлена, можно было ещё успеть зачитать по общей трансляции список заступающих на дежурство по кораблю. Каюта старпома была занята — в ней отдыхал старший на борту начальник штаба бригады подводных лодок капитан 2-го ранга Владимир Каравеков. Старпом устроился в кают-компании, где капитан-лейтенант-инженер Александр Тунер и лейтенант-инженер Марс Ямалов допивали компоты, торопясь покончить с ужином до ревуна боевой тревоги. Кубынин пригласил в кают-компанию и строевого старшину Зыкова, чтобы вместе уточнить список.
В эти минуты — на берегу — оперативный дежурный ушёл тоже на ужин, оставив за себя мичмана. Мичман не знал, что в базу входит подводная лодка, и на свой страх и риск разрешил выход из гавани большому судну — рефрижератору № 13. Рефрижератор уходил надолго в южные моря, и потому многие рыбаки, включая стоявшего на мостике Курдюкова, крепко попрощались с берегом. Говоря проще — были пьяны.
До катастрофы оставались считаные минуты…
19.40 – 19.45.
Инженер-механик С-178 капитан-лейтенант Валерий Зыбин — рослый парень. Родом из Казахстана. Видимо, кому-то из прабабок плеснули в жилы степной крови: в зыбинском лице — в разрезе глаз и скулах — едва заметны азиатские черты. Женат, двое малых детей. Гитарист, охотник, фотограф. Выпускник Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища. В должности два года. В море вышел вскоре после операции — вырезали фурункул, только что сняли швы… Право, этот парень стоит того, чтобы знать о нём подробнее…
Сразу после ужина, пока не заверещали ревуны боевой тревоги: «По местам стоять! К проходу узкости!», Зыбин вылез на мостик выкурить сигарету. Здесь уже была полна коробушка; помимо тех, кого обязывала быть наверху служба — командира, вахтенного офицера, боцмана на вертикальном руле, рулевого-сигнальщика, — вовсю дымили замполит капитан-лейтенант Владимир Дайнеко, штурман капитан-лейтенант Александр Левун, доктор — старший лейтенант медслужбы Виктор Григоревский.
Покачивало. Погода начинала портиться. Но это никого не волновало: слева по борту проплывал берег, густо раззолочённый огоньками Владивостока.
Лодка шла под дизелями: правый работал на винт, левый вращал электромотор в режиме генератора. Чтобы приток воздуха к дизелям был хороший, переборочные двери между третьим, четвёртым и пятым отсеками были распахнуты — «на просос». Потом и это сыграет свою роковую роль.
Зыбин встал под козырёк ограждения рубки, достал сигареты. Вдруг боковым зрением уловил высокую тень, быстро заслонявшую береговые огоньки. Услышал вопль командира:
— Право на борт!!!
Тень стремительно надвигалась. Теперь уже видно было, что это носовая часть огромного судна — океанского рефрижератора.
Вахтенный сигнальщик, старший матрос Ларин, успел навести фонарь Ратьера на надстройку судна и отбарабанил тревожную дробь. Он так и держал свой прожектор — до последнего! — наведённым в лоб надвигающейся громаде. Как будто мог остановить её лучом. Удар!
Кованый форштевень рефрижератора ледокольного типа взрезал левый борт субмарины почти у самой кормы. Острый штевень буквально въехал в электромоторный, шестой отсек. От удара лодка накренилась так, что черпанула рубочным люком. Все, кто стоял на мостике, полетели в воду — в стылую бездну осеннего моря. Секунд через пятнадцать лодка скрылась в чёрной воде. С борта рефрижератора свесилась чья-то голова:
— Эй, внизу! С какого ботика? Черти вас носят!..
Там с пьяных глаз решили, что напоролись на портовый буксиришко.
Прошла добрая четверть часа, прежде чем с рефрижератора в воду полетели спасательные круги. Затем не спеша спустили шлюпку. В ней была груда вёсел и только одна уключина!.. Тогда спустили моторный баркас, но движок не завёлся. На месте затонувшей субмарины клокотали воздушные пузыри…
Первым утонул сигнальщик — старший матрос Ларин: он не умел плавать. Его тело водолазы нашли рядом с корпусом лодки. С рефрижератора сбросили плотик, но его быстро отнесло течением. Подводники держались в ледяной воде больше получаса. Старший лейтенант Соколов, вахтенный офицер, подбадривал матросов:
— Держитесь кучнее, ребята! Не дрейфь, всех подберут!
Но его самого отнесло от рефрижератора волнами. Больше его никто не видел. Не нашли и тела.
Замполит Владимир Дайнеко отдал свой круг матросам, сам держался на надувном жилете. Командир лодки Маранго вцепился в боцмана: оба чуть не утонули. Их подняли первыми.
…В течение часа на рефрижератор № 13, чей нос был смят в гармошку, а форпик затоплен, подняли всех, кого выбросило с мостика, за исключением трёх утонувших: старшего лейтенанта Алексея Соколова (окончил Тихоокеанское военно-морское училище с золотой медалью), старшего матроса Ларина и ещё одного подводника. Спасённых прогрели в душе и напоили горячим чаем. Командира лодки сняли с борта и доставили катером на спасательное судно «Машук» к руководителю спасательной операции — вице-адмиралу Рудольфу Голосову. Но что он мог ему сообщить, кроме того, что и так было известно?!
19.45. Траверз острова Скрыплева. Борт С-178.
Зыбина подбросило и прижало водой к крыше ограждения мостика, током воды его втянуло в шахту верхнего рубочного люка Нечего было и думать, чтобы его задраить. Вода низвергалась сплошным потоком. В стальном колодце нижнего рубочного люка механик застрял вместе с матросом Мальцевым, который кинулся навстречу из центрального поста в рубку герметизировать отсек. Оба застряли плотно и безнадёжно — ни туда ни сюда. Зыбин уже начал задыхаться в мощном потоке студёного водопада, но всё же чудом проскользнул вниз, и матрос Мальцев, сбив стопор крышки, успел захлопнуть люк. Море осталось наверху, навалившись всей смертоносной тяжестью на литой кругляш, перекрывший вход в лодку. В центральном посту стояла непроглядная темень. Тускло фосфоресцировали циферблаты глубиномеров. Палуба уходила из-под ног с дифферентом на корму и креном на левый борт. Кто-то тряс Зыбина за плечо.
— Товарищ командир, что случилось?.. Товарищ командир…
Механик узнал голос старпома Кубынина, впотьмах принявшего его за Маранго. Но ответить ничего не смог. Стоял, застыв в шоке. Смотрел на глубиномеры. Одна из стрелок показывала шесть метров. «Ерунда, — подумал Зыбин, — придавило форштевнем. Сейчас выплывем, и крен отойдёт».
Но крен не отходил. Никто не подозревал, что лодка уже лежала на грунте в мягкой подушке придонного ила с восьмиградусным дифферентом на корму и двадцатидвухградусным креном на левый борт.
— Валера, ты? — ощупал его в темноте старпом.
— Я…
— Надо дуть цистерны правого борта — крен спрямить!
— Эй, в отсеке! Есть кто живой?!
Откликнулись старшие матросы Мальцев и Ананьев.
Взвыл в трубопроводах сжатый воздух. Но лодка не шелохнулась. Слышно было, как бурлил за бортом воздух, бесполезно уходя в море через клапаны вентиляции, приоткрывшиеся от удара.
Никто не знал, где пробоина. В трюме центрального поста хлестала вода. Зыбин предположил — лопнула уравнительная цистерна. Решили дать противодавление. На всякий случай запросили первый отсек.
— Первый, какая глубина?
— Тридцать два метра…
— Вы что, охренели? Продуйте глубиномер!
Через минуту доклад:
— Продули. Всё равно тридцать два!
Зыбин повернул маховичок воздуха высокого давления. В отсеке засвистело. Заложило уши. Поплыли голоса, сделались кукольными, как у Буратино в мультиках.
— Мех, где аварийные фонари? — спросил Кубынин, всё ещё не веря, что они здорово влипли. По закону подлости все аккумуляторные фонари собрали на подзарядку в дизельный отсек. Но ни пятый, ни смежный четвёртый — жилой аккумуляторный отсек — признаков жизни не подавали.
Сергей Михайлович Кубынин — коренной приморец. Родился в 1954 году в семье бывшего моряка-тихоокеанца. Ровесник своей подводной лодки. Окончил ТОВМУ по минёрской специальности. Службу начал сразу командиром боевой части на ракетной дизельной подводной лодке. Женат. Трёхлетняя Леночка. Чемпион училища по морскому многоборью. Часы от главкома за призовую торпедную стрельбу. Характер — рисковый: уже тонул в Амурском заливе, перевернувшись на резиновой шлюпке. Разбил под Ригой свой «москвич» — скапотировал и перевернулся четыре раза. Отделался синяками. Инспектор ГАИ сказал: «Ну, моряк, в двух рубашках родился!» Внешне похож на молодого Михаила Ульянова. Спокоен, обстоятелен, сдержан.
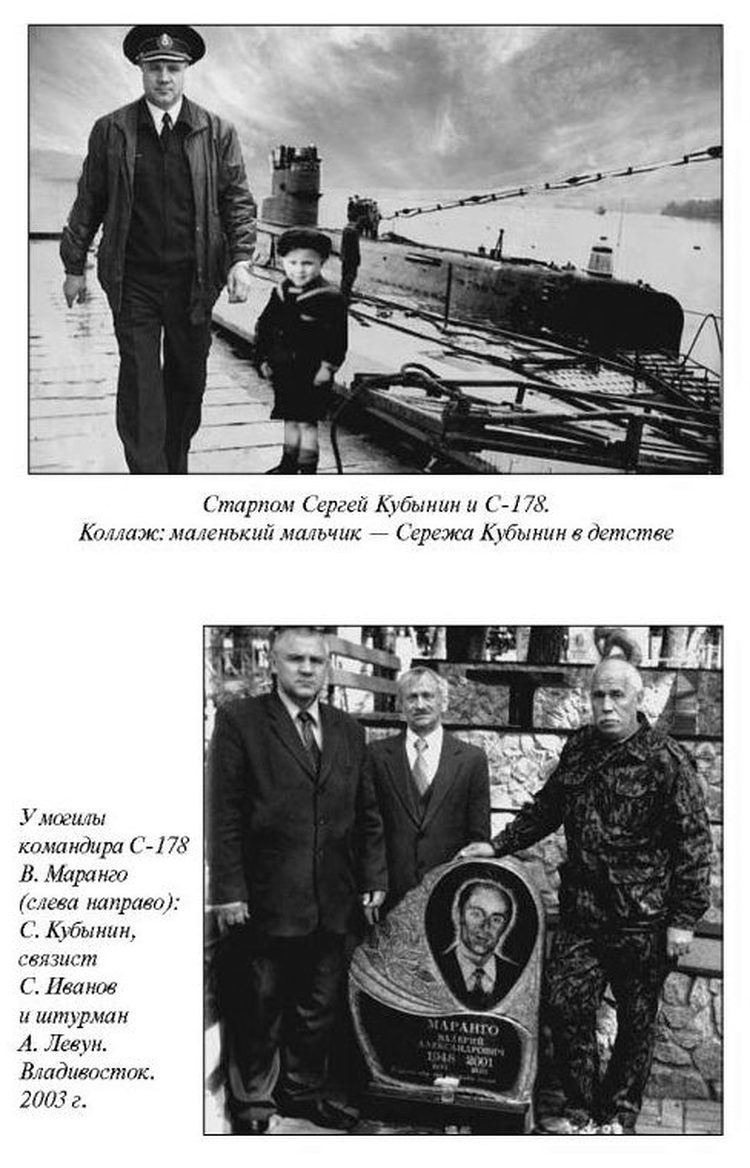
…В момент удара Кубынин сидел в кают-компании и составлял с главстаршиной Зыковым список дежурств, которым — увы! — не суждено было состояться.
Тряхнуло. Повалило. Загремела сыпавшаяся со стола посуда. Погас свет. Первая мысль: «Выскочили на мель!»
— Старпом, что случилось?! — закричал из каюты начальник штаба.
Кто бы знал… Кубынин, не дожидаясь, когда отойдёт крен, выбрался из-за стола и кинулся в центральный пост. С трудом отдраил переборочную дверь и угодил под водопад из шахты рубочных люков. В кромешной тьме принял механика за командира. Дальше стояли в центральном посту рука об руку — боролись за живучесть.
Итак, лодка лежала на грунте. Трюм центрального заполнялся водой, несмотря на то что давление в отсеке повысилось на три атмосферы. Вода хлестала и из четвёртого отсека. Видимо, он заполнился до предела. Кубынин с болью подумал, что там осталось четырнадцать человек.
20.20.
Ясно было, что третий, центральный, отсек не отстоять.
— Все во второй отсек! — скомандовал Кубынин. Сам он перелез в сухой отсек последним, когда вода поднялась уже вровень с комингсом круглой переборочной двери. Задраили лаз и тут же закашлялись от едкого дыма: «механические» офицеры, лейтенанты Тунер и Ямалов, только что потушили бушевавший здесь пожар, но воздух в отсеке сделался таким, что впору было натягивать дыхательные маски. Кроме трёх офицеров (Марса Ямалова, Александра Тунера, Сергея Иванова) во втором отсеке находились ещё два электрика. Кубынин решил немедленно перевести всех в носовой торпедный отсек — отсек живучести, или, как ещё его называют, отсек-убежище, снабжённый всем необходимым для связи с поверхностью и выхода из аварийной лодки. На стук и запрос старпома из первого откликнулись не сразу. Прошло минут десять, пока сквозь переборку не проник голос акустика Федулова:
— Чего надо?
Федулов стоял у рычага кремальеры и никого к люку не подпускал.
— Ну их на… — рычал он. — Сами из-за них погибнем!
Кубынин требовал, чтобы к переборке подозвали начальника штаба. Но Каравеков не подходил. Положение было безвыходным в прямом смысле слова — из второго отсека на поверхность не выйдешь. Центральный пост затоплен. В нос — не пускают. Дышать гарью становилось всё труднее. К тому же пожар мог возобновиться. Федулов чувствовал себя за толстенной переборкой недосягаемым и потому преотчаянно дерзил старпому. Кубынин в бессильном гневе рвал рычаг кремальеры.
Сам ведь учил: аварийный отсек борется до конца. Но в упорстве Федулова было нечто иное, чем следование главной подводницкой заповеди. Ненависть к старпому, давнему своему притеснителю, да страх за собственную жизнь (он был уверен, что во втором всё ещё бушует пожар) заставляли его висеть на рычаге кремальеры. Кубынин недоумевал: почему делами в отсеке правит матрос? Почему молчит начальник штаба капитан 2-го ранга Каравеков?
По подволочным трубопроводам метались ошалевшие от дыма мокрые крысы…
В первом отсеке, когда рефрижератор врезался в лодку, ужинали торпедисты и приписанные к их баку метристы, трюмные и акустики. Раскладной столик с посудой полетел под стеллажные торпеды, погас свет, и всех швырнуло на задние крышки торпедных аппаратов. Удара о грунт никто не почувствовал. Только со свистом пошёл по вдувной вентиляции воздух. Магистраль перекрыли.
Распахнулась переборка, и в круглую дверь пролез начальник штаба. Был он бос и бледен, держался рукой за больное сердце. Каравеков с трудом лёг на подвесную койку и отдал единственное распоряжение: «Выпустить аварийный буй». Матросы открутили стопор, и большой красный поплавок с телефонной трубкой внутри всплыл на поверхность.
Дверь за Каравековым задраили и никого больше не впускали.
Командир отделения метристов старшина 2-й статьи Лукьяненко снял трубку межотсечного телефона, прощёлкал переключателем по всем семи позициям. Отсеки молчали — третий, четвёртый, пятый, шестой… Вдруг откликнулся последний — кормовой — седьмой. Ответил закадычный друг Лукьяненко, Слава Костылев, командир отделения трюмных.
— Серёга, как у вас? — спросил Костылев.
— Нормально. А у вас?
— Нас топит. — Ответили из седьмого.
— Сколько у вас народу? Включайтесь в «ИДАшки»!
— Четверо нас. У Рябцева нет «ИДАшки».
— Ребята, — кричал Лукьяненко. — Затапливайте отсек и выходите через аварийный!
Чтобы открыть аварийный люк, нужно было сравнять давление в отсеке с забортным. Для этого надо было частично затопить отсек. Но на клапане затопления не оказалось барашка. Того самого барашка, за который хватаются пальцы, чтобы провернуть шток клапана. Кто и зачем его снял, кому он помешал? Теперь эта копеечная деталька стоила целых четыре жизни!
— Ребята, — орал в трубку Лукьяненко, — топите отсек через любое отверстие!
Поздно. Матросы стояли по пояс в воде. В темноте не удалось найти приставной трап к тубусу люка. Костылева подсадили на руках. Тот бил кувалдой в рукоятку запора, но открыть так и не смог. От деформации прочного корпуса — удар рефрижератора был слишком силён — запор заклинил намертво. Позже, когда лодку поднимут, даже сверху люк отдраили с превеликим трудом — ломом.
На исходе сороковой минуты телефонная мембрана донесла до Лукьяненко слабый голос Костылева:
— Серёга, прощай… Дышать больше нечем…
И всплеск воды — швырнул трубку в воду.
Их так и нашли, всех четверых, под тубусом аварийного люка. Единственное, что они успели сделать — выпустить кормовой буй, и тот вкупе с носовым чётко обозначил на поверхности положение затонувшей субмарины.
21 октября. 20.30. Борт С-178.
Прошло уже два часа, а переборочную дверь в первый отсек им так к не открывали. Кубынин почти отчаялся: ведь не вышибешь же 300-килограммовую круглую дверь из литой стали. Сколько ни рвал рычаг кремальерного запора — стальная кривулина толщиной с руку не подалась ни на миллиметр. Видимо, с той стороны сунули под зубчатку болт. И тут он услышал голос старшины 2-й статьи Сергея Лукьяненко. С Лукьяненко у старпома, несмотря на огромную разницу в служебном положении, отношения были почти приятельские. Их связывала общая страсть к автомобилям.
— Серёжа! — прокричал Кубынин тёзке. — Будь другом — открой!
И Лукьяненко открыл.
Взбешённый старпом ворвался в отсек.
— Где начальник штаба?
Ему кивнули на койку, где, поджав под себя босые ноги, лежал Каравеков. Кубынин поостыл.
— Что, Владимир Яковлевич, плохо? — спросил старпом.
— Плохо… Сердце прихватило.
Каравеков вообще не отличался здоровьем. Весь недолгий поход глотал таблетки. Он уже как неделю списался на берег, но в штабе упросили сходить в море — в последний раз… Так оно и вышло.
Старпом схватил телефонную трубку — надо было срочно позвонить в седьмой отсек, растолковать задраившимся там матросам, как выходить из лодки. Но мембрана доносила только бульканье пузырей. Эх, впустили бы в отсек на часок раньше! Старпом не сомневался, что смог бы помочь отрезанным подводникам дельным советом. Однако надо было думать теперь о живых… Их в носовом отсеке скопилось тридцать две души. Люк между первым и вторым оставили открытым.
Во втором каким-то чудом ещё светилась лампа-переноска. Но скоро погасла, когда центральный пост затопило полностью. Теперь мрак едва рассеивала только крохотная лампочка подсветки вольтметра на панели радиосигнального устройства (РСУ). Командир боевой части связи и радиотехнической службы капитан-лейтенант Иванов установил связь с поверхностью (носовой буй работал как антенна). Сверху, из мира живых, им сообщили, что на подходе спасатель «Жигули», а главное — спасательная подводная лодка «Ленок». Спешат также большой противолодочный корабль «Ворошилов» с вертолётом на борту и катер командующего Тихоокеанским флотом «Тайфун». В отсеках приободрились.
— Спасут, ребята! — сказал старпом. — Только без паники! Иначе хана.
Предупреждение это относилось в первую очередь к радиотелеграфисту Пашневу (москвичу) и рулевому-сигнальщику Хафизову, которые нервничали больше всех. Тем временем механик Зыбин пересчитал дыхательные аппараты. Не хватало десяти «идашек». К тому же некоторые гидрокомбинезоны оказались прогрызенными крысами.
Сообщили на поверхность, что для выхода из лодки необходимо ещё десять комплектов. Сверху их пообещали передать через торпедные аппараты, как только придёт «Ленок» с водолазами.
…На связь с поверхностью выходили по радиотелефону через каждые 30 минут. Но к шести утра разыгравшийся шторм оборвал буй-антенну и приёмник замолк, проверили аварийные провизионный бачки — пусты. Это уж как водится, увы, почти на всех подлодках. Сгущёнка и галеты из неприкосновенного запаса — «законная» добыча годков. Нашли три кочана капусты и несколько банок консервированной свёклы. Из сухой провизионки во втором отсеке достали крупу и несколько пачек макарон. Грызли всё это потихоньку, прислушиваясь к шуму винтов над головой.
22 октября 1981 года. 12.00. Борт С-178.
Глубина 32 метра, крен 22 градуса на левый борт. Дифферент 8 градусов на корму.
Старпом и механик, посовещавшись, решили выпустить кого-нибудь наверх для связи со спасателями. Выбор пал на капитана-лейтенанта Иванова. В помощь довольно щуплому связисту снарядили здоровяка-алтайца — старшего матроса Мальцева. Одели их в гидрокомбинезоны, навьючили баллоны индивидуальных дыхательных аппаратов ИДА («ИДАшки»).
Подготовили для выхода подводников 4-й торпедный аппарат (верхняя труба по правому борту).
— Ребята, вылезете — простучите три раза, — наставлял их Кубынин. — По этому сигналу закрываем переднюю крышку. Будьте осторожны, чтобы не защемило. Тогда и вам — хана, и нам.
Первым как более сильный влез Мальцев, следом Иванов. За ними задраили заднюю крышку, простучали: «Как самочувствие?», стуком ответили: «Нормально». Им простучали два раза, что означало: «Открываем переднюю крышку!»
Иванов и Мальцев напряглись в ожидании удара. Чтобы бешеный поток врывающегося моря не смыл их к задней крышке, оба прижались к нижней стенке, растопырили руки-ноги и пригнули головы. Этой паре старпом приказал вытолкнуть буй-вьюшку, прицепив её к волнорезному щиту карабином. Как позже выяснилось, буй-вьюшка зацепилась в нише торпедного аппарата и наверх из неё вышла лишь небольшая петля. За неё Иванов и Мальцев держались какое-то время, чтобы хоть как-то соблюсти режим декомпрессии. Затем оба всплыли. Их подобрали и быстро отправили в лазарет.
22 октября. 20.00. Борт С-178.
Сверху по-прежнему никаких сигналов. Настроение резко упало. Дрожали от холода, сбились на койках в тесные группки. Натянули ватники, шинели, одеяла. Кое-кто пошарил в каютах второго отсека, и матросы разжились офицерскими тужурками и кителями. Гадали: удалось ли Иванову с Мальцевым выйти на поверхность? А если удалось, то подобрали ли их стоящие суда?
Кубынин уверял, что в заливе сейчас сосредоточены все спасательные силы флота, что к утру обязательно подадут воздушные шланги. Ему слабо верили. Больше всех хандрили Пашнев и Хафизов. Остальные первогодки — матросы Анисимов, Шарыпов, Носков — держались хорошо. Старпом велел «слабакам» облачаться в гидрокомбинезоны. В помощь им назначил старшего матроса Ананьева, старшину команды трюмных.
Кубынин тщательно проинструктировал троицу: не торопитесь всплывать! Заберитесь на рубку и сделайте там выдержку — всё-таки метра на три-четыре поближе к поверхности. Но Пашнев и Хафизов были так перепуганы, что почти ничего не воспринимали.
Они вышли, Ананьев дал три условных стука — один за всех. Больше их не видели… Вероятно, на поверхности их просто не заметили в вечерних сумерках. К тому же из-за сильного волнения все суда отвели от места катастрофы за остров Скрыплева. Акваторию освещали световыми бомбами, сбрасываемыми с вертолётов. Всех троих унесло в океан.
22 октября. 21.00. Борт С-178.
Спустя полчаса после выхода второй группы по корпусу носового отсека постучали наконец водолазы. Это подошла и легла на грунт в 50 метрах от затонувшей «эски» спасательная подводная лодка «Ленок».
Водолазы засунули в открытую трубу торпедного аппарата четыре ИДА с комплектами гидрокостюмов. В одной из «идашек» нашли записку: «По получении всех аппаратов ИДА будете выходить из торпедных аппаратов методом затопления отсека. От волнорезных щитков протянут трос на „Ленок“. Вас будут встречать водолазы. Ждите ещё две кладки». Старпом спрятал записку в нагрудный карман кителя — отчётный документ. С этой минуты он завёл что-то вроде вахтенного журнала, записывая распоряжения сверху и свои приказания на чистых страницах инструкции к ИДА.
Новой кладки долго не было. Шла вторая ночь на грунте. Регенерация работала плохо. Она иссушила воздух так, что матросы жаловались: «пересыхает в груди», «лёгкие подсушило».
Давал знать о себе и холод. Чтобы занять людей и скоротать время, Зыбин и Тунер организовали замер давления в баллончиках «идашек». Давление в норме. Это слегка успокоило народ. Старпом разыскал «шильницу» (плоская жестяная фляжка для спирта, на языке подводников «шила») и разлил для «сугрева» по 20 граммов на брата. Подводники повеселели.
Потом Кубынин нашёл во втором отсеке коробку с жетонами «За дальний поход». Пришла мысль: вручить их вместе со знаками классности нынче же, прямо здесь, в аварийной лодке, на дне Японского моря. Как-никак, а все они сдавали сейчас самый страшный экзамен — на выживание.
Старпом надел командирскую фуражку с золотыми «дубами» на козырьке и стал выкликивать отличившихся:
— Старшина 2-й статьи Лукьяненко!
— Я!
— Ко мне!
Механик держал пальцами, клеммы разбитого аварийного фонаря, направив лучик на старпома.
— От имени главнокомандующего ВМФ награждаю вас жетоном «За дальний поход».
— Служу Советскому Союзу!
— Старший матрос Кириченко.
— Я!
— За смелые и решительные действия объявляю вас специалистом 1-го класса!
Достав из кармана коробочку с корабельной печатью, Кубынин при свете аварийного фонаря вписал в военный билет новую классность и скрепил подпись гербовым оттиском.
Матросы весело загудели.
23 октября. 3.20. Борт С-178.
Посовещавшись с механиком, Кубынин решил выпустить третью группу. Соображения были такими:
1. Надо, чтобы вышедшие поторопили спасателей со второй кладкой.
2. Начальнику штаба становилось с каждым часом всё хуже и хуже: пока может двигаться — пусть выходит.
Кроме Каравекова в третью партию включили командира моторной группы лейтенанта-инженера Ямалова (новичок, только что из училища) и акустика матроса Микушина, конченого пьяницу и нытика (взяли его в поход последний раз перед списанием на берег и отправкой домой). Всех троих одели в гидрокомбинезоны, зажгутовали.
— Владимир Яковлевич, — просил старпом, — скажите там, наверху, что нам нужно ещё шесть «ИДАшек». Пусть ускорят подачу!
Первым в узкую шестиметровую трубу забрался Ямалов, ему в ступни уткнулся головой Микушин, затем вскарабкался Каравеков, но тут же вылез обратно. Он хватался за сердце и быстро переключал аппарат на «атмосферу». Его разжгутовали, дали отдышаться. Начальник штаба был бледен. Капли пота дрожали на стёклах маски.
— Ну что, Владимир Яковлевич, вперёд?!
— Вперёд…
Это было последнее его слово…
Каравеков влез в аппарат. За ним задраили крышку. Дважды раздался троекратный стук. Вышли! И тут же застучали в корпус водолазы. Копались они часа три, затем дали сигнал: «Закрыть переднюю крышку, открыть заднюю».
Повернув 42 оборота ключом-«розмахом», старший торпедист Кириченко распахнул заднюю крышку и отпрянул: из трубы осушенного аппарата торчали ноги Каравекова, обтянутые мокрой резиной. Начальник штаба не подавал признаков жизни.
Снова потухли глаза, поникли головы. Покойник в отсеке…
Из трубы торпедного аппарата достали ещё четыре «ИДАшки», два аккумуляторных фонаря и резиновую сумку с консервами и соками. Есть никому не хотелось, несмотря на то что истекали вторые сутки.
— Ешьте, ребята! — настаивал старпом. — Иначе сил не хватит на выход.
После приёма второй кладки выяснилось, что теперь «ИДАшек» хватает на всех (нашли ещё несколько во втором отсеке). Теперь можно выходить всем!
Простучали водолазам: «Готовы к выходу». Но те, видимо, не поняли — ответили двумя ударами: «Закрывайте крышку». Разумеется, они не знали, что подводники разыскали в отсеке новые аппараты и теперь у них полный комплект. Как договорились ранее, спасатели намеревались передать третью кладку и потом недоумевали, почему в отсеках готовы к выходу. Водолазы настойчиво требовали закрыть переднюю крышку, а Кубынин с не меньшей настойчивостью отстукивал: «Готовы к выходу». Эта перепалка длилась добрых полчаса. Наконец водолазы стукнули один раз: «Выходите».
23 октября. 15.00. Борт С-178.
Стали готовить отсек к затоплению. Все надели гидрокомбинезоны. Отсек начал заполняться водой. Это были самые тягостные и самые мучительные часы. И без того плотный воздух сжимался всё больше. Дышать стало очень трудно. Вредные газы, наполнявшие в преизбытке отсечный воздух, стали ещё токсичнее, ещё вреднее. Темнело в глазах, кружилась голова. А вода, обжимая ноги, живот, грудь, медленно подступала к подбородку.
Зыбин подплыл к Кубынину.
— Ну что, Серёга, давай открывать крышку.
За рукоять «розмаха», открывающего переднюю крышку, взялся сам старпом, потом его сменил Кириченко, затем Лукьяненко. Надо было сделать 42 оборота, но каждый проворот ключа стоил невероятных сил: градом катил холодный пот, чернело в глазах. Сказывалось отравление углекислотой. С облегчением убедились, что воздух, сдавленный в отсеке, никуда не травится. Открыли заднюю крышку. Теперь отсек сообщался с морем напрямую — через трубу торпедного аппарата № 3.
— Ну, пошли, мужики! — скомандовал старпом.
Пошли, как стояли на стеллажной торпеде: Шарыпов, Тунер…
Едва лейтенант Тунер, окунувшись с головой в воду, вполз в торпедную трубу, как в маску ему уткнулись ступни Шарыпова. Матрос пятился. Он вылезал обратно. Тунер вынырнул, а вслед за ним в воздушной подушке появилась и голова Шарыпова. Шарыпов переключил аппарат на «атмосферу» и отрывисто выкрикнул:
— Аппарат… завален… «ИДАшками»…
Так вот почему водолазы упорствовали: они сделали третью кладку! Теперь выход в море забит тяжёлыми «ИДАшками».
Матрос Киреев не вынес этого известия и потерял сознание. Его не стали разжгутовывать — бесполезно. Вода стоит выше груди. Ему поддули из баллончика гидрокостюм, и Петя Киреев лежал на воде, как резиновый матрас. Старпом подгрёб к механику:
— Валера, попробуй стащить «ИДАшки» сюда или вытолкнуть за борт.
Зыбин нырнул в трубу, пополз вперёд. Из-за положительной плавучести его всё время прижимало к своду аппарата. На тренажёрах такого не было. Там труба заполнялась чуть выше половины и ползти было куда легче. Подёргал первую суму с «ИДАшкой» — ни туда, ни сюда. Неужели всё? Конец? Так глупо…
Зыбин упёрся ногами, подтянулся за направляющую для торпед и головой — молясь и матерясь — выпихнул все три сумы за борт. В глазах вспыхнули огненные искры. Подумал: «Теряю сознание», но, присмотревшись, догадался — искрит планктон. Возвращаться в отсек не было смысла: воздух в баллончиках на пределе.
Зыбин дал три удара — «выход свободен» и вылез из трубы в нишу торпедного аппарата.
…Услышав три зыбинских удара, в отсеке возликовали и едва не закричали: «Ура!» Путь к жизни свободен! Один за другим подводники приседали и ныряли в трубу. Самым последним, как и подобает командиру корабля, покидал отсек старпом. Кубынин посветил фонарём — все ли вышли? Все. Лишь плавал, поддерживаемый надувным костюмом, Петя Киреев. Кубынин попробовал притопить его и впихнуть в аппарат. Матрос не приходил в сознание, а проталкивать бездвижное тело целых шесть метров по затопленной трубе Сергей не решился. Он и без того чувствовал себя на пределе сил. Отравленная кровь гудела в висках и ушах, ныло в груди лопнувшее лёгкое. С трудом прополз по трубе. Выбрался на надстройку, огляделся: никого нет. (У водолазов как раз была пересменка.) Решил добраться до рубки и на её верху выждать декомпрессионное время, а затем всплыть на поверхность. Потом потерял сознание. Его чудом заметили с катера…
Сергей пришёл в себя в барокамере на спасателе «Жигули». В вену правой руки была воткнута игла капельницы, но боли он не ощущал — лежал в полной прострации. Врачи поставили ему семь диагнозов: отравление углекислотой, отравление кислородом, разрыв лёгкого, обширная гематома, пневмоторакс, двусторонняя пневмония…
По-настоящему он пришёл в себя, когда увидел в иллюминаторе барокамеры лица друзей и сослуживцев: они беззвучно что-то кричали, улыбались. Ребята, не боясь строгих медицинских генералов, пробились-таки к барокамере…
Потом был госпиталь. В палату к Кубынину приходили матросы, офицеры, медсёстры, совсем незнакомые люди; жали руку, благодарили за стойкость, за выдержку, за спасённых матросов, дарили цветы, несли виноград, дыни, арбузы, мандарины. Это в октябрьском-то Владивостоке! Палату, где лежал Кубынин, прозвали в госпитале «цитрусовой»… Сергея огорчало только одно: комбриг изъял у него корабельную печать, особисты-чекисты забрали вахтенный журнал, а с кителя кто-то отцепил жетон «За дальний поход» и отвинтил командирскую «лодочку»…
Через несколько дней после того, как С-178 обезлюдела под водой, во втором отсеке вода медленно подобралась к кабельным трассам батарейного автомата и тот снова вспыхнул. Глубоко под водой в отсеке погибшей подводной лодки полыхал поминальный костёр…
О том, какой эта трагедия предстала глазам спасателей, поведал в своей книге «Продуть балласт» вице-адмирал Рудольф Александрович Голосов, бывший в ту пору начальником штаба Тихоокеанского флота:
«21 октября 1981 г. в конференц-зале штаба флота под руководством командующего происходил разбор учения. Примерно в 20.15 в зал торопливо вошёл ОД флота с встревоженным лицом:
— Товарищ командующий! Получено сообщение от Дальневосточного пароходства, что на выходе из пролива Босфор Восточный в трёх милях от острова Скрыплева траулер „Рефрижератор-13“ столкнулся с подводной лодкой. Лодка погрузилась. Объявлена тревога спасательному отряду.
Командующий приказал мне немедленно выходить в указанный район и разбираться на месте. Через полтора часа спасательное судно (СС) „Машук“ снялось с якоря и швартовых в бухте Улисс и направилось к острову Скрыплева. Из штаба флота сообщили, что „Рефрижератор-13“ поднял с воды семь человек из экипажа лодки, в том числе командира С-178 капитана 3-го ранга Маранго. Попросил побыстрее доставить его на борт СС, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.
В районе столкновения обнаружили два аварийно-спасательных буя ПЛ. Один, как оказалось, носовой, светил, второй был тёмен. Приказал стать на якорь в трёх кабельтовых от буя, направить к нему катер и попытаться установить связь с подводниками.
Подошёл катер с капитаном 3-го ранга Валерием Маранго. Пригласил его в каюту. Сели, закурили. Вид у него несколько ошалелый, и взгляд как будто направлен внутрь себя. Однако рассказывает вполне толково и понятно.
С-178, дизельная ПЛ проекта 613, возвращалась во Владивосток из полигона боевой подготовки. На лодке находились 59 человек. Старший на борту — начальник штаба бригады капитан 2-го ранга Владимир Каравеков. Поскольку с входом в Босфор Восточный надлежит объявлять боевую тревогу, решили до этого дать экипажу поужинать, следуя по боевой готовности № 2 надводная. Работал один дизель, скорость 8–9 узлов. Видимость полная ночная. На мостике находились командир, вахтенный офицер, рулевой, сигнальщик и несколько моряков свободной смены, куривших после ужина. Всего человек 10–11. Вдруг, совершенно неожиданно, сразу несколько человек обнаружили слева градусов 30–40 на фоне ярких огней Владивостока зелёный отличительный огонь встречного судна. Дистанция оказалась очень малой. Командир успел лишь скомандовать: „Право на борт!“ Едва лодка начала поворот, как мощный удар в левый борт резко накренил её, и командир был выброшен за борт. Когда через несколько секунд вынырнул, увидел рядом лодку, уходящую кормой в воду с поднятым носом. Рыбаки поначалу посчитали, что зацепили какой-то буксирчик, поскольку ходовые огни на лодке расположены достаточно низко над водой. Когда разобрались, перестали материться, спустили бот и занялись спасением плавающих людей. Семь человек подняли, остальные, скорее всего, утонули. Больше командир ничего не знал.
Картина была ясной, но для моей миссии давала мало. Как потом оказалось, траулер уходил на промысел, команда была в приличном подпитии. Выходили полуподпольно, не получив должного разрешения дежурной службы порта и информации, что на входе подводная лодка. Чтобы не засекли посты наблюдения, ходовые огни, очевидно, не включали, а когда обнаружили огни С-178 и включили свои, было поздно.
В район подошли малый противолодочный корабль и сторожевик. Определил им точки якорной стоянки с задачей не допускать в район посторонние суда.
Около 0.30 22 октября удалось установить связь с моряками в первом отсеке затонувшей ПЛ. К счастью, радиосигнальное устройство аварийного буя оказалось исправным, что позволило поддерживать связь переносной радиостанцией непосредственно с мостика „Машука“. Поначалу полагал, что разговариваю с начальником штаба, но оказалось, что он с больным сердцем находится в стрессовом состоянии. Руководил всем старпом лодки капитан-лейтенант Сергей Михайлович Кубынин. Он доложил, что отсеки, кроме первого и второго, затоплены. В этих двух отсеках 25 человек. На всех имеются спасательные аппараты „ИДА-59“ и гидрокомбинезоны для выхода на поверхность. Есть некоторый запас средств регенерации воздуха, пресной воды и продовольствия. Личный состав остальных отсеков, очевидно, погиб. Лодка лежит на грунте с небольшим креном и дифферентом на корму, глубина моря 37 метров. Через некоторое время старпом уточнил, что часть спасательных аппаратов и снаряжения неисправна и требуется их замена. Негусто и с продовольствием. Я передал на лодку, что основным вариантом спасения предполагаю выход через торпедный аппарат, к чему им надлежит готовиться. О способе передачи недостающего снаряжения и продовольствия сообщу позже.
Взвесив и оценив имеющиеся у нас возможности, предложил командующему, с которым непрерывно поддерживалась радиосвязь, использовать для работ находившуюся во Владивостоке спасательную подводную лодку (СПЛ) проекта 940, недавно принятую в состав флота. Впоследствии в СМИ она получила известность под названием „Ленок“. Кораблю объявили боевую тревогу, и в 01.30 СПЛ прибыла в район. Обсудив с командиром обстановку и возможности „Ленка“, окончательно утвердился в оптимальном, по моему мнению, плане спасательных работ.
Решил, что СПЛ должна лечь на грунт рядом с С-178 так, чтобы её водолазы могли работать в районе торпедных аппаратов, выходя из шлюзовой камеры. Они передадут через торпедные аппараты на затонувшую лодку недостающее снаряжение, продовольствие и будут помогать подводникам при выходе, направляя их в шлюзовую камеру СПЛ. Если удастся вывести людей в СПЛ, не возникнет проблем с кессонным заболеванием, поскольку на „Ленке“ имеется барокамера и соответствующий медперсонал, не будет резкого и опасного перепада давления, как в случае их выхода на поверхность. Этот вариант менее зависел от погоды, которая явно начинала ухудшаться, и, как я полагал, потребует меньше времени, что становилось решающим фактором для сохранения жизни подводников. Температура в первом отсеке С-178 приближалась к температуре забортной воды, регенерация воздуха в этих условиях работала неэффективно, освещение в отсеке отсутствовало. Аварийных фонарей не оказалось, а батарею аварийного буя быстро разрядили, используя для подсветки в отсеке. Из-за этого около полудня прекратилась и наша связь с лодкой. Оставалось надеяться на достаточно подробный инструктаж старпома, который удалось сделать, пока связь действовала. Всё это не улучшало настроения моряков, молодых ребят, едва перешагнувших 20 лет. О чём думалось каждому из них в кромешной мгле холодного сырого отсека, не всякий сможет и представить. Решающую роль в поддержании морального духа подводников сыграл старпом, равно как и в организации последующего выхода из отсека.
Мои предложения командующий утвердил немедленно. Оставалось их реализовать. Насколько было известно, опыта подобных операций не имелось ни в ВМФ, ни в мире. „Ленок“, махину весом около 6 тысяч тонн, требовалось с ювелирной точностью положить не дальше 50 метров от затонувшей лодки. Расстояние лимитировалось длиной шлангов водолазов. Для подводного маневрирования СПЛ имела подруливающие устройства, но командир при этом визуально ничего не наблюдал, ориентируясь лишь по приборам. Положение осложнялось тем, что аккумуляторная батарея СПЛ была частично разряжена, лодка вышла в море по боевой тревоге.
Пока доставили из Владивостока недостающее снаряжение, пока перегружали на СПЛ при усилившемся ветре, время шло. Наконец около 8.30 „Ленок“ смог погрузиться и начать под водой поиск лодки. С „Машука“ с ним поддерживали звукоподводную связь. Только через четыре часа командир донёс, что лодку нашёл и пытается положить СПЛ рядом. Мешает сильное подводное течение. Через некоторое время доклад — контакт с лодкой потерян, снова начали поиск.
В таких ситуациях, когда физически ощущаешь, как время неумолимо уходит, а ты только слушаешь доклады и помочь можешь лишь тем, чтобы не мешать, очень тяжело. Оставалось сидеть, курить и прокручивать в голове возможное развитие событий, чтобы чего-нибудь не упустить и всё предусмотреть. Цена ошибки — жизнь людей.
Около 21 часа „Ленок“ снова обнаружил лодку и вскоре опять потерял. Никак не могли приноровиться к течению. Винить экипаж нельзя, должного опыта они не имели, а ошибиться не имели права. Нервное напряжение возрастало. Похоже, даже в голове отстукивали часы — на сколько ещё хватит энергии аккумуляторной батареи СПЛ, в каком состоянии находятся люди в первом отсеке? Для помощи „Ленку“ в поиске на трос аварийного буя прицепили шумовой генератор в качестве акустического маяка.
Около 22 часов в 5–7 кабельтовых от „Машука“ стал на якорь БПК „Чапаев“, на котором находились главнокомандующий ВМФ и группа адмиралов и офицеров центральных управлений, прилетевших из Москвы. Сразу же по УКВ доложил главнокомандующему обстановку. Начали донимать вопросами, почему взялся за вариант с СПЛ, почему не используем надводные спасатели? Изложил свои доводы. На время успокоились, но потом выдвинули ультиматум: если до 24 часов не удастся положить СПЛ, как требуется, сворачивать мою затею и начинать установку рейдового оборудования для использования надводных спасательных судов. Из состава группы главкома на „Машук“ перебрались контр-адмирал Владислав Леонидович Зарембовский, начальник 40-го НИИ ВМФ, и контр-адмирал Юрий Константинович Сенатский, главный специалист аварийно-спасательной службы ВМФ. С обоими был хорошо знаком и обрадовался их прибытию. Советы специалистов такого уровня могли оказаться бесценными. И хотя ответственность моя не уменьшилась, на душе стало легче.
Часы зафиксировали полночь, наступило 23-е число. „Ленок“ молчал, „Чапаев“ тоже. Я же с вопросами не возникал, с возраставшей тревогой ожидая информации от командира СПЛ. Долгожданный доклад поступил лишь через два часа Ура! „Ленок“ лёг на грунт метрах в 30 от торпедных аппаратов С-178. Приказал отключить на СПЛ все потребители электроэнергии, оставив лишь необходимые для работы водолазов и не мешкая начать загрузку в торпедные аппараты имущества для подводников. Задиктовал командиру „Ленка“ письмо с подробными указаниями старпому Кубынину по организации выхода и связи с водолазами перестукиванием. Особое внимание обратил на необходимость выходить не на поверхность, а в шлюзовую камеру „Ленка“, куда от торпедных аппаратов будет протянут трос с подводным светильником. Подчеркнул, что выход на поверхность смертельно опасен. Об этом мне уже несколько раз передавали медики, и флотские, и прибывшие с главкомом. Письмо приказал заложить в торпедный аппарат в резиновом мешке.
Посменно работая, к 10 часам утра водолазы сделали две последовательные загрузки в торпедный аппарат, которые подводники приняли. Передали снаряжение для выхода, продовольствие, аварийные фонари и моё письмо. Несколько оставшихся спасательных аппаратов заложили в третью загрузку. Как потом оказалось, подводники её не взяли, найдя недостающие аппараты во втором отсеке лодки, что едва не сыграло роковую роль. Когда первый начал выход, обнаружилось, что путь закрыт. К счастью, ему удалось вытолкнуть преграду из трубы торпедного аппарата за борт.
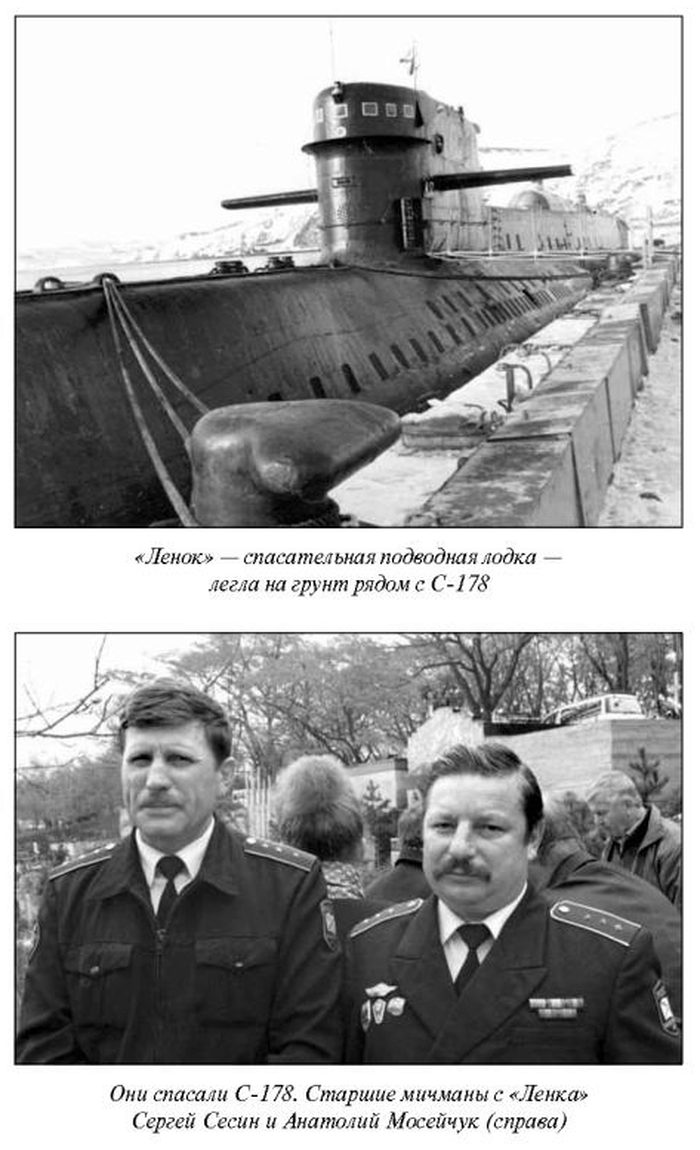
В утренних сумерках сигнальщик с „Машука“ обнаружил в районе спасательного буя двух всплывших водолазов. По тревоге выслали катер и подняли их на борт. Лейтенант и матрос рассказали, что старпом их выпустил доложить обстановку, поскольку связь отсутствовала. Третьим и последним в их группе шёл начальник штаба, но, очевидно, ему стало плохо, и он не вышел Как потом оказалось, его вытащили из трубы аппарата в отсек без признаков жизни. Ещё печальнее была информация о том, что ночью, не учтя тёмного времени, из лодки выпустили группу из трёх моряков. Их никто не видел…
К 10 часам вызвали на заседание комиссии. Катером пошёл на „Чапаев“. Доложил главкому и комиссии, что сделано и план дальнейших работ. Теперь уже никто не возражал. Обсудили возможные ситуации, и совещание закончилось. По окончании главком вызвал в свою каюту.
— Вот что, товарищ Голосов! Что бы тут ни говорили, вы специалист и делайте так, как надо и как считаете нужным.
— Понял, товарищ главнокомандующий! Разрешите убыть на „Машук“?
— Ступайте!
С трудом перебрался из-за усилившегося ветра и волнения. С „Ленка“ доложили, что заложили в аппарат третью загрузку, но на сигнал „Закрыть переднюю крышку“ подводники отвечают сигналом „Готовы к выходу“ и крышку не закрывают. Некоторое время поломав голову со специалистами, решил, что надо начинать выход. Запросил „добро“ у главкома и немедленно получил разрешение. Около 14.30 водолазы стуком по корпусу передали на лодку сигнал „Начать выход!“
По окружности вокруг спасательного буя расположили спасательные суда и водолазные катера с барокамерами и медицинскими группами. В готовности катера и шлюпки для подъёма людей с воды. Во все глаза за поверхностью воды наблюдают сигнальщики. У передних крышек торпедных аппаратов С-178, сменяясь, дежурят по два водолаза „Ленка“. Они уже превысили допустимые нормы работы под водой, но иначе нельзя! Сделано всё, что смогли предусмотреть. Курок спущен, изменить ничего нельзя! Остаётся только ждать. А время, кажется, застыло где-то там, в тёмных глубинах моря.
Пошёл третий час мучительного ожидания. Как не просто сейчас ребятам в темноте, помогая друг другу, надевать гидрокомбинезоны и спасательные аппараты, затапливать отсек, создавать в нём воздушную подушку, чтобы установить нужный уровень воды! И как ещё труднее сохранять самообладание, находясь в холодной воде под давлением сжатого воздуха и собственных навязчивых мыслей о приближающемся конце!
Наконец водолазы доложили, что ощущают слабый ток воды через открытую крышку аппарата внутрь лодки. Значит, затопление отсека подходит к концу. Судя по всему, для большей безопасности отсек затапливали через отверстие малого сечения. Но время работает против них!
Появилась и другая опасность — наступали сумерки, а в темноте можно не заметить всплывших. Приказал приготовить на кораблях прожектора и весь запас сигнальных ракет. К счастью, на „Машуке“ оказалась осветительная установка, своего рода „мини-Катюша“, с запасом реактивных осветительных снарядов.
Только в 19.50 водолазы доложили: „Выходит первый подводник!“ Водное пространство вокруг буя вспыхнуло голубовато-зелёным сиянием под ударом корабельных прожекторов, как арена фантастического цирка. В тёмное небо взлетали и медленно опускались сигнальные ракеты, освещая пространство призрачным светом, салютуя морякам, вырывавшимся из холодных объятий смерти. На поверхности появилась голова одного всплывшего подводника, другого, третьего. В масках с круглыми стёклами они возникали в переливающемся свете, как пришельцы из иного мира. Но что же вы делаете, ребята? Этот мир для вас не менее опасен, чем тот, из которого вырвались. Почему не выходят в „Ленок“?
Убедившись, что катера, осторожно маневрируя, начали поднимать всплывших, запросил командира СПЛ, в чём дело. Всё делалось правильно, но водолазы оказались бессильны. Первого из выходивших без проблем направили в шлюзовую камеру „Ленка“. Большинство из следующих не реагировали на сигналы водолазов, силой вырываясь, когда их пытались направить по тросу к СПЛ. У одного из водолазов в борьбе порвали водолазную рубаху. Желание жить затуманивало разум. Наверху, совсем рядом, небо, жизнь, а тебя тянут куда-то в пучину, из которой только что удалось выбраться. И они вылетали на поверхность, хватая весь букет водолазных заболеваний — кессонку, баротравму лёгких и прочее.
В течение сорока минут вышли все остававшиеся живыми в затонувшей лодке. Во втором отсеке на койке лежал умерший начальник штаба. В полузатопленном первом остался молодой матрос, уже одетый в водолазное снаряжение и, очевидно, потерявший рассудок перед выходом. Силой вытащить его через торпедный аппарат было невозможно. Последним лодку покинул Кубынин. Выйдя из аппарата на палубу, сделал несколько шагов, потерял сознание и вылетел на поверхность. Из 18 человек вышедших шестерых удалось завести в „Ленок“, наверное, с наиболее устойчивой психикой. Остальных подняли катера. Оказавшиеся в СПЛ к утру уже были в нормальном состоянии, водолазные болезни их не затронули. Вышедшие на поверхность находились в состоянии разной степени тяжести — в наиболее тяжёлом находился старпом. Надо отдать должное флотским медикам и их коллегам из центра: ко времени выхода подводников медицинская служба была во всеоружии и полностью готова к оказанию помощи. После первых лечебных мероприятий на кораблях с использованием барокамер ребят перевезли во флотский госпиталь.
В конце концов выходили всех. Спасибо врачам и спасибо морякам! За жизнь они боролись вместе!
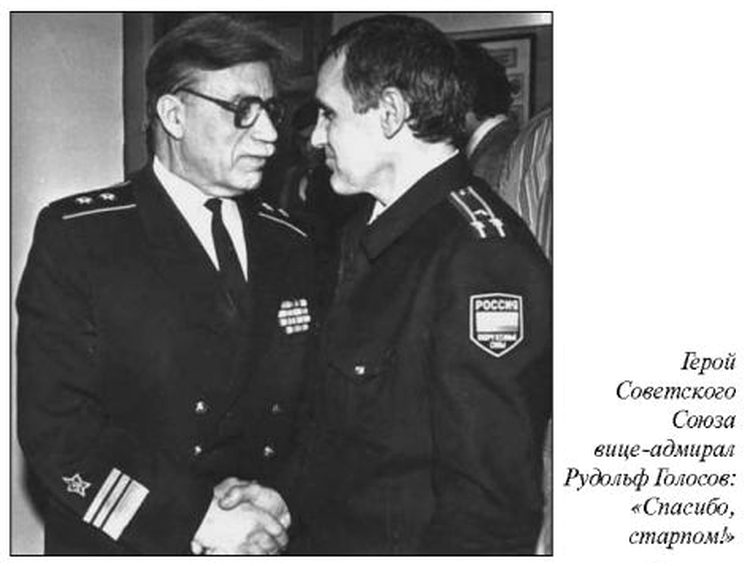
Всё это мне стало известно гораздо позже, и навестить спасённых моряков в госпитале не удалось. Уже утром поступило приказание министра обороны извлечь из отсеков лодки тела погибших и до ноябрьских праздников похоронить. Руководство возлагалось на меня. Сразу же доложил командующему, что считаю более целесообразным сначала поднять лодку, а потом извлечь погибших и похоронить. Им мы не поможем, а вероятность загубить водолазов при работе в затопленных и захламлённых отсеках весьма велика. Но никто ничего уже изменить не мог. Скорее всего, желающих передокладывать министру не нашлось. Такая практика давно становилась правилом. Чётко взять под козырёк и сказать: „Есть!“ гораздо безопаснее, нежели начать предлагать высокому начальству свой план, быть может, и более здравый.
На совещании специалистов выработали программу работ: подъём лодки произвести в два этапа. На первом понтонами поднять лодку с грунта на глубину около 18 метров и в подвешенном на понтонах состоянии отбуксировать в расположенную неподалёку бухту Патрокл, где положить на грунт на тех же 18 метрах. С помощью водолазов извлечь погибших. По окончании поднять лодку на поверхность и отбуксировать в сухой док во Владивосток. Идея получила одобрение, и мы немедленно приступили к круглосуточной работе на пределе возможностей флотских водолазов. Техническое руководство осуществлял начальник аварийно-спасательной службы флота контр-адмирал Анатолий Эдуардович Якимчик. Его консультанты — контр-адмиралы Сенатский и Зарембовский. Координация всех работ и общее руководство — за мной.
27 октября на „Машук“ прибыл главнокомандующий ВМФ, заслушал доклад о ходе работ, одобрив запланированное и выполненное. Во второй половине следующего дня начали продувание понтонов. Вскоре по выходящим воздушным пузырям определили, что понтоны подняли лодку на расчётное углубление. Два буксира в сопровождении „Машука“ потихоньку перетащили лодку в Патрокл и положили на выбранное место.
Перед первым погружением водолазов для извлечения погибших подробно их инструктировал по расположению механизмов в отсеках и мерам безопасности при работе. Опасались за психическую реакцию молодых парней при первом обнаружении трупов, возможно, в самых неестественных позах. Как раз перед этим произошёл трагикомический эпизод. Водолаз у борта лодки обнаружил лежащего на грунте подводника из числа выброшенных за борт при столкновении. Под влиянием течения руки погибшего зашевелились, как будто приглашая водолаза к себе. Тот в ужасе вылетел на поверхность. Даже наверху процесс подъёма тел был зрелищем не для слабонервных.
Особенно трудно пришлось добираться до четвёртого отсека, где оказалось больше всего погибших. В нём находилась кают-компания старшин, и во время столкновения моряки ужинали. Судя по всему, при столкновении они бросились в центральный пост, не сделав даже попытки задраить дверь в пятый отсек, что полагалось сделать при аварии и что, возможно, спасло бы им жизнь. Теоретически они, конечно, знали, но психологически не были натренированы преодолевать страх. Их тела сгрудились у люка, который был задраен со стороны центрального поста, как и требуется при аварии. Ещё деталь — при плавании все двери между отсеками должны быть закрыты. Все подводники это знают, но далеко не всегда выполняют, опять же полагаясь на „авось пронесёт“. Будь закрыта дверь из шестого в пятый отсек, лодка вообще не должна была затонуть. Такова цена пренебрежения требованиями инструкций и наставлений! Ещё и ещё раз выскажу глубочайшее убеждение: подводники должны заниматься своим профессиональным совершенствованием все 24 часа, не отвлекаясь ни на что другое, отрабатывая действия до автоматизма.
5 ноября погибшие были похоронены на морском кладбище Владивостока. 18 ноября лодку подняли и отбуксировали в сухой док Дальзавода. Когда док осушили, я надел комбинезон и с фонариком прошёл по всем отсекам. Мрачно, сыро, хаос… Жутковато! На этом моя миссия закончилась».
Рассказ вице-адмирала Анатолия Алексеевича Кузьмина, командира 9-й эскадры:
— Я получил приказ готовить «Ленок» к выходу от комфлота. Но куда, что, зачем — даже мне, командиру эскадры, не сообщили. Секретный выход — и всё… А «Ленок» к выходу почти не готов. Шла подготовка лодки к замене порядком изношенной аккумуляторной батареи. Пришлось выходить на старой — а это на грани фола… Потом комфлота адмирал Сидоров бросил мне, мол, почему я остался на берегу, а не пошёл на «Ленке».
— Если бы я знал куда и зачем — пошёл бы! Но у меня ещё 52 единицы!
Итак, «Ленок» нашёл С-178 и лёг рядом с ней на грунт. Время пребывания под водой было весьма ограничено. В аккумуляторной батарее от ветхости уже начинались межвитковые замыкания. Вот уж точно: на охоту ехать — собак кормить… Не дождавшись выхода последнего подводника — старпома Кубынина, — «Ленок» вынужден был всплыть.
Потом батарею мы, конечно, заменили на новую. И тут новая тревога — срочно выйти в Охотское море — искать шпионскую насадку на подводном кабеле стратегического значения. Вышли — а где её найдёшь на протяжении полутора тысяч миль? Периодически выходили водолазы, осматривали кабель, но… Но тут ЧП в дизельном отсеке — вдруг возник «падёж личного состава». Почему-то начались протечки углекислого газа, и мотористы стали падать без сознания. Возникла паника. Командир капитан 2-го ранга Копылов приказал всплывать из-под РДП. Стали выносить пострадавших наверх. Один рулевой-сигнальщик, не помню его фамилии, вынес по 10-метровой шахте аж десятерых и сам свалился замертво. А причину «протечек» углекислоты так и не удалось установить…
Капитан 2-го ранга Марс Ямалов пришёл служить на С-178 лейтенантом. Меня познакомил с ним старпом Сергей Кубынин. Зашли в рюмочную на Большой Никитской, помянули погибших, вспомнили всё, как было…
Марс Ямалов:
— После училища рвался служить только на подводные лодки. Ждал назначения в Техасе — так мы звали посёлок Тихоокеанский — очень долго. Меня с женой поселили в переполненном офицерском общежитии. Выдали матрас в коридоре. Там мы и спали. Потом поставили раскладушку. Наконец дали нормальную койку. А мест на лодках всё не было и не было. Мне предлагали дивизию охраны водного района, тральщики. Но я хотел только на подводную лодку. Тогда кадровики потеряли терпение, а может быть, меня жалко стало, сказали: езжай-ка ты, лейтенант, в Улисс, на бригаду подводных лодок, и поговори с комбригом, может быть, он найдёт тебе что-нибудь.
Так и сделал. Нашлось место командира группы на С-178.
Из лодки не вылезал — изучал матчасть, забыв про молодую жену.
Не прослужил и трёх месяцев, как попал в такую вот переделку.
Я ужинал в кают-компании. Вместе со мной там находились лейтенанты Иванов и Тунер, матрос-«гарсон» (вестовой), старпом Кубынин и строевой старшина Зыков.
Вдруг раздался страшный удар, и моя тарелка полетела на другой конец стола. Вслед за ней пронеслась и тяжёлая пишущая машинка… Как она никого не задела — чудо!
Погас свет. Старпом с механиком кинулись в центральный пост, а лейтенант Иванов, командир второго отсека, объявил борьбу за живучесть. Мы задраили переборочные люки и загерметизировали лазы в аккумуляторную батарею. Из-за того, что резко продули цистерны главного балласта, подорвали клапана вентиляции, и воздух пошёл в отсек, надувая его. Потом замкнуло батарейный автомат № 1. Ток в тысячу ампер! Автомат тушили Тунер и Иванов… Пожар погасили, но дышать там было нечем. Перешли в носовой отсек.
Вскоре мы поняли, что покинуть лодку можно только через торпедный аппарат. Надо было пролезть в тяжёлом снаряжении 8-метровую трубу. Я шёл первым. Капитан 2-го ранга Каравеков — за мной… Вылез — дал условный сигнал — постучал по корпусу. В нише волнореза торпедного аппарата горел подводный фонарь, который подвесили водолазы. Можно было сориентироваться — где верх, где низ. Стал подниматься по буй-репу, как учили, соблюдая выдержки на мусингах.
Наверху штормило и буй-реп рвался из рук, казалось, что кто-то тянет меня в сторону. Поднимался минут десять. А вот матрос Микушин всплыл сразу. Да ещё в трубе застрял — из-за чего крышка закрылась не сразу…
Всплыл, и сразу заломило кости — азот, кессонка началась. Не ожидал, что так быстро. Очнулся в барокамере. Вижу — в иллюминатор смотрят на меня два генерала-медика. (Это были главный физиолог ВМФ Сапов и главный терапевт ВМФ Синенко.) На соседней койке — Микушин. У него двустороннее воспаление лёгких. Я сам ему делал уколы — пенициллин вкалывал. Микушин страшно боялся уколов, орал и крыл меня матом.
После гибели лодки — служил в судоремонтном батальоне заместителем командира роты по производству. Затем был старшим строителем кораблей. А потом и вовсе переквалифицировался в танкисты — назначили главным инженером танкоремонтного завода, там же и звание капитана 2-го ранга получил. Моряк-танкист. Но в моря больше не ходил, вся служба прошла на берегу — до 1994 года. А теперь в запасе.
Контр-адмирал В. Поливанов в своём исследовании «„SOS“ из пучины» пишет:
«Подводя итог спасательной операции на С-178, следует отметить, что в первом отсеке затонувшей подводной лодки сконцентрировалось 26 человек. Двое из них скончались, не выходя на поверхность, четверо пропали без вести, двадцати посчастливилось спастись. Из них только шестерым повезло встретить водолазов-проводников, которые помогли им добраться до подводной лодки-спасателя „Ленок“. Этот случай перемещения по дну моря подводников с затонувшей лодки на лодку-спасатель до настоящего времени продолжает оставаться уникальным в мировой практике спасения на глубине. Он по праву может претендовать на запись в Книгу рекордов Гиннесса. Остальные четырнадцать сумели выйти на поверхность самостоятельно. Остаётся неясным, почему „Ленок“, имея на кормовой надстройке на штатных местах два автономных самоходных спасательных аппарата, предназначенных для спасения подводников через входной люк, так и не задействовал их в этой операции.

Всего на подводной лодке С-178 погибло 32 человека. Позднее, когда она была поднята, останки погибших были извлечены из отсеков и захоронены на Морском кладбище во Владивостоке. Многие из двадцати спасшихся из первого отсека до сих пор страдают тяжёлыми недугами — последствиями кессонной болезни, переохлаждения, баротравм, отравления углекислотой или глубокого нервного потрясения. У некоторых диагноз заболевания комбинированный.
По факту гибели подводной лодки С-178 было возбуждено уголовное дело, завершившееся судебным заседанием военного трибунала Тихоокеанского флота, который приговорил её командира капитана 3-го ранга В.А. Маранго и старшего помощника капитана „Рефрижератора-13“ В.Ф. Курдюкова, управлявшего судном во время столкновения, к лишению свободы сроком на 10 лет каждого.
Объективности ради нельзя не сказать и о следующем. Как к любому крупному происшествию, к катастрофе С-178 был причастен ряд должностных лиц, каждый из них внёс свою „лепту“ в эту трагедию. Прежде всего, подводная лодка нарушила режим плавания в полигонах, а также пренебрегла рекомендованными курсами, должное наблюдение за надводной обстановкой перед столкновением на ней, очевидно, отсутствовало. Хорошие моряки просто так неожиданно и вдруг, в элементарно простой обстановке, не сталкиваются. Об отсутствии порядка и дисциплины на корабле убедительно свидетельствуют порванные гидрокомбинезоны и пустые аварийные бачки в отсеках, с которыми подводная лодка вышла в море. Столкновения вообще не произошло бы, если бы береговой БИП чётко следил за обстановкой в проливе Босфор Восточный и на подходах к нему. Помощник оперативного дежурного разрешил рефрижератору проход боновых ворот на выход, не зная о том, что оперативный дежурный перед тем, как отлучиться для приёма пищи (было время ужина), разрешил вход подводной лодке в пролив через те же боновые ворота. Да и в случившейся катастрофе могло бы погибнуть меньше подводников, если бы организация спасательных работ и действия спасателей были бы более оперативными и профессиональными. Таких „бы“ набирается немало, но этот анализ находится за рамками исследуемой темы.
В заключение можно отметить несколько удивительных совпадений отдельных моментов трагедии С-178 с катастрофами подводных лодок, имевшими место ранее. Читатель уже знаком с ними:
— так же, как С-178, и примерно в то же время суток на входе в свою базу 12 января 1950 г. из надводного положения затонула английская подводная лодка „Трукъюлент“ в результате столкновения со шведским танкером. Командир и вся верхняя вахта также были смыты за борт.
— С-178 затонула 21 октября 1981 г., а 20 октября 1939 г. при аналогичных обстоятельствах так же мгновенно затонула подводная лодка Щ-424, которую таранил в тот же левый борт рыболовный траулер РТ-45, на поверхности тоже остался командир и верхняя вахта, которых подобрало таранившее судно. С разницей в 42 года оба командира предстали перед военным трибуналом и обоим был вынесен одинаковый приговор — 10 лет лишения свободы.
И ещё несколько странных совпадений: число погибших на С-178 равнялось глубине, на которой лодка затонула, — 32 жизни и 32 метра. А затонувшая в Чёрном море 22 августа 1957 г. подводная лодка М-351 пролежала на глубине 84 метра ровно 84 часа до её спасения из подводного плена. Наверное, если более подробно изучить и проанализировать трагические страницы подводного плавания, можно встретить немало роковых совпадений».
Сергей Кубынин совершил в своей жизни по меньшей мере три подвига. Первый, офицерский, когда возглавил уцелевший экипаж на затонувшей подводной лодке; второй — гражданский, когда спустя годы он сумел добиться, чтобы на Морском кладбище Владивостока был приведён в порядок заброшенный мемориал погибшим морякам С-178, можно смело сказать, что память своих ребят он увековечил на долгие годы. Наконец, третий, чисто человеческий подвиг взял на себя заботу об оставшихся в живых своих сослуживцев. Им сегодня уже немало лет, и та передряга, со всеми наивреднейшими воздействиями на организм, сказалась ныне самым сокрушительным образом. Бывшие матросы и старшины обращаются к нему как к своему пожизненному командиру, которому они верили тогда, у смертной черты, которому верят и сегодня, что только он и никто другой спасёт их бездушия и произвола военкоматских и медицинских чиновников. И он спасает их, пишет письма в высокие инстанции, хлопочет и… заставляет-таки государство делать то, что оно обязано делать безо всяких взываний к президенту и высшей справедливости.
Сегодня, особенно после гибели атомных подводных лодок «Комсомолец» и «Курск», стало ясно — то, что совершили капитан-лейтенанты Сергей Кубынин его механик Валерий Зыбин в октябре 1981 года, не удалось больше повторить никому. Разве что капитану 1-го ранга Николаю Суворову, организовавшему выход своего экипажа из затопленного атомохода К-429.
Наградной лист на звание Героя России, подписанный видными адмиралами нашего флота, подписанный бывшим Главнокомандующим ВМФ СССР адмиралом флота Владимиром Чернавиным, так и остался под сукном у чиновников Наградного отдела. А капитан 1-го ранга запаса Кубынин возглавляет один из спасательных отрядов в системе МЧС, по-прежнему приходит на помощь тем, кто в ней нуждается. Наверное, планида у него такая — спасатель. В 2006 году журнал «Родина» вручил Сергею Кубынину камергерский ключ — знак национальной премии «Сокровище Родины». Вручение проходило под сводами храма Христа Спасителя. И это было более чем символично.
Моряк и поэт Олег Матвеев из Владивостока посвятил старпому С-178 Сергею Кубынину эти строки:
И живых, и мёртвых, как всегда, объявили «аварийщиками», не разбирая, кто трус, кто разгильдяй, а кто герой. Лишь спустя четверть века удалось узнать имена мучеников долга…
Представляю себе их последний ужин. Точнее последний «вечерний чай», который, согласно расписанию походной жизни, устраивают на всех военных кораблях в 21.00. Второй — жилой — отсек. Битком набитая кают-компания (на гвардейской атомной подводной лодке К-56 в море вышли два экипажа): шутки, подначки, весёлые флотские байки под перезвон чайных ложечек в стаканах и гуденье батарейных вентиляторов. И они пили этот добротно заваренный флотский чаёк, радуясь удачному дню.
Это было 13 июня 1973 года — за три часа до смертной побудки, о которой они ни сном ни духом не ведали.
Казалось всем, что самые опасные, самые напряжённые часы этих последних ходовых суток остались далеко за кормой.
Днём были зачётные стрельбы: К-56 всплыла в одном из полигонов Японского моря, вздыбила ракетные контейнеры, отчего стала походить на чудище с взъерошенным от ярости загривком, развернулась кормой к цели, и ревущие огненные всполохи унеслись к далёким плавучим щитам. Все ракеты попали в мишень. Стреляли совместно с крейсером «Владивосток» и большим ракетным кораблём «Упорный» по наведению авиацией. Оценка — «отлично»! Теперь домой, в базу…
Старшим на борту К-56 шёл заместитель командира дивизии ракетных атомных подводных лодок капитан 1-го ранга Ленислав Филиппович Сучков. Напереживавшись, издёргавшись за страдные сутки, Сучков сразу же после чая прилёг на койку в каюте командира. Его примеру последовали вскоре и остальные офицеры, кроме тех, разумеется, кто стоял на вахте. Как на беду, в ту ночь во втором — жилом аккумуляторном — отсеке народу было вдвое больше, чем положено. На ракетные стрельбы К-56 вышли и офицеры другого экипажа — с К-23, а также заводские специалисты-наладчики из Питера. Тридцать шесть человек устроились на ночь кто где смог — на койках, откидных диванных спинках, в медицинском изоляторе, во всех мыслимых и немыслимых закутках-шхерах, отчего отсек стал напоминать перенаселённый плацкартный вагон. Оба командира — штатного и вывозного экипажей — капитаны 2-го ранга Александр Четырбок и Леонид Хоменко — убивали время до входа в узкость тем, что резались в кают-компании в популярную на флоте игру — «шеш-беш».
В час ночи атомарина огибала мыс Поворотный в заливе Петра Великого. Шли в надводном положении…
Четырбок бросил кости в очередной раз и замер: корпус лодки мелко задрожал — турбины давали реверс, винты отрабатывали полный назад! Не сговариваясь, оба командира метнулись из отсека в центральный пост, а оттуда на мостик.
Поздно…
Час три минуты по полуночи… Страшный удар потряс подводную лодку. Скрежет рвущегося металла. Водопадный рёв воды, хлынувшей в прочный корпус. Уши резал свист сжатого воздуха высокого давления. Погас свет. Вопль закатанного в лоскуты металла и обрывки трубопроводов человека. Кто мог узнать в этом предсмертном крике голос флаг-связиста капитана 3-го ранга Якуса? Его обезображенное тело хоронили потом в закрытом гробу.
Но самым страшным был едкий запах хлора. Солёная морская вода, хлынув в аккумуляторную яму, сразу же вступила в реакцию с серной кислотой электролита. В незатопленный ещё отсек повалили клубы убийственного газа. Индивидуальных дыхательных аппаратов было всего семь — по числу моряков в отсеке по боевому расписанию. Тяжёлый аппарат успел надеть только доктор, но, наглотавшись хлора, не смог открыть баллончик с кислородом.
Капитан 1-го ранга Сучков выскочил из каюты в средний проход отсека. Даже в эти жуткие минуты он оставался профессионалом: вместо звонков аварийной тревоги, отметил он, верещал ревун боевой тревоги. Сучков бросился к пульту связи и резко скомандовал:
— Начать борьбу за живучесть корабля!
Кажется, это были его последние слова. В центральном посту их записали в вахтенный журнал. В одну минуту самый мирный отсек атомарины превратился в котёл кромешного ада…

Что же стряслось?!
А случилось то, что случалось уже не раз и не два во все времена на всех флотах мира: подводную лодку протаранил надводный корабль. В ту ночь на К-56 нанесло научно-поисковое судно рыбаков «Академик Берг», носившее по злой иронии судьбы имя бывшего подводника.
Роковые события далеко не всегда предвещают о себе заранее. Вот и в тот в общем-то погожий июньский денёк ничто не обещало трагедии. Атомарина возвращалась домой прибрежным фарватером в сопровождении крейсера «Владивосток». Именно с крейсера за два часа до столкновения засекли надводную цель, которая шла навстречу подлодке со скоростью 9 узлов. Расстояние между ним было около 40 миль (округлённо — 75 километров). Никаких опасений эта ситуация не вызывала На «Владивостоке», шедшем на три мили мористее атомохода, следили за обстановкой по экрану навигационного радара. То же самое должны были делать и в центральном посту подводной лодки. Но радиолокатор на атомарине не включили. Понадеялись на зоркость верхней вахты. Успокаивала простота судоходной обстановки? Берегли ресурс радиолокационной станции?
И то, и другое, и третье. РАС «Альбатрос» весь день работала во время стрельбы с предельной нагрузкой. Требовалась техническая пауза, и станцию вывели в так называемый «горячий резерв». Это значит, что она была на подогреве и готова была работать на излучение по первому требованию. Другое дело, что это «первое требование» запоздало. Запоздало, несмотря на то что с сопровождавшего крейсера заметили опасное сближение и передали на К-56 предупреждение, что дистанция между ней и целью сократилась до 22 миль, посоветовали включить радар и провести манёвр расхождения со встречным судном, как положено. Командир К-56 информацию принял, но… ушёл отдыхать, оставив за себя на мостике старпома, допущенного к самостоятельному управлению кораблём. Но и старпом радиолокатор не включил. Тем временем, как это часто бывает в Приморье, нашла полоса тумана, и атомоход вошёл в густое «молоко». Только тогда, когда до столкновения оставалось пять минут, включили навигационную станцию. На экране возникли отметки сразу четырёх целей. Кто они, куда и как движутся — определять уже было некогда. За две минуты до удара из тумана вынырнули красно-зелёные ходовые огни «Академика Берга».
— Турбинам реверс!!! Лево на борт! — заорал в микрофон старпом. Но было поздно.
Уходя влево, К-56 подставила правый борт надвигающемуся форштевню. Удар «Берга», шедшего со скоростью 9 узлов, взрезал лёгкий и прочный корпус атомарины почти под прямым углом. Четырёхметровая пробоина пришлась на стык первого и второго отсеков, и после затопления жилого вода пошла в носовой торпедный…
Здесь, в носовом отсеке, ночевали двадцать два человека. Дыхательных же аппаратов было только семь — столько, сколько подводников расписаны в первом по боевой и аварийной тревогам. Пятнадцать беспротивогазных моряков обрекались на гибель от удушья и утопления. Среди них был и лейтенант Александр Кучерявый, взявший на себя командование отсеком. Он не имел права на изолирующий дыхательный аппарат (ИДА), потому что был «чужим», из другого экипажа. Его противогаз остался на подводной лодке К-23. Спасительные «ИДАшки» могли надеть только те, чьи имена были написаны на их бирках: семеро из двадцати двух…
В тот день жена лейтенанта рожала первенца. В отсеке об этом знали. И мичман Сергей Гасанов, старшина команды торпедистов, отдал Кучерявому свой аппарат:
— Наденьте, товарищ лейтенант, хоть дитё своё увидите…
Лейтенант Кучерявый не стал натягивать маску. В ней трудно было отдавать команды. И тогда остальные — шестеро счастливчиков, которым судьба бросила шанс спастись, сняли дыхательные аппараты.
— Погибать, так всем вместе…
Самому старшему в отсеке — лейтенанту Кучерявому — было двадцать пять; матросам — едва за восемнадцать… Никто не хотел умирать. И потому все рьяно выполняли каждый приказ лейтенанта. Понимали его с полуслова. Первым делом он приказал конопатить трещину, из которой хлестала ледяная вода и шёл хлор. Добраться до трещины было почти невозможно: её загораживал массивный бак гидроаккумулятора. Заделали только там, куда смогла пролезть рука с молотком. Вода неостановимо прибывала. Тогда пустили трюмную помпу на откачку за борт. Через несколько минут трюм затопило под настил и помпу пришлось отключить, чтобы не вызвать короткое замыкание и пожар…
Работала межотсечная связь «каштан» и Кучерявый слышал, как из второго отсека инженер-механик Пшеничный докладывал в центральный пост:
— Пробоина подволочная… Поддув бесполезен. Нас топит по-чёрному… Прощайте, братцы!
Это не прибавило оптимизма. К тому же через открытый отливной клапан помпы море врывалось в отсек ещё быстрее, чем через трещину, — затопило второй «этаж», и все перебрались палубой выше. Надо было немедленно закрывать клапан. Для этого нужно было пронырнуть через два затопленных люка — один под другим, и в кромешной тьме, нащупав на днище вентиль, закрутить его. Ныряли по очереди, каждый успевал повернуть венчик на полвитка, не больше. Потом на задержке дыхания надо было найти обратный путь через двойную прорубь в стальных листах. Больше всех нырял матрос-молдаванин Степан Казаны. Он и закрыл в конце концов злополучный вентиль. К тому времени все уже были по грудь в воде, даже забравшись на койки верхнего яруса. Над головой оставалась полтора метра воздушной подушки, отравленной хлором. Впору было запевать «Варяга».
Капитан 1-го ранга Александр Николаевич Кучерявый вспоминает с болью в душе:
— В общем-то, у меня был в запасе последний шанс… Правда, потом мне сказали, что он всё равно бы не сработал. Но тогда я в него верил… Дело в том, что над нашими головами был аварийно-спасательный люк, который вёл на носовую надстройку, то есть на верхнюю палубу лодки. Я решил, что когда выдышим весь кислород, отдраить верхнюю крышку люка и всплывать на поверхность. Благо глубина, по моим подсчётам, была небольшая, и мы все успели бы выйти. Но я не взял в толк, что лодка шла своим ходом и потому с почти затопленными двумя отсеками зарывалась носом в воду много больше обычного.
— По счастью, нам не пришлось прибегнуть к этому последнему средству спасения. Спасения весьма проблематичного… В шахте люка с кувалдой наготове уже стоял матрос, чтобы бить по задрайкам крышки, когда по трансляции передали: «Внимание! Приготовиться к толчку — выбрасываемся на отмель».
— Но толчка мы не почувствовали. Лодка села мягко.
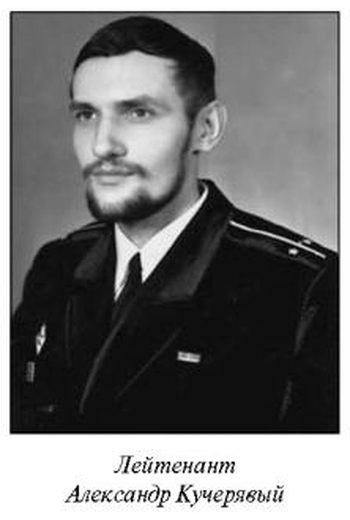
Да, это было спасение. С помощью подоспевшего крейсера «Владивосток» подраненная субмарина плавно приткнулась на песчаную отмель. С рассветом под К-56 спасатели завели понтоны и лодку отбуксировали в док. Но и на этом дело не кончилось. Рассказывает очевидец событий — капитан 1-го ранга Сурненко:
— Вдруг обнаружилось, что баллон воздуха высокого давления, вывернутый ударом из гнезда, пробил контейнер, где находилась ракета с ядерной боеголовкой. Никто не мог поручиться, как поведёт себя в этой ситуации повреждённое оружие. К месту происшествия прибыл командующий Тихоокеанским флотом адмирал М. Маслов. Не полагаясь больше ни на кого и ни на что, он отобрал у матроса газовый резак и сам срезал крышку контейнера. Увидев лоснящееся рыло уцелевшей боеголовки, все, кто стоял рядом, сняли фуражки и вытерли со лба холодный пот…
А жена лейтенанта Кучерявого родила в тот смертный день сына. Его назвали Олегом. Ныне Олег Кучерявый служит на Северном флоте в Архангельске.
Рок столкновений с надводными кораблями преследуют субмарины с самого начала подводного плавания. И почти всегда таран смертелен для подлодки.
Столкновение «Академика Берга» с К-56 было отнесено к разряду «навигационных происшествий с тяжёлыми последствиями». Погибли 27 человек, из них: 16 офицеров, 5 мичманов, 5 матросов, один гражданский специалист из Ленинграда. В засекреченных приказах информация об аварии была доведена до командиров разных рангов в «части, касающейся». Но никакие выводы и разгромные разносы не смогли предотвратить подобную же катастрофу: столкновение рыболовецкого рефрижератора № 13 с подводной лодкой С-178, которое случится в том же Японском море спустя восемь лет. И жертв там будет почти вдвое больше…
В трагедии К-56 виновными были объявлены все — и живые, и мёртвые. Так было проще. Так было привычнее… Эта подловатая практика недавних времён не смогла, однако, затемнить имена героев.
Известно, что в любой беде люди ведут себя по-разному. Как вели себя в свои последние минуты те, кто навсегда остался во втором отсеке, не видел никто. Никто, кроме водолазов-спасателей, которые проникли в затопленный отсек, когда ракетная атомарина выбросилась на мель.
— Капитана 2-го ранга Пшеничного, — рассказывали они, — мы сняли с рычага кремальеры. Рядом, у переборочной двери в третий отсек, поток воды забил в шхеру тело капитана 1-го ранга Сучкова. Лица обоих были в синяках и кровоподтёках…
Отдав команду о начале борьбы за живучесть по трансляции, Ленислав Филиппович Сучков бросился вместе с инженером-механиком Пшеничным перекрывать лаз в третий отсек, куда уже успели перескочить девять человек. В их числе и замполит, который обязан был находиться в аварийном отсеке и, как велит Корабельный устав, «принимать все меры по поддержанию высокого политико-морального состояния личного состава, мобилизовывать его на энергичные и инициативные действия по борьбе с аварией». Всем этим пришлось заниматься Сучкову и Пшеничному. Оба прекрасно понимали, что если продолжится паническое бегство в третий отсек, то затопит и его. А это верная гибель всего корабля и двух экипажей. На дно уйдут полтораста человек, не говоря уже о ядерном реакторе и ракетах с атомными боеголовками. Но именно в этот, пока ещё сухой, отсек рвались обезумевшие от смертного ужаса матросы-новобранцы. Инстинкт самосохранения утраивает силы. Молодые крепкие парни пытались отшвырнуть тех, кто встал на пути к их спасению. Они не разбирали ни званий, ни должностей — молотили кулаками направо и налево. Пшеничный держал рычаг запора, навалившись на него всем телом, а Сучков отбивался от нападавших. Схватка была недолгой. Ядовитый хлор, поднимавшийся из аккумуляторной ямы, сделал своё дело быстро. Потом паталогоанатомы установят, ни у кого из двадцати семи погибших воды в лёгких не было. Всех умертвил газ до того, как море заполнило трёхпалубный отсек. Но ни хлор, ни вода, ни смерть не смогли помешать офицерам выполнить свой последний долг. Капитан 2-го ранга инженер Пшеничный погиб с рычагом кремальеры в закостеневших руках, как погибали в бою солдаты, не выпустив оружия. Кто-кто, а уж он-то ни в чём не был повинен. Его забота — ход и живучесть корабля. И он был верен до конца РБЖ, воинской присяге и офицерской чести, этот мех-трудяга в измасленных погонах. Уж ему-то светило как минимум Боевое Красное Знамя посмертно, а мы сегодня, увы, не знаем даже его имени. Точно так же погиб, перекрыв дверь в первый отсек, капитан 1-го ранга А. Логинов, офицер из Ракетного управления Тихоокеанского флота.
Что бы там ни говорили о капитане 1-го ранга Сучкове, если взглянуть на его судьбу не формально, то свои служебные упущения он многократно перекрыл своим жертвенным подвигом. Легко понять его по-человечески: самое трудное дело — ракетная стрельба — позади, отстрелялись успешно, это стоило немало нервов, теперь до прихода в базу можно заслуженно отдохнуть, а не торчать на мостике, где и без того два опытнейших командира плюс без пяти минут ещё один старпом. Обстановка вполне позволяла ему спуститься в жилой отсек — ни штормов, ни узкостей, ни сложных расхождений. Кто бы на его месте не прилёг в каюте? А вот кто бы ещё поступил так, как он в роковую минуту — это вопрос. Мог бы успеть перескочить в сухой отсек, кто бы остановил его, старшего на борту? Останавливал же он, капитан 1-го ранга Сучков, перекрыв путь панике, ядовитому газу, топящей воде. В эти минуты он, сорокачетырехлетний мужчина, поседел как древний старец. Хлор окрасил седину в розовый цвет. Его так и хоронили — розововолосым.
Оба его сына — Владимир и Сергей — не убоялись стать подводниками, несмотря на мученическую гибель отца. Оба вышли в командиры атомных подводных ракетоносцев. Контр-адмирал Владимир Сучков командовал даже дивизией «стратегов» — самых мощных атомарин из семейства «тайфунов». Братья Сучковы не раз водили свои грозные корабли в океан. Морская фортуна благоволила к ним. Может быть, потому, что отец отвёл от них самый страшный удар судьбы, приняв его на себя?
СПИСОК
Погибших на гвардейской атомной подводной лодке К-56 14 июня 1973 г.
1. Капитан 1-го ранга СУЧКОВ Ленислав Филиппович
2. Капитан 2-го ранга инженер ПШЕНИЧНЫЙ Леонид Матвеевич
3. Капитан 3-го ранга ДРЮКОВ Пётр Алексеевич
4. Капитан 3-го ранга ЯКУС Владислав Алексеевич
5. Капитан-лейтенант КЛИМЕНТЬЕВ Валерий Семёнович
6. Капитан-лейтенант ПЕНЬКОВ Александр Фёдорович
7. Капитан-лейтенант ЦВЕТКОВ Сергей Николаевич
8. Капитан медицинской службы КЛИМАШЕВСКИЙ Иван
9. Старший лейтенант ЛЮДВИКОВ Валерий Афанасьевич
10. Старший лейтенант МАРКОВ Анатолий Васильевич
11. Лейтенант АБРАМОВ Анатолий Филиппович
12. Мичман ВАХРУШЕВ Борис Михайлович
13. Мичман ГОРЮНОВ Николай Тихонович
14. Мичман ДОНСКИХ Виктор Михеевич
15. Мичман САМОХВАЛОВ Валерий Николаевич
16. Мичман СЕМЁНЫЧЕВ Павел Васильевич
17. Главный старшина ЛЫСЕНКОВ Александр Сергеевич
18. Старшина 1-й статьи ЧМИР Владимир Сергеевич
19. Матрос АХМАДЕЕВ Саламьян Занулович
20. Матрос СЕДЫХ Владимир Алексеевич
21. Капитан 1-го ранга А. ЛОГИНОВ
НЕ УСТАНОВЛЕНЫ
22. Офицер
23. Офицер
24. Офицер
25. Офицер
26. Офицер
27. Матрос
28. Специалист научно-производственного объединения из г. Свердловска.
Кто в море не ходил, тот Богу не молился.
Старинная пословица
Об этом корабле судачили бы до скончания века, как о советском подводном «Титанике» или как об ещё одной мрачной загадке океана шутка ли, бесследно исчезла огромная атомная подводная лодка с шестнадцатью баллистическими ракетами на борту, а главное, со 130 живыми душами в отсеках? И имя командира капитана 1-го ранга Виктора Журавлёва, как и имена всех его соплавателей, окутал бы мистический флёр вечных молчальников. И рождались бы мифы и легенды об их безвестном исчезновении в пучине Северной Атлантики… По счастью, они остались живы и теперь — по истечении всех сроков секретности — сами могут рассказать о том, что с ними стряслось, и, смею заметить, это впечатляет не меньше иной крутой фантазии.
Итак, 13 (!) сентября 1983 года тяжёлый атомный подводный крейсер стратегического назначения К-279 раздвигал могучим лбом океанские воды, спрессованные 250-метровой толщей. Большая глубина обжимает не только сталь прочного корпуса, но и весьма напрягает душу. Вроде бы всё нормально в отсеках, реакторы работают в заданном режиме, турбины выдают положенные обороты, гребные винты исправно вспарывают и отбрасывают стылую воду тугими струями, но ухо сторожко ловит каждый «нештатный» звук: не вырвало ли где сальник, не лопнул ли где трубопровод забортной арматуры? Да мало ли что ещё может случиться на такой глубине? Тут любая поломка может стоить жизни всему экипажу. Как назло, ещё и мысли чёрные лезут про злосчастную американскую атомарину «Трешер», которая примерно в этом же районе и на такой же глубине вдруг канула в двухкилометровую впадину Уилкинса и лежит там вот уже двадцатый год. А всё потому, что лопнул плохо сваренный трубопровод, и подводная лодка была в мгновение ока затоплена и смята чудовищным давлением пучины. Никто из 129 человек на борту и ахнуть не успел — гидравлический удар вмял сферические переборки одна в другую, как стопку алюминиевых мисок… Все эти леденящие кровь подробности услужливая не к месту память выдаёт при первом же взгляде на глубиномер.
Конечно же, можно было бы идти и на ста метрах и на пятидесяти, откуда шансов спастись и всплыть куда больше, но дело в том, что на таких глубинах резко возрастал риск наткнуться на айсберг. А в этой части Атлантики их было, по выражению штурмана, как пшена на лопате.
— Но ведь вы же могли включить гидролокатор в режиме миноискания, — заметил я тогдашнему дублёру командира К-279 капитану 1-го ранга Владимиру Фурсову. — И тогда вся подводная обстановка открылась бы как на ладони?
— В том-то и штука, что мы должны были соблюдать полную скрытность. А звуковые импульсы гидролокатора легко засекаются противолодочными кораблями. Шла Холодная война, и мы должны были крейсировать как можно ближе к берегам Америки. То были «адекватные меры», которые Брежнев принял в ответ на размещение американских «першингов» в Европе. Мы таким образом тоже сокращали подлётное время своих ракет.
— То есть вы шли совершенно вслепую? Как если бы автомобиль пробирался сквозь ночной лес, опасаясь включать не только фары, но и подфарники?
— Точно так. Шли, можно сказать, на слух… Дело в том, что небольшие айсберги наши акустики слышали в обычном режиме шумопеленгования. Океанские волны заплёскивали на глыбы льда, вода стекала с них ручьями, и по этому журчанию при достаточной изощрённости слуха можно было взять пеленг на опасного соседа. Большие же — столовые — айсберги оставались неслышимыми. О них-то и зашёл разговор в кают-компании во время ужина. Кто-то вычитал в «Наставлении по плаванию в Арктике», что осадка плавучих ледяных гор может достигать пятисот метров. Разгорелись споры. Автора «Наставления» подняли на смех. Мы считали, что глубина в 250 метров вполне безопасна для того, чтобы разминуться с айсбергами по вертикали. Потом кто-то вспомнил, что в этих местах погиб легендарный «Титаник»… В общем, ужин закончился обычной флотской травлей, и я отправился в жилой отсек в свою каюту. Сел на диванчик, взял в руки книгу… До сих пор помню, что это была парусная эпопея супругов Папазовых. Где-то играла гитара, и кто-то пел:
И вдруг книга вылетает у меня из рук, а вслед за ней выскакивает из своего гнезда графин с водой, и все вещи, и я с ними, — летим вперёд. Удар! Палуба уходит из-под ног резко вниз, лодка круто дифферентуется на нос… И яростное шипенье врывающейся, как мне показалось, воды… «Вот так они и погибают!» — первое, что промелькнуло в голове. Со всех ног бросился в центральный пост…
Рассказывает бывший старпом по боевому управлению, ныне контр-адмирал Виталий Федорин:
— Я как раз переходил из восьмого отсека в седьмой… И вдруг удар, и коридор резко пошёл под уклон, градусов эдак в 30. До сих пор у меня перед глазами стоит этот уходящий в бездну, в небытие коридор. Машинально посмотрел на часы — 21 час 13 минут 13 сентября 1983 года… Потом заревел в цистернах воздух. Это с пульта «Титан» пытались продуть балласт. На рулях глубины сидел матрос Мартыненко, он сработал грамотно…
Командирскую вахту нёс в центральном посту старпом — капитан 2-го ранга Юрий Пастушенко. Мы встретились с ним в Гатчине, где он сейчас живёт.
— Всё было тихо и мирно, — рассказывает Юрий Иванович, — лодка шла на семи узлах, под килем два километра, над головой — двести семьдесят метров. Я сидел и писал суточные планы на завтрашний день. Вдруг — сильнейший удар и гул, будто кто по железной бочке саданул. Вылетаю из кресла, лечу вперёд, успел схватиться за трос выдвижного устройства. Резкий дифферент на нос, теряем скорость, стрелка глубиномера быстро пошла вниз — на погружение. Глаза у боцмана — он на рулях стоял — круглые, воздух ртом ловит… Вахтенный механик залетел под пульт управления рулями. С трудом подобрался к микрофону межотсечной связи: «Учебная тревога! Осмотреться в отсеках!»
Тут рёв пошёл, вахтенный механик стал цистерны продувать, и совершенно зря, потому что на такой глубине продувание бесполезно… Но всё же, я думаю, и этот пузырь, и своевременная перекладка рулей на всплытие сыграли свою роль. Короче говоря, поднырнули мы под айсберг и стали всплывать. Полагаю, наша лодка врезалась в клык ледяной горы — гигантскую сосульку диаметром метров десять — и скорее всего, обломила его, так как в носовом отсеке и после удара ещё слышали грохот рухнувшей на палубу тяжести. Можно считать, отделались легко: смяли, правда, весь носовой обтекатель со всей гидроакустической начинкой. Главная неприятность — замяли переднюю крышку одного из торпедных аппаратов. Он стал подтекать, а в нём спецторпеда с ядерным зарядным отделением. Пришлось её вытащить из аппарата прямо в отсек и удалить из него весь личный состав. Осматривали его методом «бродячей вахты». И вовремя это сделали, так как труба аппарата вскоре полностью заполнилась водой. Заднюю крышку мы подкрепили раздвижным упором. Но это скорее для успокоения совести, чем для дела. Ведь забортное давление приходилось теперь не на переднюю крышку, которая работала на прижим, а на заднюю, то есть отжимало её с чудовищной силой внутрь отсека. И надеяться приходилось только на честность неведомого нам рабочего Иванова-Петрова-Сидорова, чьими руками были сработаны зубцы кремальерного запора. Вырвать их на глубине в 250 метров могло в любую минуту… Вот так и плавали ещё почти целый месяц. А что поделаешь? С боевой позиции не уйдёшь — Холодная война была в самом разгаре.
Когда вернулись в базу, никто не поверил нам, что мы ходили на такой глубине. «Вы вахтенный журнал переписали!» Чушь! Всё было так, как было…
Контр-адмирал Виталий Федорин:
— Считалось, что море Баффина безопасно для подводных лодок, поскольку его берега и острова не оборудованы системами ПЛО. Но айсберги… Тут же Гренландия рядом, а она, как известно, — мировой поставщик айсбергов. Даже при малой видимости в перископ можно наблюдать до 40 айсбергов. Но Господь миловал!
Вместо послесловия. Море, а тем паче океанские глубины — стихия мистическая. Вот и в приключении К-279 немало загадочных совпадений. Речь даже не о роковой дате — 13 сентября. Это, как говорится, само собой разумеется. Обратим внимание на номер атомарины — К-279. Печально известная подводная лодка «Комсомолец» именовалась в штабных документах К-278. Разница в номерах всего в единицу. Но число 279, кратное трём, а Бог, как известно, троицу любит. Нумерологам тут простор для умозаключений. Любопытно ещё и вот что: айсберг, на который наскочил «Титаник», сполз с того самого гренландского ледника, от которого откололась и глыба, едва не ставшая роковой для подводного крейсера. Заставляет задуматься, наконец, и то, что субмарина врезалась в ледяную гору неподалёку от того места, где покоится злосчастный лайнер. Но фортуна, Бог, судьба положили не повторять трагедии дважды в одном и том же месте.
— Это случилось за три дня до возвращения с боевой службы, — рассказывал капитан 1-го ранга Андрей Булгаков, командир РПКСН К-407. — Ходили мы в Северную Атлантику, под Гренландию, потом выполняли задачи в Баренцевом море.
20 марта 1993 года, в 6 утра я сдал командирскую вахту старпому Юрченко и пошёл в свою каюту. За минуту до столкновения проснулся от неизъяснимого чувства тревоги. Всегда поднимаюсь легко и бодро, а тут — тягостно… Вдруг — толчок и довольно сильный. Тренькнул «Колокол» (ревун) и сразу же стих. Гаснет свет и тут же загорается аварийное освещение. Это перегорели «преды» от непонятного пока удара.
Вскакиваю и мчусь в центральный пост, одеваясь на бегу. Краем глаза замечаю, что впереди меня несутся на боевые посты люди, но всё, как в замедленной киносъёмке. Кажется, что они движутся мучительно медленно. Быстрее! Быстрее!!
Врываюсь в центральный пост и отталкиваю два рослых и тяжёлых тела — разлетаются, как пушинки. Вижу и слышу, как старший инженер-механик Игорь Пантелеев отдаёт чёткие распоряжения:
— Боцман, одерживай дифферент! Держать глубину!
Всё правильно — я не вмешиваюсь.
Смотрю на глубиномер — 74 метра. Первая мысль: столкнулись с лодкой. На такой глубине айсберги не растут.
За два дня до того получил радиограмму о том, что американская ПЛА ведёт слежение за российской подводной лодкой. Начальник штаба флота (адмирал Налётов) мог бы увести меня в нижние полигоны или ввести нас в террводы, но почему-то оставил меня наедине с супостатом. Не прикрыл.
А гидрология — самая мутная… Потом, после столкновения, прилетел наш Ил-38, поставил батитермографические буи. Взял гидрологию. Потом выяснили: при таких гидрологических характеристиках я мог услышать «американца» за 2–3 кабельтова, он меня — за 7–10. Однако гидрология уравняла всех.
Даю команду:
— Осмотреться в отсеках!
Докладывают: в аккумуляторной яме разбиты два плафона. В одной из обмоток размагничивающего устройства сопротивление изоляции «ноль». Сгорели предохранители ревунной системы и предположительно повреждена носовая цистерна главного балласта. Вот и все наши потери.
Тем временем К-407 выполняет манёвр прослушивания кормового сектора. Акустик докладывает, что слышит уходящую подлодку. Тут уж я скрываться не стал: врубил активный тракт и измерил параметры уходящей ПЛА — скорость 16–18 узлов. Перевёл её за корму — всплыл. Передал радио. Дал команду боцману — отпереть дверь ограждения рубки. Вышли на носовую надстройку, осмотрели корпус. Огромная вмятина была измазана своеобразной пастой. Я знал, что американские подлодки покрывают нижнюю часть своего корпуса специальной противообрастающей пастой для улучшения гидродинамики. Понял чётко — лодка американская. Приказал радисту выйти на международные частоты в эфир и запросить неизвестную ПЛА, не нуждается ли она в помощи?
Я был готов оказать любую помощь, если бы потребовалось. Мало ли что у них после такого удара могло случиться? Однако американец на связь не вышел. Но ведь и я мог нуждаться в помощи! Ведь и у меня могли быть более серьёзные повреждения. И мой визави на помощь бы не пришёл. Порядочные люди так не поступают. Вот и верь после этого во всеобщее морское братство.
Конечно, была досада, была злость — ведь столкновение случилось за три дня до окончания трудного, но в целом удачного похода. Утешал себя тем, что экипаж жив, раненых нет — и это главное. А значит, слава богу!
Как ни расстроился, а служба правилась. Засекли с помощью радиотехнических средств, что два «ориона» полетели в северные районы Баренцева моря, засекли интенсивный радиообмен в сетях НАТО. Установили, что к долбанувшей нас атомарине побежала «Марьятта» (норвежский разведывательный корабль. — Н.Ч.).
Всё это случилось в несчастливый для моряков день — в пятницу. И в тот же день московское радио передало сообщение ИТАР-ТАСС о столкновении в Баренцевом море «российской подводной лодки с неопознанным подводным объектом». От того что так оперативно сработали средства массовой информации, США — от неожиданности должно быть — подтвердили факт столкновения (никогда такого за ними не водилось!) и даже назвали подводную лодку — «Грейлинг», которая вскоре вернулась в Норфолк.
Президент Клинтон был взбешён. Командира сняли с должности. Повреждения атомарины были столь значительны, что лодку вскоре вывели из боевой линии, списали и утилизировали.
Нас тоже поставили в ремонт, но на плаву — в Полярнинскую Палу-губу. Ещё в море на К-407 прибыл катер с командующим Северным флотом адмиралом Ерофеевым. Первое, что он спросил у меня, это:
— Командир, а почему у тебя сапоги рыжие?
Поскольку сапог моего размера интенданты перед походом на складах не нашли, я носил обычные меховые сапоги коричневого цвета. Но вопрос был задан таким тоном, что всем становилось ясно продолжение фразы — «вот потому вы и сталкиваетесь!» Вот уровень разбора происшествия. Ещё не вникнув в суть дела, он прибыл на корабль с готовой обвинительной речью.
Потом на корабле работала серьёзная комиссия под руководством вице-адмирала Владимира Григорьевича Бескоровайного, опытнейшего подводника. Он самолично изучал наш вахтенный журнал, прокладку, документы. Сделал вывод — командир К-407 не виноват.
Главный штурман ВМФ контр-адмирал Валерий Иванович Алексин после изучения наших карт сказал мне: «Командир, твоей вины нет». Знаю доподлинно, что приказ о моём наказании переделывался трижды. И только в третьем варианте Главком объявил мне НСС (неполное служебное соответствие) и приказал списать ремонт корабля за счёт командира.
Я просил разрешить нанести на рубку цифру «1» — за уничтожение корабля вероятного противника. Не разрешили.
Всё было за почти вековую историю советского флота; и корабли взрывались и тонули, и чудовищные пожары полыхали на атомных ракетоносцах, и арсеналы на воздух взлетали, и перебежчики в офицерских погонах, забыв про честь и долг, устремлялись на катерах в сопредельные страны… Всё было. Такого не было…
Пятьдесят восьмую годовщину Октября в Риге отмечали так же, как и в других приморских городах, — морским парадом. Неожиданно для всех большой противолодочный корабль «Сторожевой» поднял якорь и вышел из парадного строя.
Это случилось на второй день празднования, 8 ноября, в 23 часа 10 минут.
Набирая скорость, военный корабль, оснащённый пушками и ракетными установками, ринулся в открытое море.
За час до этого события на корабль позвонил командующий Балтийским флотом вице-адмирал Косов; вместо голоса командира он услышал голос его заместителя капитана 3-го ранга Саблина, который доложил, что на борту полный порядок.
Тем не менее никто не знал, куда и зачем устремился корабль.
В 23 часа 40 минут офицер, сбежавший со «Сторожевого» по швартову, сообщил, что на корабле бунт.
Балтийский флот был поднят по боевой тревоге.
Вице-адмирал Косов приказал кораблям, стоявшим на Рижском рейде, догнать мятежника и доложил о ЧП в Москву.
Тревожный звонок застал Главнокомандующего ВМФ СССР Адмирала Флота Советского Союза Горшкова на даче; по дороге в Москву он связался из машины с министром обороны страны маршалом Гречко.
Приказ министра был краток: «Догнать и уничтожить!»
Корабль держал курс в ворота открытой Балтики — в Ирбенский пролив.
Косов: «Пограничники просили разрешить снести ходовую рубку вместе с Саблиным из пулемётов. Я не разрешил».
Брежнев ещё спал, когда вице-адмирал Косов поднял в воздух полк истребителей-бомбардировщиков Су-24.
Вслед за ними по приказу маршала Гречко взлетел полк стратегической авиации — ракетоносцев дальнего действия Ту-16.
«Сторожевой» предупредили: при пересечении 20-го меридиана будет нанесён ракетный удар на уничтожение.
9 ноября в 10 часов утра адмирал Горшков передал по радио на «Сторожевой» приказ: «Застопорить ход!»
Капитан 3-го ранга Саблин ответил отказом.
Маршал Гречко повторил приказ от своего имени.
Вместо ответа Саблин передал в эфир антибрежневское Обращение: «Всем! Всем! Всем!..»
Корабельный радист в конце текста добавил от себя: «Прощайте, братишки!»
Ирбенский пролив, как всегда, был забит торговыми судами; из тумана выступали только верхушки мачт.
Чтобы найти среди них «Сторожевой», лётчики снижались и читали на бортах номера.
В 10 часов 25 минут истребитель-бомбардировщик Су-24 пересёк курс корабля очередью из авиапушек.
Осколки бомб со следующего самолёта прошили борт «Сторожевого».
Корабль застопорил ход; на его палубу высадилась абордажная группа; Саблин был арестован.
«Сторожевой» вернули в Ригу; началось следствие…
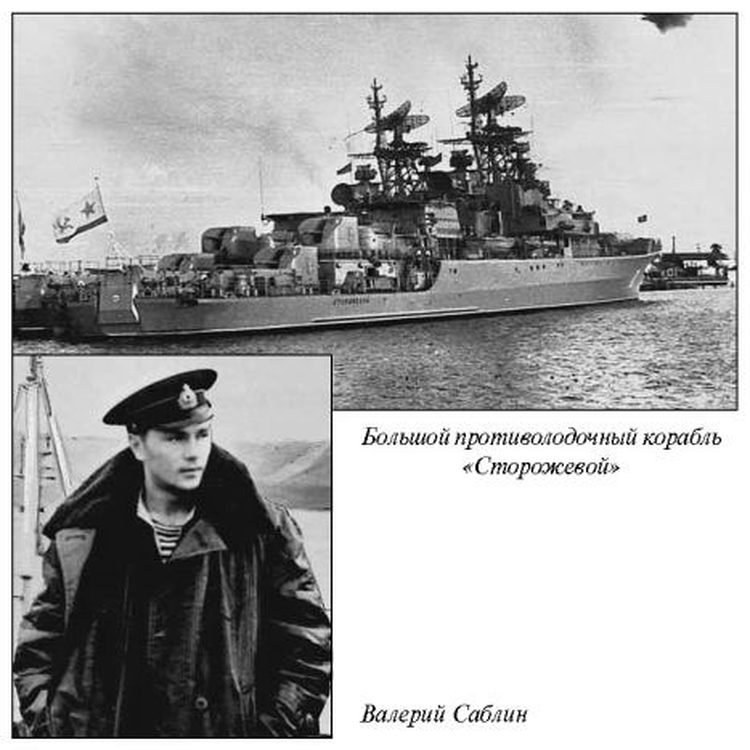
…День своего выступления он приурочил к семидесятилетию подвига лейтенанта Шмидта.
Своему сыну он завещал портрет мятежного лейтенанта, который написал сам.
Но, право, у Шмидта выступать против самодержавия было гораздо меньше оснований, чем у Саблина — против брежневской партократии. Достаточно сравнить, как их судили: Шмидта — гласно, Саблина — тайно — и как их расстреляли: Шмидта — на морском просторе, под солнцем, исполнив последнюю волю его до конца; Саблина — выстрелом в затылок под тяжкими сводами тюремных подвалов.
И всё же история поставила эти имена рядом, хотя они и были очень разными людьми — Пётр Шмидт и Валерий Саблин…
«…Приезжая в Беловежскую Пущу, бровастый охотник усаживался в „уазик“ со снятым лобовым стеклом, выставляя вперёд карабин, принимал стаканчик любимой перцовки и включал зажигание. Долго потом егеря находили на лесных дорогах расстрелянных или задавленных оленей, косуль, кабанов…» — так поведал в «Собеседнике» о «королевской» (генсековской) охоте секретарь Украинской экологической ассоциации Владимир Борейко.
В тот год им вручали награды почти одновременно: Маршалу Советского Союза Брежневу и капитану 3-го ранга Саблину. Первому — украшенную бриллиантами «Маршальскую звезду», второму — томпаковую офицерскую звезду «За службу Родине в ВС СССР» III степени: Родине он служил в океане на большом противолодочном корабле «Сторожевой».
Этим двум звёздам суждено было разное: одной — бриллиантовой — бесславный закат, другой — медно-цинковой — долгое затмение…
А пока Брежневу прилежно рукоплескали. В гуле хорошо организованных оваций потонул гневный грохот железа. То стучали костылями по батареям водяного отопления безногие фронтовики в Московском госпитале инвалидов войны, что на Преображенской заставе.
По «Маяку» только что передали сообщение о награждении Брежнева высшим полководческим орденом Победы. Сначала стала бить одна палата, к ней присоединилась другая, третья, и вот уже все этажи зашлись от грохота. Били в гулкий металл от обиды и возмущения те, чьи боевые ордена вобрали в себя цвет крови своих кавалеров… Набатный бой этого протеста не донёсся до слуха четырежды звездоносного, зато был услышан в высоких инстанциях. Госпиталь на Преображенке расформировали в считаные дни…
Нет, в те безгласные годы молчали не все. И Валерий Саблин явно из породы гневных фронтовиков, даром что в 1941-м ему было всего три года…
В 1975-м он служил на Балтике, я — на Севере. Мы были коллегами, корабельными замполитами: он — на сторожевом корабле, я — на подводной лодке. В морях мы не встречались, на берегу тоже. Фамилию его я услышал поздней осенью. Командир мой вполголоса рассказал о невероятном.
…На второй день ноябрьских праздников из парадного строя военных кораблей в Риге самовольно вышел ВПК «Сторожевой» и двинулся в открытое море. Замполит арестовал командира, занял его место на мостике и повёл корабль в нейтральные воды. Там он обратился по радио к руководителям страны с неким революционным воззванием. Поднятые в воздух самолёты остановили «Сторожевой» предупредительными залпами. А когда командиру удалось освободиться, он, поднявшись на мостик, тяжело ранил из пистолета своего заместителя по политической части — Саблина — и вернул корабль в базу.
Трудно было поверить, что вся эта история разыгралась в наше время, на нашем флоте.
Потом в кают-компании толковали разное. Мол, содеял это душевнобольной, которого вовремя не распознали. «Никак нет, — утверждали другие, — Саблин — внук того самого белогвардейского адмирала, что отказался в восемнадцатом выполнить приказ Ленина о затоплении Черноморского флота под Новороссийском; его завербовала шведская разведка, и потому он пытался угнать корабль в Стокгольм». Третьи уверяли, что-де сделал он это назло командованию, так как служба у него не пошла; задержали звание, не давали квартиру — вот и решил сразу всем отомстить.
Впрочем, нашли тогда для себя довольно удобное объяснение — авантюра. Ломать голову над смыслом происшедшего было некогда: мы собирались на боевую службу — в океан, далеко и надолго. Да мало ли авантюристов на белом свете…
И всё же зарубка в памяти осталась — «Саблин». Не забылось это имя и на флоте. Время от времени оно всплывало в досужих разговорах, в узком и доверительном кругу, оно обрастало подробностями, вероятными и невероятными, и с каждым годом «эпохи застоя» произносилось со всё более сочувственными нотками. При этом все знали, что Саблин расстрелян, экипаж расформирован, корабль сослан в моря, от Балтики весьма отдалённые, и толковать на эту тему весьма не рекомендуется.
Я вглядываюсь в старое фото: иллюминированные корабли стоят друг за другом в парадном строю; сквозь вечернюю мглу проступают силуэты башен Старой Риги. Снимок сделан 7 ноября 1975 года… Головным стоит как новейший и наисовременнейший большой противолодочный корабль Балтийского флота «Сторожевой». Своё имя он унаследовал ещё от порт-артурского миноносца, которым блестяще командовал будущий адмирал Непенин, последний командующий дореволюционным Балтийским флотом…
Я всматриваюсь в силуэт «Сторожевого» так долго, что корабль начинает чуть покачиваться на даугавской волне и стоп-кадр оживает, будто пущенная кинолента.
Октябрь 1975 года. В тот пасмурный день покупатели посудохозяйственного магазина в Калининграде недовольно толкали высокого офицера в чёрной флотской шинели, застывшего над прилавочной витриной. Чего тут думать-то?! Был бы выбор, а то одни висячие замки…
Знал бы кто-нибудь, для чего они понадобились этому нерешительному «кап-три». Он выбил чек на шесть висячих замков и уложил их на дно чёрного «дипломата».
Он решился…
Это был первый практический шаг к тому, что обдумывалось, взвешивалось, решалось все последние годы…
8 ноября 1975 года. ВПК «Сторожевой».
Из показаний командира ВПК «Сторожевой» капитана 1-го ранга А. Потульного на закрытом судебном заседании Военной коллегии Верховного суда СССР:
«Утром 8 ноября 1975 года Саблин мне предложил погулять по городу, но я отказался. В 19 часов я находился в своей каюте, зашёл Саблин и предложил мне пройти во 2-й пост РТС (выгородка гидроакустиков. — И.Ч.). Это на 2-й платформе в носу корабля. Я подумал, что, возможно, там пьянствуют матросы (Это случалось не однажды. — Примеч. генерал-майора юстиции А. Борискина), и решил пойти. Я шёл впереди, а Саблин за мной…»
В Ленинграде (тогда ещё Ленинграде) я позвонил Анатолию Васильевичу Потульному на работу без особой надежды на то, что он согласится встретиться и рассказать о самом страшном дне своей жизни. Но он согласился. Мы договорились узнать друг друга у входа в Дом журналиста, что на Невском проспекте.
Честно говоря, я ожидал увидеть эдакого заскорузлого службиста, который разразится потоком брани по адресу Саблина, оставившего в его судьбе столь тяжкий след: Потульный после ноябрьского ЧП уже никогда больше не взошёл на мостик корабля, был понижен в звании, исключён из партии (правда, после восстановлен, но какой ценой…).
Меня встретил подтянутый, худощавый, очень сдержанный ленинградец, по лицу которого, несмотря на всю его выдержку, пробежала нервическая волна, едва мы заговорили о «Сторожевом». Во всём остальном он прекрасно владел собой, и только время от времени лицо его трогала мучительная гримаса, которую он тут же сгонял.
Мы сидели за столиком в домжуровском ресторанчике, походившем своим разухабистым весельем на портовый кабачок. Совместная трапеза и традиционный перебор общих флотских знакомых несколько сгладили насторожённость, и Потульный стал рассказывать… Гремел ресторанный оркестр, извивались пары в сигаретном дыму… Порой ему приходилось почти что кричать. Но никто, кроме меня, расслышать его не мог…
Очень скоро я почувствовал, что имею дело с человеком столь же цельным и порядочным, что и герой его рассказа. Их вынужденное столкновение придавало и без того драматической истории особый трагизм. Потульный родился в глухой карельской деревушке, куда забросила служба отца — офицера-пограничника. Вырос в Ленинграде. В ВВМУ имени М.В. Фрунзе учился вместе с Саблиным, только тремя курсами старше. Потом — трудное и честное командирское восхождение: командир малого противолодочного, командир эсминца, старпом, затем командир большого противолодочного корабля «Сторожевой».
За сдержанность в общении с подчинёнными, суховатость, может быть, даже некоторое высокомерие, заслужил в экипаже прозвище Граф.
У Саблина с командиром сложились довольно ровные отношения, и он не хотел подвергать его унизительной, но всё же неизбежной процедуре ареста. Поэтому и попробовал уговорить Потульного провести праздничный день на берегу. Но командир — кремень, с корабля ни шагу; в праздники служба правится ещё круче, чем в будни, — неписаный закон военной жизни.
— Вечером восьмого ноября семьдесят пятого года, — рассказывал Анатолий Васильевич, — ко мне в каюту без стука вошёл замполит. Был он очень взволнован, бледен… «Товарищ командир — ЧП!»
Я вскочил: «Что случилось? Где?» — «Там, в носу, в гидроакустической выгородке, групповая пьянка…».
Я бросился по трапам, Саблин за мной. Люк за люком, палуба за палубой — вниз, вниз, вниз… «Здесь?» — «Ниже…» — «Здесь?» — «Ниже…» Спустились в самые низы, на семь метров ниже ватерлинии. Едва пролез в носовую выгородку, где вибраторы, как над моей головой захлопнулась стальная крышка, лязгнули задрайки. Я не сразу понял, что произошло. Огляделся — увидел конверт с надписью «Потульному А.В.» и несколько книг из корабельной библиотеки. Письмо, в котором Саблин объяснял мотивы своих действий, ошеломило меня. Я хотел выхватить из зажимов телефонную трубку — но вместо неё торчал обрезанный провод…
— Были ли на корабле тогда ракеты, ядерное оружие?
— Нет. После парада мы должны были идти в ремонт, поэтому ракеты и боезапас выгрузили ещё в Балтийске. Правда, в артпогребах были снаряды, а в арсенале — автоматы. Но ключи Саблину не дали.
Часть офицеров я выгнал в отпуск. Поэтому на корабле отсутствовали и старпом, и механик, и штурман. Зато на борту находился прикомандированный особист, который сам оказался взаперти. Вот такая ирония судьбы…
Я нашёл в выгородке какие-то железки — обломки электродов — и стал ковырять ими задрайки. Вдруг слышу: водичка за бортом зажурчала. Значит, всё-таки пошли…
Отчаяние, гнев, обида были такими, что я — откуда силы столько взялось! — одними руками выдавил крышку люка. Выбрался в верхнее помещение, но и оно было наглухо задраено. Я стал биться в новый люк. Матрос Шеин, охранявший меня, прижал крышку раздвижным упором. Но я всё равно молотил в неё.
Шеин кричал мне: «Товарищ командир, не надо! Товарищ командир, буду стрелять!..»
Но я всё же расшатал упор. Он упал. Тогда люк прижали аварийным брусом. Тут ясно понял — не открыть. Против лома нет приёма…
Из показаний В. Саблина 5 и 6 января 1976 года следователю КГБ:
«Матрос Буров (имени и отчества не помню) проходит службу на корабле „Сторожевой“ в должности радиометриста-наблюдателя с июня 1974 года… Восьмого ноября 1975 года около 17 часов я позвонил в кубрик РТС и приказал дневальному разыскать и направить ко мне матроса Бурова. Приказал Бурову открыть посты № 1–3 и № 4–6, снять в них с телефонных аппаратов трубки, обеспечить постелью пост № 2, где собирался закрыть Потульного. Затем сам проверил, как Буров выполнил приказ, оставив во втором посту конверт — „Потульному А.В.“.
Матрос Аверин (имени и отчества не помню) служит на корабле „Сторожевой“ с ноября 1973 года в должности минёра… Восьмого ноября 1975 года я видел Аверина только в момент, когда разговаривал с Потульным через люк третьего поста. В это время Аверин стоял у трапа в тамбур № 1, слышал наш разговор и наблюдал за происходящим. Здесь же был и Шеин. После разговора с Потульным я приказал Шеину и Аверину поставить на люк поста № 3 металлический раздвижной упор. Если не ошибаюсь, Аверин принёс упор. Когда я уходил, то видел, что Аверин и Шеин ставят этот упор на люк поста, где находился Потульный…»
Да, Саблин хитростью заманил Потульного в ловушку.
Он выбрал наименьшее зло, которое мог причинить в этой ситуации командиру. Единственно, чем он мог оправдаться перед самим собой — вынужденно бесчестный поступок, — это мыслью, высказанной Чернышевским (она записана в саблинском конспекте): «Революционеру ради достижения его целей часто приходится становиться в такие положения, до каких никогда не может допустить себя честный человек, преследующий чисто личные задачи». Сомнительная, конечно, сентенция, ибо каковы средства, такова и цель в своём реальном воплощении…
И всё же это не был захват корабля в духе пиратских романов, когда всех неугодных, сомневающихся выбрасывают за борт или вздёргивают на рее…
Собрав офицеров и мичманов в кают-компании, Саблин объявил о своём решении «превратить корабль в центр политической активности» и предложил каждому сделать выбор. Команда ещё ничего не знала. Матросы смотрели в столовой фильм.
Официальная версия дальнейших событий (в изложении начальника Управления Главной военной прокуратуры по надзору за использованием законов органами предварительного следствия КГБ СССР генерал-майора А. Борискина): «Обманул он и тех, кто не согласился поддержать его. Перед голосованием, которое, впрочем, воспринималось большинством как очередная развлекательная затея, он предупредил, что все не согласные с ним смогут разойтись по своим каютам, ну а после, почувствовав определённую поддержку, подверг их, как и командира, аресту. Причём делалось это под угрозой применения оружия. Готовясь к выступлению, Саблин, по его же словам, имел в кармане заряженный, с патроном в стволе, пистолет».
И здесь же, на той же самой странице «Военно-исторического журнала», откуда взята эта выдержка, Борискин, сам себе в невольное опровержение, приводит фрагмент из показаний Саблина:
«Я попросил офицеров и мичманов взять по одной белой и по одной чёрной шашке. Со смехом и шутками они разобрали эти шашки.
…Десять офицеров и мичманов, в числе которых были офицеры Овчаров, Гиндин, Смирнов, Виноградов, Садков, Кузьмин, Боганец, мичманы Хохлов, Житенёв и Грица, вышли из кают-компании и под моим наблюдением спустились в пост № 4, расположенный в трёх метрах от двери кают-компании мичманов. В этот момент я увидел недалеко матроса Шеина, наблюдавшего за происходящим. Я закрыл дверь поста ключом, а люк этого же поста — навесным замком и вернулся в кают-компанию».
Дата этого протокола — 14 ноября 1975 года — заставила сердце тихо заныть. В это время я приехал в Москву с Севера в отпуск. Саблин находился неподалёку от моего дома — в Лефортовской спецтюрьме. Беспечно предаваясь радостям отпускника, я не догадывался, что он рядом.
Собственно, винить мне себя особенно не в чём: ведь о существовании Саблина, о его выступлении я узнал только тогда, когда вернулся из отпуска в Полярный. Командир сообщил мне, что местный особист выспрашивал у наших матросов, о чём я с ними беседую на политзанятиях и в свободное время. «Пришло негласное указание, — пояснил командир, — проверить всех замов. Надеюсь, ты меня арестовывать не будешь?» — мрачно пошутил он.
Но вернёмся на «Сторожевой». Вот как воспринял саблинский «обман» офицеров мичман Виктор Бородай:
«…Пришёл Саблин и обратился к собравшимся с речью. Чёткой, неспонтанной, аргументированной, искренней. Говорил о том, что тогдашнее руководство поставило страну и её народ на путь в пропасть. Далее подобное терпеть невозможно — речь не только о флоте. Конкретно — „Сторожевой“ идёт в Ленинград, где обратится с призывом к рабочим заводов города трёх революций.
„А кронштадтцы? — спокойно уточнил кто-то. — Ленинградская база нас поддержит?“
Саблин отвечал утвердительно. Речь шла о военной организации, о выступлении против режима, но не против советской власти, сигналом становился „Сторожевой“. Саблин подчеркнул строгую добровольность выбора… Никого не хватал ни за пояс, ни за лацканы, не шептал заговорщицки. Это из разряда карикатуры, неумного анекдота, дешёвого примитива».
Давайте, господин Борискин, называть вещи своими именами. Не «под угрозой применения оружия» взошёл Саблин на ходовой мостик. Просто офицеры и мичманы (даже те, кто не был согласен с Саблиным во всём и до конца) разрешили Саблину захватить корабль. Разрешили своим непротивлением, своим самоустранением от хода событий, своим самоарестом. Замок на двери охранял не Саблина от их вмешательства, а самих офицеров от обвинений в соучастии. «Мы были арестованы, изолированы и закрыты».
И всё. И взятки с них гладки.
Ведь даже сам Борискин признаёт, что Саблин фактически был одиночкой. Помогал ему, подстраховывал его лишь один человек — матрос Шеин.
О Шеине я знал только одну подробность: на флот он призывался из города Тольятти. Но даже с такими скудными сведениями удалось его разыскать. Телефонный звонок первому из девяти Шеиных, которых назвала тольяттинская горсправка, попал, что называется, в цель. Трубку сняла мама Александра Шеина. Она же и сообщила, что сын только что уехал в Москву искать штаб-квартиру общества «Мемориал».
— Каким поездом? Номер вагона? Как Саша выглядит? Я его встречу!
— Круглое лицо, самое обычное… Клетчатая рубашка… Короткая стрижка.
На другой день я встречал тольяттинский поезд на Казанском вокзале. В потоке выходящих пассажиров я остановил парня в клетчатой рубашке, круглолицего, коротко стриженного.
— Вы Александр Шеин?
Парень изменился в лице. Мне показалось, он даже отшатнулся…
— Да, я…
Только в эту минуту я понял, как ужасающе прозвучал для него мой оклик. Да он и сам потом подтвердил, что принял меня за оперативника КГБ, который должен был арестовать его прямо на вокзале, поскольку он, Шеин, нарушил подписку о неразглашении сведений о «событиях в Риге 8 ноября».
— Ведь я вёз письмо в «Мемориал», в котором рассказал всё, что мне пришлось пережить на «Сторожевом», на допросах, в лагере. Я рассказывал в нём о Валерии Михайловиче и очень боялся, что кто-то пронюхает об этом и перехватит меня в Москве.
В глазах его стоял не истаявший за пятнадцать лет страх. Я показал ему писательский билет, извинился за неловкое знакомство и увёз его к себе передохнуть с дороги.
Генерал-майор юстиции А. Борискин:
«Закрытое судебное заседание Военной коллегии Верховного суда СССР, на котором слушалось дело Валерия Михайловича Саблина и его ближайшего подручного — Александра Николаевича Шеина, открылось в Москве 6 июля 1976 года.
Первым заслушивался подсудимый Шеин. О себе он говорил так:
„Я, Шеин Александр Николаевич, родился 7 марта 1955 года в городе Рубцовске Алтайского края… 6 октября 1973 года до ареста проходил военную службу на большом противолодочном корабле "Сторожевой" в должности и звании матроса. В 1973 году до призыва в Советскую Армию был осуждён за хищение государственного и общественного имущества к 1 году исправительных работ“.
По существу дела Шеин, который вопреки штатному корабельному списку „внештатно“ всецело подчинялся Саблину, считаясь, опять же „внештатно“, корабельным художником и руководителем ансамбля, показал следующее:
„5 ноября 1975 года Саблин вызвал меня в каюту… усадил меня на диван и заявил, что разговор будет серьёзным. Он стал рассказывать свою биографию… В разговоре он уделял много внимания недостаткам, имеющимся в нашей стране…
Я спросил Саблина, как он собирается ликвидировать существующий режим?.. Он ответил… Потом я встретился с матросом Буровым. Я хотел узнать, как Буров отнесётся к программе Саблина. Буров выслушал мой рассказ и заявил: "Люблю такие заварухи". Я Бурову сказал, что сам не знаю, прав ли Саблин, не является ли он шпионом. Тогда Буров испугался и сказал, что он пока подождёт принимать своё решение до выявления реакции других членов экипажа корабля. Если другие поддержат Саблина, то и он это сделает“.
В тот же вечер Шеин прослушал автобиографию и будущее выступление Саблина перед офицерами и мичманами, записанные на магнитную ленту. У него снова возникли сомнения. Он собрался поделиться ими с комсоргом минно-торпедной боевой части, членом КПСС Авериным. Но прежде решил заинтриговать его, спросив, как он смотрит на то, чтобы „поработать на органы Комитета государственной безопасности“. Аверина это заинтересовало, и он ответил, что согласился бы „поработать“. Вместе с тем довольно терпимо и даже с пониманием отнёсся к тому, что возможна попытка „одного из офицеров захватить и угнать корабль“. На это он ответил, что не стал бы „закладывать“ этого офицера. Тогда Шеин более подробно изложил план и программу Саблина, и Аверин согласился поддержать их. Матросу Саливончику Шеин сообщил лишь то, что 8 ноября на корабле произойдут крупные события, и посоветовал держаться около него, Шеина. Потом был разговор с Манько и Лапенко. Причём последний безапелляционно заявил, что такие, как Саблин, — просто ненужные люди. Правда, тут же смутился и даже как будто испугался. Шеин успокоил его, сказав, что этот разговор останется между ними.
„Восьмого ноября 1975 года ко мне в каюту, — показывал Шеин, имея в виду ленинскую каюту, где считался хозяином, — пришли Буров и Манько. Манько сказал, что он не будет поддерживать программу Саблина. Я с ним поссорился, стал доказывать, что программа Саблина правильная…“
Затем Шеин зашёл к Саблину и сообщил, что посвятил в его планы четырёх матросов. Саблин огорчился и упрекнул Шеина в том, что тот не выполнил его указание держать всё до поры до времени втайне. В ответ на это Шеин уже на правах сообщника Саблину пояснил, что пускай будет ударная группа».
Саблин даёт Шеину одно из самых ответственных на том этапе поручений — подготовить помещения для предстоящей изоляции командира корабля, а также офицеров и мичманов, которые не согласятся с намечаемой преступной программой. Об этом Шеин так рассказывал:
«В связи с тем, что боевые посты № 1–3, а также № 4–6 были соединены между собой и с другими постами связью, Саблин приказал мне в первую очередь отсоединить трубки от телефонных аппаратов всех шести постов РТС, чтобы изолированные лица в названных помещениях не имели возможности связаться по телефону с кем-либо на корабле».
Вскоре Шеин доложил Саблину по телефону о выполнении задания. После ужина явился к нему на очередное совещание. Саблин вручил ему пистолет без патронов. Поначалу Шеин растерялся, а затем спрятал оружие под рубаху. Между тем Саблин объяснил, что вскоре состоится встреча с офицерами и мичманами в мичманской кают-компании, где будет провозглашена «революционная коммунистическая программа». И как же намеревался новый «вождь», борец за «новую демократию» приобщить к своей программе будущих единомышленников? Очень просто — если не поможет слово, окажет содействие «товарищ маузер».
«Саблин попросил меня, — комментировал на суде этот эпизод Шеин, — во время его выступления перед офицерами и мичманами находиться в киноаппаратной мичманской кают-компании, с тем чтобы наблюдать за присутствующими на собрании и пресечь при необходимости их попытки оказать ему какое-либо противодействие, а также во время проводимых Саблиным мероприятий на корабле охранять командира корабля и не допускать освобождения его из поста РТС № 2».
Дальше события разворачивались следующим образом. Примерно в 19.30 8 ноября 1975 года по корабельной трансляции объявили о начале просмотра кинофильма для личного состава в столовой. Вслед за этим прозвучало приглашение офицерам и мичманам собраться в мичманской кают-компании. Для Шеина это был условный сигнал для активных действий.
«Я надел бушлат и, переложив пистолет в карман бушлата, — продолжал свои показания на суде Шеин, — вышел из ленкаюты и направился на бак (носовая часть палубы корабля. — Ред.). Проходя мимо люка поста № 3, ведущего в пост № 2, где был изолирован Потульный, я увидел, что указанный люк закрыт на навесной замок.
Встретив на баке матроса Уткина, попросил его сходить за Авериным, чтобы тот помог мне охранять командира корабля Потульного, так как я должен был во время собрания офицеров и мичманов находиться в киноаппаратной мичманской кают-компании и наблюдать за происходящим. Аверин пришёл, и я его попросил во время моего отсутствия наблюдать за тем, чтобы никто не предпринял попыток освободить Потульного».
Аверин заступил на «революционный пост» охранять попавшего обманным путём в ловушку командира, а Шеин направился на «наблюдательный пункт» в киноаппаратной мичманской кают-компании. Приоткрыв задвижку на одном из двух окошек, выходящих в каюту, стал наблюдать за происходящим.
Когда все расселись, Саблин, по словам Шеина, стал им рассказывать автобиографию. Основное внимание он уделял неравенству, которое сложилось в обществе и которое он, сын привилегированных родителей, мог наблюдать с раннего детства и безнравственно пользоваться этими привилегиями, всё время мучаясь оттого, что не мог от них отказаться. «Постепенно развивая мысль, он остановился на наших недостатках, — писал Шеин. — По его утверждению, люди в нашей стране утратили всякие идеалы, пропала у них и вера в партию, так как среди коммунистов появилось много приспособленцев, ловкачей, бюрократов, которые ставят свои интересы, своё личное благополучие выше интересов народа…»
Кто бы сегодня попробовал опровергнуть эти слова или поставить пресловутое следовательское «якобы»? Увы, тогда, в 1976-м, эти слова звучали чудовищной крамолой, и, чтобы они не прорвались в эфир, брежневская (читай и сталинская, хрущёвская, андроповская, черненковская) клика готова была отправить на дно морское корабль с сотнями душ… Но это, как говорится, эмоции.
Письмо же, которое Шеин вёз в «Мемориал», — документ души и сердца. Могу удостоверить его искренность, ибо прежде чем прочитать строки письма, я услышал их в живом рассказе. А чтобы оценить нечто, сказанное тебе, важно знать не только, что тебе говорят, но и как говорят.
Александр Шеин:
«Мне очень жаль, что на моём месте не оказался человек с безупречной биографией. В семнадцать лет у меня было немало правонарушений, но это были мои семнадцать лет, со своим отношением к жизни и понятием о достоинстве и чести. Я ничем не отличался от многих моих сверстников, и, наверное, действительно в обществе, где все друг другу врут, трудно быть молодым, но я ни о чём не жалею — это был мой опыт жизни. Не надо только меня выставлять отпетым уголовником, срока я нигде не отбывал, и в армию меня призвали, не спрашивая на то моего желания. В Морфлот я, конечно, напросился сам. И дело, наверное, всё-таки не во мне. Были и другие лица, с лучшими анкетными данными. Никто никого не принуждал, и корабль был остановлен только перед угрозой потопления.
Чисто по-человечески мне очень жаль, что Саблину не удалось прорваться в сферу гласности в те застойные времена Он оказал, конечно, очень большое влияние на меня. Сейчас я на многое смотрю другими глазами. Вижу многие его ошибки. Для него самого гораздо легче было бы остановиться на письме, написанном в ЦК КПСС ещё при Хрущёве. Именно эта позиция устраивала многих, и не из-за того, что кто-то лучше или кто-то хуже. Всякая борьба казалась бессмысленной, была и вера в руководящую роль советского правительства и в тот социализм, который был построен. Пятого ноября корабль утром снялся с якоря для перехода в Ригу, куда направлялся на праздничный парад. Я находился в ленкаюте, а чем занимался — не помню. Где-то в одиннадцатом часу позвонил Саблин и попросил зайти к нему в каюту замполита.
В самом звонке ничего странного не было. Чисто из служебных отношений я и сам приходил к нему по какому-либо вопросу. Канун праздника, что-нибудь насчёт стенгазеты — примерно с этой мыслью я и пошёл в каюту замполита (в силу небольших способностей был корабельным художником).
В последнее время я где-то чувствовал, что в душе у него совсем другое. Я мог что-то предположить на его счёт, но, конечно, не настолько глубоко.
Разговор по времени был примерно около часа. Начинался он с биографии, и я долгое время не мог понять, к чему всё идёт. Заволновался я с того момента, когда он уже стал излагать свои планы. В конце разговора Саблин дал мне магнитофонную плёнку с записью его выступления, чтобы я послал её кому-нибудь из своих друзей и она распространялась дальше.
Уходя от Саблина, на трапе я столкнулся со своим другом Буровым Михаилом. Я был потрясён, даже слабость появилась. Он заметил моё состояние, но здесь, на трапе, я не стал с ним объясняться. Вечером того же дня я всем с ним поделился. Мы прослушали плёнку. Договорились, что к восьмому числу он достанет ключи от постов РТС № 1, 2, 3, постов РТС, куда, по плану Саблина, предполагалось изолировать командира корабля и офицеров.
При переходе из Балтийска в Ригу Саблин находился на ходовом мостике вместе с командиром, запоминал путь следования.
Утром 6 ноября, около 10 часов, корабль встал на якорь в устье реки Даугавы в Риге. Впереди на бочках стояла подводная лодка, сзади — СКР.
Днём 6 ноября я написал письма и запечатал плёнку в бандероль. Письма написал сестре и одному товарищу по работе, оказавшему в своё время тоже на меня большое влияние. Всё это было потом изъято ещё на почте.
Саблин старался исходить из того, чтобы как можно меньше нарушить существующее законодательство. Особенно в части государственных преступлений, именно как заговора с целью захвата власти. Он уже был на учёте в Комитете госбезопасности. Всё это мешало, видимо, предварительно организоваться в какое-то ядро или группу. Основное, что могло помешать ему в этой предварительной организации, — его внутренняя порядочность и ответственность за возможные последствия в случае неудачи. Почему и получилось всё очень неожиданно и многие оказались просто неподготовленными, особенно офицерский состав. Нам было легче, и терять нам было ещё нечего.
Может быть, не совсем зрело и осмысленно, но где-то я всё это подсознательно понимал, что и побудило меня посвятить во всё ещё четырёх человек.
Это сегодня нам в принципе всем ясно, что было построено не то общество, о котором говорилось, тогда же было ещё сложно определиться, и я тоже где-то сомневался. Больше всего боялся, что вдруг этот человек окажется коварным агентом иностранной разведки. Эти четверо ребят были: Буров Михаил, товарищ из одной боевой части Виктор Манько, Аверин Владимир — единственный человек из личного состава — кандидат в члены КПСС — и ещё один человек из БЧ-4, фамилию которого уже не помню.
Седьмое ноября — праздничный день. Был парад. Из штаба округа на катере обошли строй кораблей с поздравлениями. После обеда были увольнения. Саблин записал мою фамилию в общий список. Вместе со всеми я сошёл на берег. Мне надо было отправить письма и бандероль.
Восьмого ноября ближе к вечеру Буров принёс ключи от постов. Мы поснимали телефонные трубки, оставили письмо для командира, написанное ему Саблиным. Я отнёс ключи и должен был находиться в ленкаюте.
Перед ужином Саблин заходит в рубку дежурного офицера. Под каким-то предлогом забирает у него незаряжённый пистолет. После чего заходит к командиру корабля и под видом того, что в одном из постов организована пьянка, приглашает его пройти за ним. А когда командир спустился в пост, закрыл крышку люка на замок. В возникшем некотором замешательстве Саблин предлагает прочесть письмо, в котором изложил причины, побудившие его пойти на эти крайние меры. Для командира это, конечно, был удар, но не думаю, чтобы кто-то из них от этого испытывал удовольствие. Закрыв обе крышки люка постов № 1 и 2, Саблин заходит в ленкаюту и отдаёт мне пистолет, предупредив, что он не заряжен, на случай если кто-нибудь попытается открыть командира.
Вслед за этим по кораблю даётся команда: „Личному составу собраться для просмотра кинофильма, а офицерам и мичманам — в кают-компании мичманов“. Когда офицерский и мичманский составы были в сборе (снят был даже дежурный по кораблю), Саблин выступает перед ними со своей программой и в конце предлагает проголосовать. Всё это время я находился в соседнем помещении — кинобудке, откуда наблюдал за происходящим.
В случае каких-либо противодействий в сторону Саблина я должен был оказать ему психологическую поддержку.
Проголосовавшим „против“ Саблин предложил встать и проследовать в пост № 93, объяснив свои действия как необходимость временной изоляции. Никто не возмущался. В числе проголосовавших „за“ была большая часть мичманов и три офицера, среди которых оказался уклонившийся от голосования старший лейтенант, который потом и сбежал с корабля.
Около 21 часа фильм закончился. Не случайно был выбран „Броненосец "Потёмкин"“. Мы все помнили — в мае 1975-го, при возвращении с Кубы, на обед были выданы сухари с мучным червём. Мы возмущались, а помощник командира по снабжению уверял нас, что мучной червь безвреден и сухари доброкачественные. Но есть никто не стал. Спустя полгода — 8 ноября — вспомнили и эти сухари.
Сыграли „Большой сбор“. Команда построилась на юте по одному борту.
Всё это время я находился у поста, где был изолирован командир. В ярости ему удалось сорвать замок нижнего люка, и теперь он уже пытался взломать верхний, приказывая освободить его. Здесь как раз появился старшина и ещё один матрос. Оба не пошли на построение и были немного выпивши. Отозвались на крики командира, назвали себя, тот приказал им освободить его, сказал, что на корабле заговор и измена. Оба они предприняли попытку освободить командира, завязалась драка, в горячке я разбил старшине голову рукояткой пистолета. Вмешались два мичмана, после чего он успокоился и ушёл в свой кубрик. Позже я извинился перед ним без особых симпатий, но мы разошлись мирно».
Этот печальный эпизод мало в чём рознится в пересказе самого пострадавшего — старшины 2-й статьи Копылова (старшины команды радиометристов).
«Восьмого ноября 1975 года, — рассказывал он на суде, — после ужина личный состав смотрел сначала один фильм, а затем сразу же стали показывать второй фильм… После окончания второго фильма, примерно в 22 часа, мы с Набиевым пошли перекурить на бак. Чтобы туда попасть, надо было подняться по трапу через 2-й тамбур. Как только я стал подниматься по трапу, матрос Шеин, находившийся во 2-м тамбуре, сказал, что во 2-й тамбур идти нельзя. Рука у него была в кармане. Но я продолжал идти. Шеин отступил, и я вошёл во 2-й тамбур. Набиев находился сзади. Здесь я услышал стук в нижнюю часть люка и голос командира корабля Потульного. Он сказал: „Саблин и Шеин — изменники Родины“. Я хотел открыть люк, но Шеин вынул пистолет и, направив на меня, сказал: „Буду стрелять“. Я понял, что этот человек способен на всё, и отступил на один шаг, а Набиев в это время ударил по руке Шеина поручнем от трапа и выбил пистолет. В тамбур вошли мичманы Калиничев, Величко, Гоменчук и Бородай. Они схватили меня. Шеин поднял пистолет. Набиев куда-то исчез. В это время Шеин ударил меня рукояткой по голове. Я схватился за голову, пошла кровь. Началась драка с мичманами. Потом я от них вырвался и пошёл в кубрик умываться. В это время был объявлен „Большой сбор“. Я пошёл на ют. Там уже был собран личный состав. Перед матросами выступал Саблин. Увидев меня, он прервал речь и сказал: „Вот Копылов тоже ничего не понял… и получил за это“. Саблин предложил мне остаться. Я не остался и пошёл во 2-й тамбур. Там стояли Саитов и Шеин. Люк во 2-й тамбур был закрыт на замок. Шеин попросил у меня извинения за нанесённые удары. Потом подошли Гоменчук и Кутейников. Они спросили меня, доволен ли я жизнью. Я ответил, что всем доволен. Они ушли. Зашёл Фирсов и ушёл на бак. Я пошёл в кубрик…»
Для меня, как, наверное, и для многих других, в этой истории важно не то, как Саблин захватывал корабль, но как он пришёл к такой мысли, что заставило его швырнуть свою жизнь в расстрельный подвал? Да и кто он вообще таков — Валерий Саблин?
Поиск мой начался с посещения Омска, где в областной газете работала двоюродная сестра Валерия — Тамара Леонидовна Саблина. Летел с опаской: как-то ещё встретит? Тамара Леонидовна, резкая, решительная, боевая, встретила так, будто ждала подобного визита долгие годы. Она ничуть не сомневалась в правоте двоюродного брата и выложила на стол те немногие фотографии, которые ей удалось сохранить. Я впервые увидел лицо этого человека — красивое, смелое, открытое — и поверил ему сразу.
Тамара окончила ленинградский журфак. Она училась в те самые годы, что и Валерий в своём училище Фрунзе.
— Мы нередко встречались, — рассказывала Тамара Леонидовна, — благо университет находится в двух шагах от его училища… Конечно, он, как и большинство курсантов, был очень наивен и смотрел на жизнь комсомольскими глазами. Мы, студенты, были менее зашорены, и я, как могла, объясняла ему, что действительность в Стране Советов гораздо сложнее, противоречивее, чем внушают ему на политзанятиях.
Только что закончился Международный фестиваль молодёжи и студентов, потрясший наши нетронутые умы. Впервые приподнялся не так называемый, а самый настоящий железный занавес, отгораживавший нас от всего остального мира четыре десятилетия. Начиналась хрущёвская «оттепель». В университете ходили по рукам запрещённые рукописи, дерзкие стихи… Кое-что я давала читать и Валерию. Он рос на глазах, жадно впитывая дух университетской вольницы…
Из Омска я улетел с фотографией Саблина и тремя адресами, которыми снабдила меня Тамара: адресом младшего брата — Николая — в Горьком, старшего — Бориса — в Белоруссии и вдовы — Нины Саблиной, жившей с сыном в Ленинграде.
Не было белого адмирала в родословной Валерия Саблина. Прадед по матери, кондуктор-балтиец Фёдор Савельевич Тюкин, погиб в октябре 1914 года вместе со всем экипажем крейсера «Паллада». Дед, Василий Петрович Бучнев, родом из Великого Устюга, тоже морячил на Балтике — боцманматом в Кронштадте. Дед по отцу, вятич Пётр Иванович Саблин, воевал в Первую мировую на коне, а затем в Гражданскую; трижды краснознамёнец. В семье его сына, капитана 1-го ранга Михаила Петровича Саблина, росло трое парней: Борис, Валерий, Николай. Отцом братья гордились, знали наперечёт его боевые награды: орден Красного Знамени, два Красной Звезды, обе степени «Отечественной войны»…
Встретил войну и закончил её Саблин-старший на Северном флоте. Его высоко ценил и уважал тогдашний комфлота адмирал Арсений Головко. Уважал за знание дела, за скромность, за высокое чувство личной чести…
Выйдя в отставку, Михаил Петрович перебрался в Горький, где ещё долгие годы учил курсантов речного училища военному делу.
Братья, разумеется, готовились в моряки. Но одного подвело здоровье, другой на юношеском распутье выбрал стезю военного инженера. Так что их общую и отцовскую мечту осуществил лишь Валерий. В 1956 году он поступил в Высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе — старейшее и славнейшее в стране учебное заведение, унаследовавшее стены, книги и в какой-то мере традиции знаменитого Морского кадетского корпуса. Выбор помогли сделать не только гены, но и надежда вырваться на просторы морей — стихию свободы. «Насмотревшись на затхлую, мерзкую жизнь горьковских горожан, — объяснял он потом в своей последней речи перед микрофоном магнитофона, — я отшатнулся от всякого варианта идти в институт».
Мама провожала его со слезами на глазах. Моряцкая жизнь мужа давала ей точное представление о судьбе, выбранной сыном.
Сохранилось письмо Саблина-второкурсника, вернувшегося из учебного похода:
«Сегодня только что пришли к стенке, уже полмесяца были в море. На берег ещё не ходил. Эти 15 дней пролетели мгновенно. Смешалось всё: где день, где ночь, где понедельник, а где суббота. Чем больше здесь (на новом эсминце) нахожусь, тем больше убеждаюсь, что не зря пошёл в ВМУ, не ошибся в выборе. Здесь сильнее ощущаешь, что ты на корабле, что ты боевая единица, что командир корабля — это ответственное лицо, которое одним словом заставляет корабль мчаться вперёд, палить изо всех орудий, которое отвечает за корабль, за людей. На крейсере это как-то не ощущаешь. Там всё добротно, прочно, это крепость на воде, даже качается он вдумчиво, важно. А эсминец носится, что птица, качается, что лодка; если делает поворот, то от всей души, ласково касаясь щекой-бортом волны-подушки…
Я уже изучил 3 специальности, могу заменить старшину. Люблю разговаривать с матросами об их жизни до флота, они с удовольствием вспоминают об этом, и перед тобой сразу раскрывается душа человека. 25.05.58 г.».
Пройдут годы, приутихнет юношеская восторженность, но навсегда вплетутся в его жизнь любовь к морю и это искреннее внимание к матросу, к его личности, к его душе. Потом оно перерастёт в острый интерес к человеку вообще, к положению дел в стране, в обществе.
«Служба идёт хорошо. Очень привык к кораблю и матросам. Даже жалко расставаться. У нас хорошие отношения, это даже замполит заметил Я люблю беседовать с матросами об их прежней жизни. Они любят вспоминать, и я уже знаю о многих — об одних большего других меньше. Интересно! Вот вчера с одним, Смирновым, сидели, штопали обвес и беседовали. Он из деревни в Калининской области, был младшим конюхом. Его слушаешь — и как будто книгу о крестьянской жизни читаешь… До чего они интересные, эти матросы! Вот приеду — расскажу. Зря тогда Тамара (двоюродная сестра — Н.Ч.) ахала по поводу невежества в деревне. Они, правда, в большинстве имеют по 4 класса образования и не знают многих вещей, но по ряду качеств они лучше городской интеллигенции».
«Беседа о Ленине прошла хорошо. Стыдно признаться, но только на 21-м году жизни, кажется, по-настоящему понял величие Ленина. Раньше это было как-то бессознательно и поверхностно…»
«Примерно год я не думал о политике, жизнь была сплошным комком переплетения служебных и учебных вопросов, личного ничего не было. Второй и третий курс — поиск справедливости и истины по ряду мелких вопросов…» («Ну а вопросы были, к примеру, такие, — комментирует этот отрывок из письма в „Военно-историческом журнале“ генерал-майор Борискин, — о равенстве родителей курсантов — выступление на партийном собрании; о непозволительности растить из нахимовцев барчат — письмо в ЦК ВЛКСМ; о том, что крейсера — плавающие гробы, до тех пор пока на них всё-таки служат люди, — письмо Н.С. Хрущёву».)
По признанию Саблина, на него многие, особенно начальники, смотрели как на чумного. Сам же он называл эти поступки «мелочной детской борьбой за справедливость».
Все мы родом из детства. Детство Валерия пришлось на четыре города с именами мужскими и мужественными: Архангельск, Полярный, Североморск и Горький. Что ни город, то дядька-воспитатель в матросской робе, в рабочей блузе; каждый оставил свой чекан в мальчишеской душе. И, наверное, больше всего — Полярный. В Полярном он узнал, что такое война. Может быть, потому они и играли с братом в Робинзона, а не в «войнуху», что Полярный был фронтовым городом, главной базой действующего флота; здесь выли сирены, ревели «юнкерсы» и гладь Екатерининской гавани вздымали не попавшие в корабли бомбы. А жена капитана 1-го ранга Саблина не раз и не два, схватив сыновей за руки, бежала из Циркульного дома в убежище под скалами.
«Мама отдавала нам весь хлеб, а чтобы заглушить голод, стала курить, — вспоминает старший из братьев Саблиных — Борис. — Однажды я обнаружил в карманах Валерки множество окурков. Хотел надавать ему по шее, думал, потягивать начал».
Борис Михайлович Саблин, высокий, моложавый, пышноволосый подполковник-инженер в отставке, окончил Горьковский политех. На флот не прошёл по здоровью. Но служил в тех же местах, что и Валерий. Пятнадцать лет на Севере. Был посвящён в высшие военные секреты страны, имел дело с ядерным оружием. И служил на этом опасном и ответственном поприще долго и честно, до последней капли крови — это в прямом смысле: однажды пришлось перенести полное переливание облучённой крови.
После ноября 1975-го его высокую должность «неожиданно» сократили. И начались хождения по мукам, то бишь по инстанциям. Всё кончилось благополучно… Сейчас он ремонтирует колхозные радиостанции в белорусской глубинке и на жизнь не жалуется. Может быть, потому, что действительно счастлив, может быть, потому, что ныть и унывать — не в породе Саблиных.
«В училище, — вспоминает бывший однокашник Саблина А.И. Лялин, — Валерия называли совестью курса. Не подумайте, что он был занудой. Нет, он был очень весёлым и в то же время умел быть твёрдым в принципах. Не вилял.
Голос у него был не очень сильным, ближе к тенору. Но брал он не голосом, а логикой, убеждённостью. Много читал. Порой ухитрялся это делать даже в нарядах, но не манкируя обязанностями, а улучив свободную минуту. Училищное начальство его ценило. Он быстро стал командиром отделения, одним из первых из нашего потока вступил в партию — на четвёртом курсе ещё. Мы выбрали его секретарём факультетского комитета ВЛКСМ.
Разгильдяям от него доставалось. Он вообще был требовательным к товарищам. Но, повторяю, это шло у него не от патентованной идейности комсомольского карьериста, а от глубокой внутренней порядочности.
Был такой случай. Появился у нас вор. Начали пропадать деньги из бушлатов, из тумбочек. Ну, стали мы осторожнее. А Саблин „завёлся“ и нашёл-таки способ уличить вора. Курсантишку этого отчислили. Понимаете, Валерий даже мысли не мог допустить, что будущий офицер флота может быть вором! (Не говоря уже о главе государства.) Он считал позором для себя ходить в одном строю, жить под одной крышей с карманником.
Простите мне громкие слова, но я считаю его идеалом советского человека».
«Очень хочется, Валера, чтобы твои светлые взгляды на жизнь сохранились навсегда. Г. Родыгин».
«Борцу за справедливость. Г. Каневский».
Одно из пожеланий, шутливое, в стихах, оказалось, на мой взгляд, пророческим: «Желаю стать героем мира, чтобы тебя воспела лира, как гордость русских моряков в теченье будущих веков!»
Итак, в декабре 1960 года лейтенант Саблин начал свою офицерскую службу в Севастополе, на эскадренном миноносце «Ожесточённый», который очень скоро перевели на Северный флот. На корабле он командовал группой управления артиллерийским огнём, затем — дивизионом… Как командовал, видно из письма, которое командир эсминца направил его отцу 22 января 1965 года:
«Уважаемый Михаил Петрович!
Командование корабля, где служит Ваш сын, старший лейтенант Валерий Михайлович Саблин, благодарит Вас как отца, за то, что Вы воспитали для Родины хорошего сына, для партии — преданного коммуниста, для флота — примерного командира. За период службы на корабле Ваш сын имел 8 поощрений от командования корабля и флота.
Мы гордимся Валерием, с которого берут пример все командиры подразделений. Он много отдаёт сил и своей молодой, кипучей энергии в деле повышения боевой готовности корабля и укреплении воинской дисциплины среди всего личного состава…
Командир корабля капитан 3-го ранга Малаховский».
Эти «громкие слова» произносил в адрес Саблина не один Лялин. После выпуска новоиспечённые лейтенанты дарили друг другу свои курсантские фото, надписывая их от души.
«Валера, будь таким, каким ты был с нами. Ю. Михайлов».
«Наивыдержаннейшему, наипринципиальнейшему Валерию — Коленов».
«Что мне всегда в тебе нравилось, это твои принципиальность и прямота. Будь таким всегда. А. Матюшин».
Энергия у него и в самом деле была кипучая.
«Из нас троих, — вспоминает Николай Михайлович Саблин, младший брат, — он был самый жизнерадостный. Душа любой компании, пел под гитару, хоть и без голоса, но с отвагой. Турист. Лыжник. Волейболист. И всё с азартом, с удалью. Неплохо рисовал. Курсантом ещё написал портреты Маркса и Ленина. Заядлый фотограф. С „ФЭДом“ не расставался. Вон сколько снимков осталось… Это вот Эльбрус, „Северный приют“, Терскол… Это в дюнах на Балтике, это Куба — крокодилий питомник, Росток, Варнемюнде, Севастополь. Заполярье…
На лето родители снимали избу в деревне Белынь, что на берегу Горьковского водохранилища. Если у Валеры случался в это время отпуск, он наведывался к ним с женой и сыном. Уезжая, раскладывал всюду шутливые записки, которые отец с матерью находили порой и спустя неделю после отъезда сына, и, конечно же, очень радовались и веселились. Зайдёт отец в сарай, а там к лопате бумажка привязана: „Не увлекайся! Почаще отдыхай“. Мама возьмёт книгу, а там закладка с надписью: „Не забудь надеть очки!“ И три весёлых человечка вместо подписи: Валерий, Нина и Миша.
С женой, Ниной, ему повезло. Познакомились они в училище на танцах. Вроде бы, обычный роман морского курсанта и ленинградской студентки. А вот нашли друг друга сразу и на всю жизнь. Вместе и на край света, то бишь на Крайний Север, и на Эльбрус — в одной связке поднимались и все кавказские перевалы облазили».
В свадебное путешествие молодая чета отправилась на пароходе «Адмирал Нахимов». Злосчастное судно! Уж не оно ли накликало вечную разлуку?!
Я слушаю рассказ младшего брата в горьковской квартире Саблиных, что в Холодном переулке, в былом родовом гнезде, где прошла юность Валерия. Николай перехватил мой взгляд. На верхней крышке фортепиано стоял латунный якорь, обвитый чёрной матросской лентой. Память о брате.
Помолчали…
«Родился он в Ленинграде на Васильевском острове в тридцать девятом. Детство же прошло в Горьком. Отсюда и в училище уходил, опять же в Ленинград. Ну а кто он больше — волжанин или ленинградец, балтиец или североморец, — сказать не могу. Да он и сам, наверное, бы не сказал… Жизнь его швыряла, дай боже! За пятнадцать лет службы сменил двенадцать мест жительства и три флота… В Североморске жил в такой хибаре, что одна стена то и дело отваливалась. Мы не слышали от него ни одной жалобы. Никогда не унывал и не давал падать духом другим».
Любительский снимок с белыми пятнами по углам. В крохотной североморской комнатушке весь немудрёный лейтенантский быт: стул с наброшенным кителем, допотопная радиола, Валерий в офицерской ушанке с охапкой дров, Нина с малышом. Три весёлых человечка. Миг счастья. Какой-никакой, а свой угол… Фото из Геленджика. Купался в шторм. И подпись: «Волна не сбила с ног».
Я долго вглядывался в мокрое и счастливое лицо отважного купальщика. Было в его улыбке что-то широкое, гагаринское. Улыбка сильного и доброго человека. Ещё один снимок. Мостик эсминца. Лейтенант Саблин с повязкой вахтенного офицера задумался у рукоятей машинного телеграфа. «Товсь! Стоп! Малый назад! Полный вперёд!..»
Так стоят на распутье перед дорожным камнем: «Направо поедешь — коня потеряешь, прямо поедешь — убитому быть…» Он выбрал — прямо.
Несмотря на блестящие аттестации, лейтенант Саблин очень не скоро стал старшим лейтенантом. Звание ему задержали почти на год. За что? Написал письмо Н.С. Хрущёву.
В. Саблин (из показаний на суде):
«…В нём я наряду с изложением ряда вопросов теоретического плана писал, что партию надо очистить от подхалимов и взяточников. После этого я был приглашён в Мурманский обком партии, где меня крепко отругали».
Смысл внушения разгадать нетрудно: «Сиди и не вякай, без тебя разберутся. А будешь лезть через головы начальства, не видать больших звёзд».
Кажется, Саблин урок понял и с головой ушёл в корабельную службу. Почётная грамота «Старшему лейтенанту В. Саблину за достигнутые успехи при выполнении заданий командования в период дальнего перехода Североморск — Севастополь. Командир части контр-адмирал Беляков».
Когда молодой офицер переводился на другой корабль, в кают-компании эсминца ему вручили адрес на бланке командующего Черноморским флотом:
«Уважаемый товарищ старший лейтенант Саблин Валерий Михайлович! Командование части, офицеры и личный состав с глубокой благодарностью будут вспоминать Вас как грамотного и умелого специалиста, душевного, чуткого и требовательного офицера-воспитателя, образцово исполнявшего свой воинский и гражданский долг. Пусть Ваше мужество и тепло Вашего сердца всегда будут согревать и вдохновлять людей! Выражаем уверенность, что, уходя из в/ч 13041, Вы и впредь будете служить образцом честности и преданности нашему великому делу — построению светлого коммунистического общества.
Севастополь, 21 декабря 1965 года».
Флот всегда был скуп на похвалы, тем более молодым офицерам Это напутствие тоже оказалось пророческим: «…Вы… будете служить образцом честности и преданности…»
Ещё одна почётная грамота: «Капитан-лейтенанту В.М. Саблину. За инициативу и настойчивость в обеспечении испытаний нового оружия и техники в 1968 году. Командующий Краснознамённым Северным флотом адмирал Лобов».
Можно долго перебирать пожелтевшие грамоты: «За высокие показатели спортивной работы на корабле», «За активное участие в пропагандистской работе», «…в военно-научной работе», «За пересечение экватора», — но и без того ясно: офицер служил не за страх, а за совесть. Его прочили в командиры корабля, предлагали учёбу на Классах. А он удивил всех, отпросившись поступать в Военно-политическую академию.
Иные проделывали подобный кульбит, чтобы сменить лямку строевой службы на не столь обременительную политработу, выводившую порой к большим звёздам куда быстрее, чем крутой трап корабельной карьеры. Выбор же Саблина определялся одной из важнейших черт его характера: «Во всём мне хочется дойти до самой сути…»
В. Саблин (из обращения к экипажу, записанного на магнитную ленту):
«В этот момент мысли у меня клокотали в голове, и всё искал я причину, почему так, а не иначе, у нас складываются отношения в стране… Что-то, я чувствую, надо было делать, но не хватало знаний. Забивали меня цитатами и давали понять, что серый я в вопросах политики. Пишу в Ленинградский университет с просьбой разрешить учиться если не заочно, то экстерном. Дали отказ, экстерном, говорят, нельзя, а заочно не положено. Остаётся один выход — это Военно-политическая академия. Пишу туда. Это было в шестьдесят четвёртом году. Присылают правила приёма. Оказывается, надо с должности капитан-лейтенанта и надо два года прослужить в этой должности. В Севастополе такие должности не валяются, и надо ждать минимум два года. Созревает решение — всё-таки поступать в академию. Решение серьёзное, сложное… Пишу рапорт о переводе на Север. Переводят, предлагают должность помощника командира на СКР — на сторожевой корабль. При назначении предупреждаю комбрига капитана 1-го ранга Крылова, что через два года — по положению, как я сказал, надо два года служить в должности, — что через два года буду уходить в политическую академию. Он воспринял это как шутку и легко согласился. […] Служить надо было хорошо, чтобы отпустили в академию. Политику пришлось отставить на второй план. Обходился лишь тем, что собирал факты, обличающие нашу действительность, и читал классиков марксизма-ленинизма».
О, если бы те, кто его судил, видели саблинские конспекты трудов Ленина, Маркса, Плеханова… Как разительно не похожи они на обычные, школярски, бездумно переписанные у соседа с одной лишь целью — предъявить на экзаменах. По этим выпискам хорошо видно, как вызревала саблинская мысль, его решимость…
Из К. Маркса: «Нравственное государство предполагает в своих членах государственный образ мыслей, если даже они выступают в оппозиции; карающий за образ мыслей не есть закон, изданный государством для его граждан. Это закон одной партии против другой».
Из Ф. Дзержинского: «Мы, коммунисты, должны жить так, чтобы широчайшие массы трудящихся видели, что мы слуги народа, что победой революции и властью мы пользуемся не для себя, а для блага и счастья народа».
Из А. Блока: «Жить стоит только так, чтобы предъявить безмерные требования к жизни… верить не в то, чего нет на свете, а в то, что должно быть на свете; пусть сейчас этого нет и долго не будет. Но жизнь отдаст нам это, ибо она прекрасна».
Он изучал марксизм без поводыря-конвоира. Он общался с классиками напрямую — без наёмных толкователей и высокооплачиваемых интерпретаторов. Он вошёл в зону запретной мысли и читал то, чего не было в программе. Его Поэт вздыхал в те годы:
Валерий не только штудировал книги, но и жадно расспрашивал о жизни всякого нового человека, с кем сводили его дела, служба, дорога, — будь то старый школьный товарищ, сосед по купе или водитель столичного такси.
— Не доведут тебя эти разговоры до добра! — печалилась жена. И как в воду смотрела.
Незадолго до поступления в академию, летом 1968 года, Саблин встретил в Горьком старого школьного друга, Сергея Родионова. Посидели в ресторане. Поговорили. Поспорили. Валерий разоткровенничался. Объяснил приятелю, зачем поступает в политическую академию. Мог ли он подумать, что однокашник не погнушается взять в руки перо и настрочить донос в политуправление Северного флота! Но именно так всё и вышло. За двенадцать дней до отъезда в академию капитана 3-го ранга Саблина вызвал к себе член военного совета и долго задавал всякие каверзные вопросы. «Затем достал из ящика стола письмо, — как повествует о том Борискин, — и сказал, что, дескать, некий друг из Горького заявляет о подготовке Саблина к государственному перевороту».
Легко представить себе, что пережил в эти минуты Саблин. Но времена всё же были иные, и 37-й год отстоял на тридцать лет в прошлом. Да и репутация у Родионова в КГБ была подмочена, поэтому особый отдел Северного флота отправил письмо на усмотрение контр-адмирала Сизова. Надо отдать должное члену военного совета. Он оказался человеком широких взглядов и большой смелости. Донос списал в архив, и капитан 3-го ранга Саблин отбыл в Москву на учёбу.
Могу представить себе, какой выговор вкатили потом Сизову по партийной линии — «за утрату политической бдительности»!
В. Саблин (из обращения к экипажу, записанного на магнитную ленту):
«Я никогда не был высокого мнения о политработниках послевоенного времени, так как они, как правило, очень недалёкие в рассуждениях, много думают о личном благе и мало о деле, бездельники и болтуны, иногда очень красивые болтуны, и они, как правило, не пользуются авторитетом среди личного состава. Учёба в академии утвердила меня, моё мнение в том. Окружение было очень плохое. Постоянные интриги, споры между собой, стремление выслужиться перед начальниками, склоки. Это — в основе. Хотя человек десять были порядочными, в определённых пределах, товарищами. Начальник факультета адмирал Горелкин поощрял такую обстановку среди слушателей, не терпел противоречащих, но умел очень возвышенно говорить о партийной принципиальности… Я, естественно, побаивался выходить на беседы с такими вопросами, так как можно было далеко зайти в споре и в итоге выйти из академии… К сожалению, в Москве я не видел щели хотя бы, в которую можно было высунуть голову, чтобы подышать свежим воздухом свободной мысли, чтобы где-то можно было высказать свои мысли, поговорить. Были попытки найти мыслящих людей вне академии. Год я вёл группу партшколы на заводе „Динамо“, пытался вызвать на откровенность некоторых рабочих. Но они критиковали начальство заводское, порядки, но не более. Стал членом общества „Знание“ от Краснопресненского райкома партии, ездил с лекциями по Москве… Чувствовал, когда читал лекции, отчуждение аудитории, когда говорил о цифрах пятилетки, призывах партии… Была встреча у меня с начальником цеха завода „Динамо“ в домашней обстановке. Оказался мелким человеком… Пытался встретиться с поэтом Евтушенко. Мне нравится его гражданственная стихия. Но он уклонился от встречи, так как собирался улетать в Японию…»
Военно-политическую академию Саблин окончил с отличием, имя его было выбито на белом мраморе в ряду тех, кем гордилась академия. В ноябре 1975 года его поспешно вырубили зубилом. Те, кто отдавал этот приказ, думали, что история — это мраморная доска, навечно отданная им в цензуру…
Мы всё видели, всё понимали, посмеивались анекдотам о густых бровях Брежнева — усах Сталина, поднятых на должную высоту, о том, что в Москве-реке начаты промеры для крейсера «Аврора», — и ждали, когда нам объявят перестройку, а вместе с ней и эпоху гласности. Он ждать не захотел.
Мы ждали, ибо каждый из нас считал себя ничтожной силой для того, чтобы что-то изменить. Он так не считал.
«Эпоха застоя» — очередной наш эвфемизм. Слишком мягко обозначено то время. То был не просто застой, то было гниение заживо, распад государства, растление душ. Я хорошо знаю, как корёжила флот эта ползучая, сродни СПИДу, социальная болезнь — брежневщина: синдром приобретённого идейного дефицита.
Флот — тонкая и сложная структура, на которой сразу же отзывается любое нездоровье общественного организма, будь то взяточничество, наркомания или засилье бумаг. Корабль — модель государства в миниатюре. Лихорадит страну — трясёт и корабль. В те недоброй памяти годы флот лихорадило как никогда. Именно тогда начался расцвет махровой «дедовщины», повалил чёрный дым аварийности. Корабли горели, сталкивались, тонули. В 1974 году загорелся, взорвался и затонул большой противолодочный корабль «Отважный». Спустя год забушевало пламя на огромном вертолётоносце «Москва», гибли подводные лодки…
В грозных приказах причиной всех несчастий чаще всего называлась «халатность должностных лиц». Но у этой «халатности» были длинные и разветвлённые корни, уходившие в «идейный дефицит»: политическая апатия, показуха, пресловутый вал, только в военно-морском варианте, ледяное равнодушие начальства к быту и судьбам подчинённых, наконец, как следствие всего этого — дикое, повальное пьянство.
Ровесник Саблина, Владимир Высоцкий выкрикивал в магнитофонный эфир горькие слова:
Капитан 3-го ранга Саблин посмел поднять глаза, посмел вскинуть голову, посмел возвысить свой протестующий голос…
Мог ли он выбрать иной путь? Легальный. Скажем, выступить на партийной конференции части. Но кто бы его выпустил к микрофону, просмотрев, как тогда это водилось, тезисы выступления? Далеко бы его услышали, если бы ему всё-таки дали слово? Да и был у него уже печальный опыт — письмо к Хрущёву…
Увы, единственная трибуна, с которой военный моряк может быть услышан своим народом, — это мостик мятежного корабля. Он поднялся на эту трибуну, прекрасно сознавая, что поднимается вместе с тем и на эшафот…
В. Саблин (из обращения к экипажу, записанного на магнитную ленту):
«Напряжённо и долго думал о дальнейших действиях, принял решение кончать с теорией и становиться практиком Понял, что нужна какая-то трибуна, с которой можно было бы начать высказывать свободные мысли о необходимости изменения существующего положения дел… Лучше надводного корабля, я думаю, такой трибуны не найдёшь, а из морей лучше всего Балтийское, так как в центре Европы. […]
Никто в Советском Союзе не имеет и не может иметь такую возможность, как мы, потребовать от правительства разрешения выступить по телевидению с критикой внутреннего положения. Это позволяет изолированная территория, подвижность и вооружённость корабля, автономность и вооружённость связью…»
В день тридцатипятилетия старший брат прислал ему в пожелание четверостишие Расула Гамзатова:
Будущие историки определят, когда именно, с какого года шестидесятых ли, семидесятых страна стала погружаться в мертвящий сон «застоя». На мой взгляд, конец «оттепели» настал в 1968-м, когда под гитарный набат Поэт пропел-прокричал: «Граждане, Отечество в опасности! Наши танки — на чужой земле».
Дальше с каждым годом летаргия «застоя» цепенила страну всё глуше и крепче. Дурман фимиама, который курили Брежневу, словно опиум, отравлял общественную мораль, право, совесть и память народа. Культо-штамповальная программа, заложенная Сталиным и его клевретами в пропагандистскую машину, разблокированная при Брежневе, начала воздавать сталинские почести человеку с густыми бровями исправно и столь же слепо и неутомимо, как и любой автомат, которому совершенно безразлично, что люди, на чьих глазах он вершит свою нелепую работу, смеются, негодуют, разуверяются…
Если поступок Саблина ещё кем-то оспаривается, то это только потому, что пока не сказана вся правда о Брежневе и брежневщине, о времени упущенных возможностей, времени чудовищных и почти неоплатных долгов перед природой, перед народами страны, перед будущими поколениями. Нужен был взрыв, залп, удар в колокол, чтобы страна проснулась, огляделась, прозрела, устыдилась, вознегодовала. Нужны были новые броненосец «Потёмкин» и крейсер «Аврора». Вот тогда-то БПК «Сторожевой» стал поднимать якоря…
«Я долго был либералом, — писал Саблин в своём прощальном письме жене, — уверенным, что что-то надо чуть-чуть подправить в нашем обществе, что надо написать одну-две обличительные статьи, что-то надо сменить… Это было примерно до 1971 года. Учёба в академии окончательно убедила меня в том, что стальная государственно-партийная машина настолько стальная, что любые удары в лоб будут превращаться в пустые звуки…
Надо сломать эту машину изнутри, используя её же броню. С 1972 года я стал мечтать о свободной пропагандистской территории корабля. К сожалению, обстановка складывалась так, что только в ноябре 75-го возникла реальная возможность выступить… Что меня толкнуло на это? Любовь к жизни. Причём я имею в виду не жизнь сытого мещанина, а жизнь светлую, честную, которая вызывает искреннюю радость у всех честных людей. Я убеждён, что в народе нашем, как и 58 лет назад, вспыхнет революционное сознание и он добьётся коммунистических отношений в нашей стране. А сейчас наше общество погрязло в политическом болоте, всё больше и больше будут ощущаться экономические трудности и социальные потрясения. Честные люди видят это, но не видят выхода из создавшегося положения…»
Он увидел свой выход… Привести корабль в Ленинград и — как в семнадцатом — шарахнуть в эфир: «Всем! Всем!! Всем!!! Говорит свободный корабль „Сторожевой“…» И дальше — правду-матку о положении в стране: «Граждане, Отечество в опасности! Его подтачивают казнокрадство и демагогия, показуха и ложь… Вернуться к демократии и социальной справедливости… Уважать честь, жизнь и достоинство личности…» О, сколько всего надо было прокричать в эфир!..
В том же 1975-м его Поэт умолял под гитару: «Дайте выкрикнуть слова, что давно лежат в копилке!» Саблин прекрасно понимал, что ему никто не позволит выкрикнуть то, чем изболелась душа… Заветная тетрадь Валерия обрывается последней записью: «И ты порой почти полжизни ждёшь, когда оно придёт, твоё мгновение!»
Его мгновение пришло 8 ноября 1975 года. В тот день страна праздновала не только 58-ю годовщину Октября, но и семидесятилетие первой русской революции: «Потёмкин», «Очаков», лейтенант Шмидт… Шмидт был его кумиром. В каюте Саблина висел портрет мятежного лейтенанта. Валерий написал его сам (он неплохо рисовал) и завещал портрет сыну. Лучшего дня для выступления было не придумать. Уверенности в успехе придавало ещё и то, что корабль недавно вернулся из Атлантики, где нёс боевую службу, вернулся с хорошо сплаванным экипажем, который верил в своего замполита и готов был идти за ним.
Итак, 7 ноября 1975 года Саблин писал в своей каюте под мокрый свист балтийской осени прощальное письмо родителям.
Весной он поздравил их с тридцатилетием Великой Победы:
«Дорогие, хорошие мои мамочка и папочка, с днём Великой Победы!!!
Нет такого ордена, который был бы равноценен подвигу нашего народа! Народ голодал, народ истекал кровью, народ побеждал и народ победил!! Я крепко целую вас обоих за то, что вы тоже были этим народом! И сердцем, и умом понимаю, что вы не просто мама и папа, а родители, испытавшие войну и вложившие свой вклад в Победу, сделавшие всё, чтобы в суровые годы войны растить сыновей!
Спасибо! Крепко целую. Валерий».
Теперь он писал иное письмо. Поймут ли? Простят?.. Мама поняла одно: сын решился на верную гибель. Тут же отбила из Горького в Балтийск срочную телеграмму. «Получили письмо Валерия. Удивлены, возмущены, умоляем образумиться. Мама. Папа».
Телеграмма пришла 12 ноября, когда всё было кончено…
Отец не сразу понял, во имя чего Валерий поставил свою жизнь на карту. Лишь потом, когда на свидании в Лефортовской тюрьме у них состоится разговор, отставной капитан 1-го ранга Саблин, кажется, поймёт своего среднего. Во всяком случае, осуждать его не станет, как бы ни настаивали советчики-доброхоты.
Из протокола обыска:
«На предложение выдать разыскиваемые предметы и документы Саблин М.П. добровольно выдал:
1. Письмо на 4-х листах белой нелинованной бумаги, начинающееся словами: „Дорогие, любимые…“ и заканчивающееся словами: „Любящий вас Валерий“, и конверт, адресованный Саблиным, с почтовым штемпелем „Рига 8.11.75“. По заявлению Саблина М.П., это письмо написано его сыном Валерием. […]
При обыске ничего не обнаружено и не изъято. Обыск производился в 3-комнатной квартире, коридоре, кухне, ванной и туалете. Обыск произвёл следователь по особо важным делам УКГБ по Горьковской области полковник Кукушкин. Следователь — старший лейтенант Гусев. 12 ноября 1975 года».
Изъятое письмо бесследно исчезло вместе с другими документами по саблинскому делу — бланками семафоров, радиограмм, допросов. По распоряжению Брежнева многие материалы были уничтожены, дабы никто не посмел поставить в истории имя капитана 3-го ранга Саблина рядом с именем лейтенанта Шмидта. По крайней мере, так сообщил мне бывший командующий Балтийским флотом адмирал Михайлин.
По счастливой случайности сохранилось письмо Саблина, посланное жене и сыну. Перед самым обыском Нина бросила его под ванну за банки с краской.
В вещах и бумагах рылись без особого энтузиазма — лишь по долгу службы. Видимо, те, кто обыскивал, испытывали неловкость и перед этой миловидной, убитой горем женщиной, и перед мальчишкой-школьником, с недетской серьёзностью следившим, как хозяйничают в их комнате чужие люди.
А тут ещё кошка вздумала рожать котят, превратив суровую процедуру и вовсе в фарс.
— Золото есть?
— Серьги и кольцо, — Нина показала то, что было на ней. Имущество конфисковывать не стали. Не нашли в доме ничего лишнего: казённая мебель и книги, книги, книги… Унесли с собой саблинский орден, кортик да вырезанные из дневников страницы. А письмо осталось:
«Милая, любимая!
Мне даже трудно представить, как ты встретишь сообщение, что я встал на путь революционной борьбы. Возможно, ты проклянёшь меня как человека, который испортил тебе всю жизнь. Возможно, ты назовёшь меня чёрствым человеком, не думающим о семье. Возможно, глубоко обидишься за то, что я скрывал от тебя свои планы. А возможно, просто печально скажешь: „Чудаком ты был, чудаком и остался!“
Это будет лучшее, что я могу ожидать. Не суди слишком строго и постарайся объяснить Мише, что я не злодей, не авантюрист, не анархист, а просто человек, любящий свою Родину свободной и не видящий иного пути к счастью своего народа, как борьба. Я очень любил и люблю тебя и, конечно же, Мишу. Эта любовь помогала мне быть честным в жизни…
Назовут меня „агентом империализма“ — не верь. Империализм — это далёкое прошлое по сравнению с социализмом… Найду ли я единомышленников в борьбе? Думаю, что они будут. А если нет, то даже в этом одиночестве я буду честен.
Настоящий шаг — это моя внутренняя потребность. Если бы я отказался от борьбы, я бы перестал существовать как человек, перестал бы уважать себя, я бы звал себя скотиной…
Не знаю, как в письме передать свои мысли наиболее убедительно, и очень жалею, что не мог рассказать их раньше. Я не хочу, чтобы после моего выступления к тебе со стороны властей были хоть какие-нибудь претензии как к моей сообщнице. Вот почему я был нем, хотя очень хотел раскрыть тебе свои помыслы. Примерно такое же письмо я написал своим родителям. Я тебя очень прошу — не забывай их и помогай всячески. Как-то они вынесут сообщение о моём выступлении?! Очень беспокоюсь об их здоровье.
Как отнесётся Миша к сообщению?! Постарайся ему объяснить, что я не такой плохой, как меня будут представлять официальные органы и пресса. Возможно, кто-то из знакомых и товарищей отвернётся от нашей семьи как опасной для знакомства. Не переживай — такие и не могут быть достойны твоего внимания.
Я оптимист и не смотрю на выступление трагически, хотя шансов на успех приблизительно сорок процентов. Я уверен, что даже сам факт выступления — уже дань революционному движению. Но я приложу всю энергию, все силы, чтобы довести дело до конца, то есть до создания центра политической активности в нашей стране, на базе которого будет создана новая партия.
Это не прощальное письмо, но всё же я хочу сказать, что я очень хочу, чтобы вы с Мишей были счастливы, и не буду осуждать ни одного из твоих поступков, если ты будешь счастлива.
И ещё — из письма Инессы Арманд своей дочери: „Ни в коем случае не будь из тех людей, которые, критикуя окружающее, постоянно брюзжа на окружающих, не проводят своих идей в жизни и продолжают жить совершенно так же, как все те, которых они ругают. Подобные люди или лицемеры, или слабые и ничтожные люди, которые не в силах согласовать свою жизнь со своими убеждениями“.
Я не хочу быть ни лицемером, ни ничтожным человеком. О радость битвы!!
Больше бодрости, моя родная, больше веры, что жизнь прекрасна, что прогрессивное, революционное всегда победит!
Целую тебя крепко.
До свидания! Твой Валера. 8.11.75 г.».
8 ноября 1975 года. Борт БПК «Сторожевой»
После голосования в мичманской кают-компании стало ясно: офицеры мешать выступлению не будут. И на том спасибо. Половина всех мичманов — за поход в Питер. Теперь самое главное — матросы, основная часть экипажа. Что скажут они? За кем пойдут?
По кораблю разнеслись звонки «Большого сбора». Строились на юте — в шинелях, в бушлатах… Ёжились на холодном ветру.
— Чо будет?
— А хрен его знает.
— И в праздник не отдохнёшь…
— Зам речь держать будет.
— Настобрыдло… Одна хренотень.
— Дурак. Он щас такое сказанёт… Командира арестовал.
— Не знал, что ль? Смотри — с пистолетом.
— Иди ты!
На юте врубили палубное освещение. Саблин вышел перед строем с пистолетом за пазухой.
Матрос Прейнбергс:
«Он был спокойный, выдержанный. Был скрытный. Ничто в его политбеседах не предвещало будущего мятежника. Обычный замполит, который верно разъяснял политику партии.
…Мы построились на юте. Появился Саблин. Мы удивились, что из офицеров, кроме него, никто не вышел. Нет, кто-то один был… То, что он говорил, не укладывалось в сознании. Совершенно невероятные вещи для политработника. Он говорил о том, что так дальше продолжаться не может, что страна движется к пропасти. Что, декларируя постоянно равенство, руководство пользуется недоступными для народа благами. Конкретно КПСС, Октябрьскую революцию он не винил. Считал, что во всём виноваты конкретные люди, из-за которых творится развал в стране. Под конец речи Саблин призвал всех следовать за ним и идти в Ленинград, там требовать выступления по телевидению».
Матрос Максименко:
«Саблин говорил, что нас поддержат в сорока восьми воинских частях, что в СССР много честных офицеров, которые не согласны с курсом и политикой наших руководителей. Народ не имеет никаких прав, страна разоряется, народ полунищий, кругом несправедливость, мы должны призвать к закону верхи, продающие, разбазаривающие национальные богатства России, одурачивающие нас и плюющие на свой народ. Должны выступить по телевидению. Великая Россия должна стать передовым демократическим и правовым государством мира, а не голодной страной, отсталой, руководит которой ЦК вместе с Брежневым. Руководить страной должны люди, выбранные демократическим путём: честные, верные народу патриоты, а не ставленники политических семейных династий.
Саблин спросил: „Все согласны со мной?“ Мы понимали, что дело пахло порохом, но за великие цели… Он прошёл вдоль строя, останавливался против каждого и спрашивал: „А ты?“ В ответ слышалось: „Да“ или „Согласен“».
Матрос Шеин:
«После его выступления на юте началось всеобщее воодушевление. То, о чём мы толковали меж собой в курилках, вдруг прозвучало во всеуслышание. Официально. Перед строем. Это было как праздник Чувство достоинства — оно пробудилось в каждом. Мы людьми себя почувствовали. Впервые!»
Старшина 1-й статьи Соловьёв:
«Саблин заявил, что его выступления ждут на Северном флоте, ТОФе{4} и Камчатке, а также в Москве».
Матрос Аверин:
«На юте Саблин говорил, что у него есть единомышленники и друзья. Он уже написал письма, и нас поддержат на Северном, Тихоокеанском и других флотах».
Скорее всего, Саблин блефовал, называя цифру в сорок восемь частей. Но в то, что, если «Сторожевой» поднимет в Питере политическую бурю, его могут поддержать и в Кронштадте, и на Севере, и на Тихом океане хотя бы одиночные корабли, Саблин верил, ибо хорошо знал умонастроения в офицерской среде: они были не в пользу «бровеносца в потёмках». Поддержать могли. И письма своим единомышленникам Саблин тоже мог отправить.
В те минуты, ловя сотни горящих взглядов, не мальчишеских уже — враз повзрослевших глаз, — он верил в успех. И вера эта заставляла верить ему.
— Боевая тревога! Корабль к бою и походу экстренно приготовить!.. По местам стоять, с якоря и бочки сниматься!
Матрос Шеин:
«Там, на юте, воздержался только один человек. Все остальные полтораста матросов были „за“.
Саблин и ещё несколько ребят спустились в носовую выгородку. Командир всё ещё пытался сорвать замок. Услышав голос Саблина, стал требовать, чтобы его выпустили. Саблин пообещал, что, как только всё закончится, его обязательно выпустят. А пока мы с Авериным установили упор на крышку люка. Саблин забрал у меня пистолет и отправил отдыхать. Честно говоря, меня колотила сильная нервная дрожь.
На корабле тем временем расставлялись матросские посты: у арсенала, у каюты замполита, на верхней палубе. Но я уже в этом участия не принимал. Упал на койку и попытался забыться…»
Итак, первые три часа всё шло так, как было задумано. Но за час до полуночи…
Матрос Шеин:
«У каждого Моцарта есть свой Сальери, у каждого Шмидта — свой Ставраки. У капитана 3-го ранга Саблина их оказалось по меньшей мере трое…»
Капитан 3-го ранга В. Саблин (из показаний на следствии):
«Матрос Сахневич подошёл ко мне и сообщил, что в каюте Саитова собрались офицеры и мичманы и что-то, как он выразился, замышляют против меня. Я видел, что в конце коридора офицерского состава находилась группа матросов БЧ-5. Вместе с Сахневичем я подошёл к каюте Саитова и, стоя на пороге этой каюты (в ней находилось несколько человек), разговаривал с Саитовым… На мой вопрос, где Фирсов, Саитов ответил, что всё необходимо прекратить, так как Фирсов уже на берегу, всё там стало известно и, очевидно, к нам будут предприняты какие-то меры. Я ответил, что раз они меня больше не поддерживают, то я должен их изолировать. В этот момент Степанов через порог каюты схватил меня за руку и потащил в каюту, а мичман Ковальченков толкал в спину. Пытаясь втолкнуть меня в каюту, Степанов и Ковальченков хотели вытащить у меня из внутреннего кармана офицерской тужурки пистолет, оборвав при этом пуговицы на тужурке.
Когда я уже наполовину был в каюте Саитова, подбежали матросы БЧ-5 и вместе с Сахневичем освободили меня из рук Степанова и Ковальченкова. Сахневич мне запомнился в этот момент потому, что он кричал: „На помощь! Спасайте Саблина!“, а также тем, что позже задавал мне вопросы, что мы будем делать с офицерами и мичманами, находящимися в каюте Саитова.
Я был взбешён поведением находящихся в каюте Саитова лиц и сказал, что они предатели, что предали дело и будут изолированы. При этом я держал в руке пистолет — я вытащил его, так как мне оборвали пуговицы, тужурка распахнулась и я боялся, что кто-нибудь вытащит этот пистолет из кармана…»
«Это был один из тех опасных моментов, — утверждает генерал-майор юстиции Борискин, — когда на корабле могла начаться перестрелка, так как члены корабельного экипажа были спровоцированы воинственностью и озлобленностью Саблина. Ведь в стволе пистолета Саблина уже находился патрон… Но это не всё. Пистолеты с патронами имели в то время и другие офицеры, к примеру, Степанов. Добыто было оружие сразу же после прослушивания речи Саблина. Вот что по этому поводу показал на суде уже упоминавшийся старший лейтенант Фирсов. Он поначалу голосовал за план Саблина, почему и не был изолирован. „Я пошёл в кормовую часть корабля, — рассказывал Фирсов, — встретил там лейтенанта Степанова. Мы стали искать командира, но не нашли. На баке мы увидели Саитова. Решили поговорить с Саитовым и разобраться в обстановке на корабле. Первым делом мы решили достать оружие. С Саитовым достали второй экземпляр ключей от арсенала в каюте командира БЧ-2 и вместе, отключив сигнализацию, открыли арсенал, взяли 5 пистолетов. Но патронов там не было. Они находились в 4-м погребе. Саитов вызвал Сметанина — заведующего погребом, и у него взяли патроны“.
Лейтенант Степанов подтвердил эти показания, заявив: „У меня был пистолет, но я его не применил…“»
Почему не применил? Пожалел Саблина? Побоялся? Ведь их по меньшей мере было пятеро против одного Саблина: Саитов, Степанов, Фирсов, Ковальченков плюс арсенальщик Сметанин, и все вооружены. Пять заряженных пистолетов против одного. Не посмели? Испугались матросов?
Скорее всего. Только этим можно объяснить, что старший лейтенант Фирсов, он же секретарь партийной организации «Сторожевого», тайком пробрался на бак (носовую часть корабля) и оттуда соскользнул по швартову на якорную бочку. С соседней, стоявшей в парадном строю подводной лодки его заметили и прислали за ним катер, как сообщает генерал Борискин. Откуда на подводной лодке катер? Скорее всего, надувную шлюпку.
Командир подводной лодки не сразу поверил в рассказ перепуганного старлея. Бунт?! Мятеж?! Новый лейтенант Шмидт?! Это всё не из нашей оперы, такое может быть только на царском флоте Уж здоров ли старший лейтенант со «Сторожевого»?
Подводники поверили рассказу, когда увидели, что ВПК снимается со швартовых… Лишь тогда ушёл доклад на берег.
Я не знаю, где служит сейчас Фирсов. Но знаю одно доподлинно: на том, на старом, царском русском флоте, руки бы ему не подали, в кают-компании бы не приняли, да и не задержался бы долго на флоте офицер, совершивший подобный «подвиг».
Узнав о бегстве Фирсова, Саблин не мог не понять, что теперь, с потерей внезапности, никаких шансов на благополучный приход в Ленинград нет. Оставалось одно — в открытое море, в нейтральные воды, и бросить свой клич в эфир оттуда.
«Саблин сказал, — показывал на суде старший лейтенант Фирсов, — что корабль сильно вооружён, находится на Балтике, которая славится боевыми традициями флота, и с нашими требованиями не должны не посчитаться. Как всякий рвущийся к власти авантюрист, не очень-то надеющийся на поддержку внутри страны, Саблин возлагал большие надежды на заграницу. Для этого он предварительно составил текст соответствующей радиограммы. Чтобы передать её, шёл даже на разглашение военной тайны. Он приказывал радиотелеграфистам передавать своё воззвание открытым текстом, но в этом ему отказывались повиноваться даже те матросы, которые из страха или по недомыслию поначалу поддержали его». «Передав один абзац, — показывал на суде матрос Виноградов, — я пошёл к Саблину. Он приказал передать это обращение открытым текстом. Я ему сказал, что передавать открытым текстом нельзя, так как это является грубым нарушением правил связи, об этом будет известно за рубежом, будут расшифрованы наши коды. Саблин, несмотря на такие убедительные доводы, настаивал на своём. „Передавая радиограмму: "Всем! Всем! Всем!", я имел в виду, — объяснял он своё упрямство, — что будет какая-то поддержка из-за рубежа…“»
Вряд ли он всерьёз верил в такую поддержку. Но если не услышит страна, пусть узнает мир. Весть о его выходе из парадного строя радиоэхом вернётся к народу. И если не поднимутся, так хоть узнают…
Съёмкой с якоря и бочки руководил боцман — мичман Житенёв.
Развернуть махину большого противолодочного корабля в узкости реки на быстрине, да к тому же в тесной близости с другими кораблями, — дело непростое и опасное. Любая ошибка — и «Сторожевой» на мели, носом в борт или в берег.
Саблин развернул корабль носом к морю. В одиночку такой манёвр не совершить. На всех боевых постах десятки матросов чётко выполняли все приказания ГКП — главного командного пункта. Выполняли как никогда быстро и слаженно.
Олег Максименко, матрос-первогодок, спустя много лет описал события той ночи в пространном письме-дневнике, адресованном автору этих строк. Паренёк из интеллигентной семьи (мама — преподаватель немецкого языка) пережил всё с обострённостью юной души. В ночь на 9 ноября он был в наряде на камбузе и ночевал в одном из подсобных помещений…
Матрос Максименко:
«Девятое ноября! Где-то в половине второго ночи нас с трудом разбудили ударами ног в дверь. Валайтис (кок. — Н.Ч.) нехотя открыл, крикнули: „Максименко, на бак!“ Я даже не разобрал, кто меня звал, — свет в коридоре не горел, споткнулся о комингс (порог. — Н.Ч.), в темноте растянулся, через меня — ещё пара человек. Я взлетел по трапу офицерского коридора наверх, замешкался, получил под зад, обежал надстройку, через волнорез перелез сверху и опять растянулся на палубе — крепкие ручищи Некраша не дали мне испортить себе физиономию и поставили меня на ноги.
Слышались крики: „Срочно сниматься! Рубить швартовы! Рулевого Соловьёва на ходовой мостик!“
Боцман рубил канаты, но они были крепкие, он провозился с ними минут пять. Кто-то держал ручной пулемёт, направленный на подводную лодку. Подняли якоря, корабль дал задний, потом передний ход, меня отправили с бака. Удар, корабль как бы дёрнулся. Кто-то влетел на камбуз, света нет, а у меня котлеты просыпались со сковороды, на ощупь нашёл, дал в руки: „Ешь“. В ответ: „Спасибо! Подводникам в корму влепили, вот те, наверное, кайф поймали, трусы всем придётся менять“. Зашёл Валайтис, он всё слышал и прошипел „Нам самим придётся штаны скоро менять“. Потом мне рассказывали, лодка от удара накренилась так, что половина подводников едва не рехнулась.
Смотрю в иллюминатор, несёмся по Даугаве примерно узлов 30, вёл ВПК старшина 1-й статьи Соловьёв — мастер. Ход — 30 узлов, корабль, развив скорость примерно 55 километров в час, поднял в реке высоченную волну. Ох, и понаделала она беды, не хуже цунами, её долго будут помнить на Даугаве. В Рижской базе тоже.
Корабль выходит к устью. Валайтис радуется на камбузе — „Свобода!“ и рассказывает про мятеж в Каунасе (по-моему, в 1972 году). Я ему отвечаю: „Дурак, нас потопят“. Он мне в ответ: „Надевай три жилета и сиди на верхней палубе“. Потом передумал: „Выйдем через запасный трап наверх“.
Перед выходом в залив мы вылезли на торпедную площадку, слева по борту проплывала Рижская военно-морская база, справа — редкие огни Мангалис. Ночь, как назло, была с яркой, луной. По нам прошёлся луч прожектора, запросили с берегового поста, мы чётко ответили. Я стоял и любовался звёздным небом — может быть, в последний раз. Тишина, свист турбин и лёгкое дрожание корпуса боевого корабля, идущего в неизвестность. Что думал Саблин в эти минуты? А может быть, и его единомышленники там, на берегу, не спали, ожидая в радиорубках сигнал о выступлении в танках и бэтээрах, ожидая, ожидая…
Мы спустились вниз, было где-то начало четвёртого. В столовой шли дебаты, были слышны споры, выкрики: „В Ленинград! Выступить по телевидению… Обратиться к народу по радио… Поймут все“. — „Нет, в нейтральные воды!“ — „Потопят“. — „Будем держаться“. — „Отобьёмся“. — „Не надо крови“. — „Не посмеют“. — „Влепить бы первыми!..“ — „Главное, прорваться через Ирбенский пролив“…
Никто не заикнулся, чтобы сдать корабль какой-то стране, а самим покинуть его, нет, этого не было и не могло быть. Саблин сказал одно: „В случае угрозы обратимся на весь мир открытым текстом. Будем решать в зависимости от обстоятельств“.
Крики, шумы постепенно примолкли, стали задумываться: надо или сматываться, или отбиваться, или сдаваться, что меньше всего прельщает. Ещё как там решит Горшков, может, решит уничтожить всех — и концы в воду, но не должен — слишком сильная будет „ударная волна“, может дойти до Москвы.
Шум, гам — решайте, решайте, не медлите. Время, время, время! Шестой час!»
О чём думал Саблин в те недолгие часы своего вольного командирства?
Матрос Шеин:
«Больше всего Саблин и все, кто находились на мостике, опасались, что выход из Даугавы перегородят какой-нибудь баржей или выгонят на берега танки. Саблин стоял на мостике и отдавал рулевому команды. Старшина 2-й статьи Скиданов выполнял обязанности вахтенного офицера, то есть отдавал по корабельной трансляции все необходимые для похода распоряжения. А старшина из штурманских электриков вёл прокладку, брал пеленги. Курс до выхода из Ирбенского пролива остался на старой прокладке.
На мостике стояли сигнальщики (был среди них матрос из Москвы Виноградов), работал локатор, несли вахту метристы и радиотелеграфисты. А главное — машинисты сумели сами запустить турбины и дать ход на любом режиме.
Мы шли вдоль берегов Даугавы, гадая — перегородили нам выход или нет? Устье реки уже хорошо отбивалось на экране, как вдруг посреди него засветилась отметка. Баржа! Но вскоре выяснилось, что это помеха, ложная засветка. Путь в Рижский залив был открыт!
Похоже, начальство ещё не чухнулось после праздничного возлияния».
Однако чухнулось!
Бывший дежурный по Центральному командному пункту ВМФ (ЦКП ВМФ) капитан 1-го ранга В. Сивков:
«В ту праздничную ночь дежурство в Главном штабе ВМФ нёс я. Всё шло спокойно, „без замечаний“, как мы говорим. Около четырёх часов утра позвонили из КГБ и спросили: „Что у вас там на Балтике происходит?“ — „Разберёмся, — говорю, — доложу“.
Позвонил оперативному дежурному по Балтийскому флоту, хотя он первый должен был мне доложить о ЧП.
„Ну что у вас там стряслось?“ — „Да вот, зам, прохвост, корабль в Швецию угоняет“.
Через несколько минут позвонил с подмосковной дачи главком, Горшков Сергей Георгиевич. Доложил.
„Кому ещё докладывали?“ — „Никому“. — „Следить за обстановкой!“ — „Есть!“
Вот и вся динамика. Все остальные вопросы погони, подъёма авиации они решали с Гречко напрямую, без меня. Мне больше никто не звонил и ничего не сообщал.
Самолёты поднимал маршал Гречко. Это была не флотская — армейская авиация. Когда через три дня снова заступил на дежурство и попробовал узнать подробности, на меня зашикали. Интересоваться этим делом было запрещено».
В Калининграде, в штабе дважды Краснознамённого Балтийского флота экстренно решали, как остановить «Сторожевой». Начальник политуправления контр-адмирал Шабликов предложил поднять авиацию и топить корабль бомбами.
Имя Шабликова было выбито на том же белом мраморе, что и фамилия Саблина, — в ряду лучших выпускников Военно-политической академии имени В.И. Ленина…
Капитан 1-го ранга А. Бобраков (в 1975 году — командир корабельной ударной группировки, брошенной в погоню):
«Девятого ноября 1975 года в 4 часа утра я получил приказ догнать и остановить „Сторожевой“, а в случае неповиновения — уничтожить… Я, конечно, знал всё командование корабля, поскольку мы служили в одном соединении.
Тогда, 15 лет назад, у меня не было точной информации, что происходит на корабле, кто ведёт „Сторожевой“, каков его замысел. Но, давая команду на предстартовую подготовку ракет, был убеждён (да и сейчас уверен в правильности своих действий), что сдать „Сторожевой“ с шифрограммами, аппаратурой опознавания и засекречивания связи, с литерами ракет любому другому государству — это преступление. И никакие благие намерения не могут оправдать нарушение замполитом В. Саблиным присяги и законности».
Знакомая позиция: «Ничего не знал, но был убеждён…» Был убеждён, что корабль идёт в Швецию. Об истоках «шведской версии», зародившейся в дальнозорких головах близорукого начальства, чуть позже. Но «шведский синдром», столь удобный в объяснении ЧП (перебежчик, предатель, изменник Родины), охватил в ту ночь многих должностных лиц.
Бывший дежурный по штабу Краснознамённого Прибалтийского военного округа подполковник В. Ильин:
«Я заступил на дежурство 8 ноября 1975 года. Помню, что вскоре появились офицеры. Перебивая друг друга, они сообщили: „Военный корабль снялся с места в кильватерном парадном строю на Даугаве и пошёл к устью в море. В Швецию угоняли, в Швецию!..“
Да ведь ему же долго надо было выбираться по реке на большую воду. К тому же малым ходом. И берега-то во многих местах почти друг на друга смотрят, ширина по воде — минимум. Так если бы хотя бы танки выгнали на берег — да прямой! Хватило. Ну а он бы не посмел. Танками надо было, танками!»
Тем не менее начальство решило — самолётами!
В 1941 году «юнкерсы» рейхсмаршала Геринга потопили в Ирбенском проливе советский эсминец «Сторожевой».
В ноябре 1975 года с тех же самых, когда-то немецких, аэродромов взлетели бомбардировщики главного маршала авиации Кутахова. Они тоже держали курс на Ирбены, и задание у них было тем же — бомбить советский корабль «Сторожевой».
Спирали истории, как и трассы самолётов, порой закручиваются в «мёртвые петли».
Командир отдельного дивизиона связи радиотехнического обеспечения полка фронтовой авиации подполковник В. Прожогин:
«Мы стояли под Тукумсом. Полк дружный, с традициями, опытом. Воевали в Северной Корее. Так что новенькие тогда Су-24 одним из первых в армии доверили нам. Восьмого ноября 1975 года ранним утром объявили боевую готовность. Подняли первое звено, второе, третье…»
Капитан-лейтенант В. Тыцких, замполит спасательного судна в Лиепае:
«В четыре утра подняли по тревоге всю базу. Мы получили приказ по радио: „Быть готовыми к работе с кораблём и экипажем на грунте“. Долго ломали головы: подводная лодка что ли затонула?»
М. Родионова, корреспондент флотской газеты «Страж Балтики»:
«В тот день наша газета вышла с фотографией „Сторожевого“ — „Лучший корабль Балтики“. Представляете, как взъярилось начальство! Никто не хотел верить, что это случайность, что фотография была сделана задолго до события и поставлена в номер только потому, что „Сторожевой“ ушёл в Ригу на праздник… Но это к слову… Но вот что любопытно… Самолёты были подняты и с бывшего немецкого аэродрома под Мамоново. Полк был либо девятаевский… Помните, пленный лётчик Михаил Девятаев бежал из лагеря на острове Рюген на немецком самолёте? Либо покрышкинский. За Девятаевым гнались „мессершмитты“, они поднимались как раз с того аэродрома, откуда взлетали теперь наши истребители в погоню за Саблиным…»
Рассказ одного из лётчиков, принимавших участие в операции 9 ноября 1975 года, майора Юрия Дробышева:
«Первоначально планировалось работать звеньями, но погода не позволяла выполнять групповые полёты. Поэтому стартовали одиночными экипажами.
Приказ был краток и однозначен: обнаружить БПК, опознать его по присвоенному номеру и произвести бомбометание впереди корабля по курсу на расстоянии 1000–600 метров, побудив тем самым экипаж судна прекратить движение.
Первым поднялся в небо экипаж заместителя командира полка, подполковника В. Потапенко, который одновременно выполнял роль и разведчика погоды. За ним — экипажи командиров эскадрилий и начальника воздушной огневой и тактической подготовки части майора А. Поротикова.
Выполнить задачу было непросто. Ведь предстояло найти в водах Балтики именно этот корабль (а в море находилось множество судов), опознать его, филигранно произвести бомбометание, чтобы не нанести ущерба ни БПК, ни, тем более, членам экипажа. Словом, это было под силу только высокоподготовленным воздушным бойцам. И мы остановили БПК…»
9 ноября 1975 года. Борт БПК «Сторожевого». Матрос Шеин:
«Подъёма как такового не было. В восемь часов был завтрак. Уже рассвело. Первой новостью, облетевшей корабль, было появление пограничных катеров. Они шли по левому борту и беспрестанно подавали сигналы остановиться. Саблин прокричал им в мегафон, что мы идём в море, чтобы заявить свой протест Политбюро, что мы не собираемся делать ничего дурного… Катера не отставали, а сзади нас нагонял сторожевик, которому, как мы позже узнали, было приказано открыть по „Сторожевому“ орудийный огонь, как только он выйдет на дистанцию залпа.
Саблин попросил комендоров повращать орудийными башнями — для острастки. Однако этого делать не стали. Ракетного оружия на борту не было, а боекомплект в башни не подавали. Об этом даже и мысли не было — стрелять по своим.
Радисты передали в эфир саблинское обращение: „Всем! Всем! Всем!“
Мы понимали: чтобы сохранить свою независимость, у нас только два выхода: либо стать к борту какого-нибудь судна, либо укрыться в терводах нейтрального государства.
Я смотрел на Саблина. Он, побледневший, молчал. „Сторожевой“ шёл вперёд».
В. Саблин (из показаний на суде):
«С пограничных кораблей я получал приказы остановиться и следовать в город Ригу, но этого не сделал. Это было диким упрямством с моей стороны, которое я объяснить не могу…»
Вряд ли он хотел объяснять суду, что под этим «упрямством» жила надежда, последняя, отчаянная надежда, что стрелять по кораблю не станут, что произойдёт чудо и погоня отстанет, скроется в дымке… На самый, худой случай в кармане тужурки лежал текст обращения за помощью к Генеральному секретарю ООН Курту Вальдхайму…
Матрос Шеин:
«К утру мы входили в Ирбенский пролив. Дальше начиналась открытая Балтика… И вот здесь-то появились самолёты — истребители-бомбардировщики. Они стали нас облетать, заходя на боевой курс. Чуть раньше радисты приняли предупреждение о том, что, если мы не остановимся, „Сторожевой“ будет потоплен. Весть эта сразу же распространилась по кораблю, и прежнее воодушевление погасло окончательно».
Матрос Максименко:
«В восьмом часу проснулся — завтрак готов, можно кормить экипаж. Пришёл Антон. Открываю, в столовой никого нет. Валайтис с кислой физиономией посмотрел на меня: „Идём под конвоем“.
Я стрелой вылетел на верхнюю палубу — на дистанции около мили по обоим бортам ходовые огни кораблей, видны вспышки сигнальных прожекторов. С левого борта — открытое море, справа — земля — значит, вдоль острова Сааремаа. Почти никто не завтракал, все разбежались по постам. Поел, не ощущая вкуса.
Спросил Валайтиса: „Обед будет?“ — „Пожарь отбивные“, — ответил он, глядя в иллюминатор. Вдалеке обозначался расплывчатый силуэт пограничного корабля. Я вставил броняшку в иллюминатор и задраил барашки; завалился в подсобку — нервы сдали, уснул.
Антон стучит в дверь. Открываю, спрашиваю: „Молчат?“ Кивнул в сторону юта. Иду через столовую — темнота, вышел на корму: красота, море отсвечивает золотом, багрово-красные волны, балтийское солнце тоже багровое — слепит. Вдалеке корабли.
Рассказывают, Саблин выступил в эфире напрямую, теперь во всех странах знают. Различаю вдалеке силуэт нашего эсминца. Сказали, вся эскадра в море рыщет. Рёв самолётов, задраились. Нормально. Возле нас на разных высотах ревут штук, наверное, двадцать самолётов. Что-то ударило. Болванку наш ракетоносец кинул — с ультиматумом командующего.
Периодически выскакиваем на ют посмотреть.
…Четвёртый час. По левому борту корабли: СКР, эсминец, тральщик, вдалеке — ВПК, десяток силуэтов — дистанция миль пять, но сближаемся. Нервы на пределе.
Пятый час. Справа и слева в кабельтове по два „охотника“, на борту чётко вижу абордажные команды. Восемь стволов направлены на нас с каждого борта и по четыре торпедных аппарата. Идут, а нервы у них ни к чёрту, как и у нас; все на палубах, боятся. Идём под эскортом час. У Антона из носа от напряжения потекла кровь. Я грызу зубами ногти: ну что, кто первый?
Вышел на ют, на погранцах десант готов — отчётливо вижу в руках у одного пулемёт Калашникова: ясно, им надо выбрать момент. Только бы наши не пальнули. Я схватил нож, Валайтис вырвал его из рук. Прижал меня к стене переборки и шипит „Олег, успокойся, будь готов ко всему“.
Шестой час. Экипаж забегал туда-сюда, не слышно ни наших самолётов, ни натовских. Я как пьяный. Природа над нами издевается — такая красота вокруг! Эх, что будет, то будет! Слышен топот и разговор, узнаю: полк ракетоносцев отказался по нас стрелять — узнали из радиоперехвата.
…Рёв самолётов. С Валайтисом прячемся в подсобку, я с трудом натягиваю на ходу три жилета, открываю запасный люк, чтобы не заклинило, кладу под него ветошь.
Тишина… Удар в левый борт! Падаем на стеллажи из-под посуды. Бьют авиационные пушки — пытаются добраться до валопровода, до турбин. Удары: по палубе, баку, в борт, в душу…
Минуты три очухиваемся, и я не могу понять, где верх, а где низ. Антон невменяем, его трясёт. Я успокаиваю: „А ты как думал, ввязаться в драку и не получить по носу?“ Открываем дверь из подсобки — опять рёв самолёта. Закрываем — удар! Я ничего не слышу, наверное, бомбочка килограммов на 250 за кормой. Катаемся по переборкам.
Два удара по курсу (ещё две бомбы такие же). На камбузе упало всё, что могло упасть, а что висело — на месте. Валайтис меня поднимает — теперь я не могу стоять на ногах, меня тошнит. Корабль как будто прыгнул и замер, как конь, вставший на дыбы. Стрельба, тишина. Боцман-мичман влетает на камбуз, кричит: „Где они“? Я отвечаю: „Никого нет“. Он мне тычет в нос пистолетом: „Убью!“ Удары с бортов — пришвартовались пограничники, кругом десантники. Слава богу! Вроде, живы — я бью Валайтиса по рукам, а он меня целует, как девку, в щёку: „Жив! Жив!“…»
Командир отдельного дивизиона связи радиотехнического обеспечения полка фронтовой авиации подполковник В. Прожогин:
— Я находился с командиром полка. Всё время до окончательного возвращения «сухих». Слушал все переговоры. А потом мы несколько раз прокручивали плёнку. По сантиметру. Заходили на него по трое. С кормы. Высота — четыреста метров, скорость самолётов — семьсот пятьдесят – восемьсот максимум. Так что, если бы он… Так бы в воду все трое и вошли. И не один раз. Вообще в открытом бою такой корабль способен «выключить» от шести до девяти атакующих самолётов. Без надрыва. Прежде чем они его… Но он молчал… Лётчики же клали по курсу.
— Предупредительные болванки?
— Нет. Фугасные бомбы по двести пятьдесят килограммов каждая. Но по курсу — это сперва.
— А что на командном пункте?
— Командир — командующему, тот держал связь с главкомом авиации маршалом Кутаховым, тот — Гречко, тот — Самому. Такой сверхспешки не помню за всю службу. Суета, лихорадка. На последний заход пошёл лучший лётчик полка — капитан Поротиков. Ведомые — Потапенко и Буланцев. Поротиков повредил ему винт и руль. «Сторожевой» закрутился на месте, потеряв ход, начал описывать циркуляцию. Поротиков на аэродроме выбрался из самолёта весь серый. Вскоре его орденом наградили. За ювелирное бомбометание. Но он его ни разу не надел.
Матрос Шеин:
«Я поднимался на мостик, чтобы сказать Саблину, что всё кончено и он сам должен сделать первый шаг назад, то есть застопорить ход. Но я опоздал… В это время вбежал какой-то матрос и крикнул, что арестованные во главе с командиром корабля освобождены и устремились к арсеналу. Саблин скомандовал по корабельной трансляции: „Все к арсеналу!“ Я тоже побежал туда, но было уже поздно. Командир корабля Потульный отдавал приказания матросам, офицерам, и эти приказания исполнялись».
Старшина 2-й статьи Копылов (из показаний на следствии):
«Около 10 часов в кубрик № 5 позвонил старшина 2-й статьи Станкявичус и предложил мне, Лыкову и Набиеву собраться в кубрике № 10. Мы собрались и обсудили положение на корабле. Решили освобождать офицеров и командира. Матросы Феропонтов, Лыков, Борисов приготовили ломики, и мы пошли к посту № 6. По пути к нам присоединилось ещё много матросов. Охраны у поста № 6 не было. Мы открыли люк, взломали дверь и освободили офицеров. Я видел, как выходили Кузьмин, Прошутинский и Виноградов. С указанными офицерами мы пошли освобождать Потульного. Пост ДО-3 охранял матрос Аверин. Сопротивления он не оказывал Матросы Борисов, Лыков взломали дверь и выпустили командира».
Капитан 1-го ранга А. Потульный:
«Первым делом надо было обезоружить Саблина. Я решил идти на мостик сам. Моя вина, мне и исправлять. Подставлять кого-либо под пули не имел морального права. Приказал одной вооружённой группе прикрыть меня с кормы корабля, другой — с носа.
Убивать я его не хотел, хотя в груди всё кипело от негодования. Метил в печень. Потом передумал выстрелю в ногу — упадёт.
Вхожу. Саблин бледный у машинного телеграфа… Выстрелил. Он упал, скорчился. Вытащил у него пистолет. Усадил в угол. Поставил матроса на руль. Потом отправил Саблина в его каюту под арест».
В. Саблин (из показаний на следствии):
«10 часов 30 минут. Девятого ноября 1975 года я услышал взрывы бомб и удары осколков в борт нашего корабля.
Обернувшись, я увидел Потульного, поднимающегося по трапу. Он выстрелил в меня, я упал. Я был легко ранен, Потульный вступил в командование кораблём».
К первой фразе саблинского показания генерал-майор юстиции А. Борискин сделал примечание: «Когда „Сторожевой“ не удалось остановить группе пограничных катеров, в воздух были подняты самолёты. Они сбросили по курсу движения корабля несколько бомб с таким расчётом, чтобы, заставив его остановиться, не причинить ему вреда».
Мичман Бородай:
«Нас обстреляли и из пулемётов. Хотя, по развороченным пробоинам, это что-то большего калибра. Были пробиты трубы, гальюны левого борта, левый борт. Мы накренились на правый борт. Счастье, что экипажа на палубе не было…»
Из обвинительного заключения:
«В 10 часов Саблин получил радиограмму Главнокомандующего ВМФ СССР с последним предупреждением… Однако и этот призыв Саблин не исполнил и продолжал вести корабль прежним курсом и с той же скоростью в сторону шведских территориальных вод…
В 10 часов 32 минуты 9 ноября 1975 года преступные действия Саблина и его пособника Шеина силами Военно-Морского Флота СССР и экипажа „Сторожевого“ были пресечены, корабль остановлен в Балтийском море в точке с координатами: широта — 57°5'86", долгота — 21°02'9", в 21 миле от советской Государственной границы и на расстоянии 50 миль от территориальных вод Швеции».
Матрос Шеин:
«Меня схватили и заперли там, где сидели офицеры. Пистолета при мне не было. Сразу же после стычки с Поспеловым, Валерий Михайлович забрал его у меня.
После всего пережитого я упал на что-то мягкое и от нервного перенапряжения сразу же уснул. Слышал только, как корабль содрогнулся от попавших в него снарядов. Это по нам полоснули из авиационных пушек самолёты. По счастью, никого не задело. Очнулся я уже в Риге. По кораблю уже сновали люди в штатском. Меня отвели сначала в ходовую рубку. Там увидел бледного, перевязанного Саблина. Я спросил его: „Кто вас так?“ — „Анатолий Васильевич“, — ответил он».
Мичман Бородай:
«Катера высадили к нам морских пехотинцев с автоматами Калашникова наизготовку. Никакого абордажа не было. Завели в ходовую рубку — „Руки на переборку!“ Часа три так и простояли. Затем срочно перебросили нас в Ригу. Меня на ракетном катере.
Следователи в КГБ были в штатском, недовольные тем, что их „выдернули“ из-за обильных праздничных столов. Мой первый следователь на первом допросе объявил: „Жаль, что вас не потопили!“
Ответы их не интересовали… Нам всем сразу стало ясно, что всё подгоняется под простую схему: „Сто сорок два дурачка-губошлёпа подбил на измену враг народа прямо из пелёнок, Валерий Саблин“. Они хотели выбить из нас любой материал. Но только против Саблина и только обливающий его грязью, только очерняющий. Любой ценой. И выбивали… А то и просто писали за нас показания сами…»
Матрос Максименко:
«Везде работали следователи КГБ. Готовили обед. Появляется сменный экипаж. Сказали, после Лиепаи „Сторожевой“ отправят на Тихоокеанский флот.
…Команда строится, вечереет, мы со шмотками, нас „шмонают“. По висячим сходням переходим на десантный корабль, я оглядываюсь: „Сторожевой“ чуть накренился на левый борт… Прощай, „поющий фрегат“, ты спел свою лебединую песню. Мы сходим, на нас со всех сторон смотрят десантники из спецназа, залезаем в новые „Икарусы“, и через два часа — Рига. Ведут в Ворошиловские казармы, где размещался автобат, рядом с училищем гражданской авиации. Саблина и его помощников, человек двадцать, говорят, сразу же отправили самолётом в Москву, ещё с корабля.
Нервишки на пределе, КГБ выясняет лишь мелочи, даже сочувствуют — всё уже вынюхали на корабле, всех прогнали через особый отдел. Затем главком Горшков приезжает с генералом армии Епишевым, ну и ещё кое-кто. Нам читают длинную четырёхчасовую мораль, после чего даём подписку, лично каждый — для Брежнева».
Бывший офицер особого отдела Балтийского флота капитан 3-го ранга В. Дудин:
«„Сторожевой“ притащили в Ригу. Корма была значительно разворочена, крен. Экипаж рассредоточили следующим образом. Матросов — в Ворошиловские казармы. Офицеров тотчас с берега доставили на угол улиц Ленина и Энгельса, в республиканский КГБ. Допрашивали всю ночь.
Рано утром 10 ноября всех офицеров и мичманов „Сторожевого“ привезли на аэродром. Два Ан-24 вылетели на Москву. Нам, офицерам особого отдела, вменили в обязанность сопровождать арестованных. И только. Категорически запрещено было обменяться хотя бы полусловом. Рассадили так: офицер со „Сторожевого“, а рядом — сопровождающий. Все арестованные в наручниках.
Саблина посадили впереди, между двумя. Он единственный, на ком не было наручников. Тяжело опирался на костыль. Лицо измученное. Невыспавшийся. Побриться не дали.
Машины московского КГБ встретили самолёты буквально дверь в дверь. Их сразу же увезли. А нас так же молча через несколько минут отправили обратно в Ригу».
Главком ВМФ Адмирал Флота Советского Союза С.Г. Горшков проверял корабль, расспрашивал моряков… Потом недоумевал: «Не понимаю, как у такого командира могло случиться такое ЧП?!» Но всё дело в том, что такое ЧП случилось не у Потульного, а у него самого, и у Маршала Советского Союза Л.И. Брежнева…
Потульный с честью вышел из труднейшего положения, в которое мог попасть любой из его коллег. Он сам обезоружил замполита, сам повернул корабль на обратный курс. И тем не менее оказался в зубчатых колёсах той «пилорамы человеческих душ», против которой выступил Саблин. Пришло указание исключить Потульного из партии. На общем собрании никто из коммунистов так и не смог сказать ничего дурного о командире «Сторожевого» — грамотный моряк, честный партиец, исполнительный офицер, добрый семьянин. Не за что было и зацепиться. Секретарь парткомиссии увёл Потульного в свой кабинет: «Сдай партбилет, Васильич. Иначе наверху нас не поймут». На всей дальнейшей службе Потульного был поставлен размашистый крест.
А ресторан ревел динамиками эстрады. Мы выпили на посошок.
— Саблина на корабле уважали и офицеры, и матросы, — вздохнул Потульный, — ровный, тактичный, эрудированный. Работать с людьми умел и любил. По службе его никто не затирал. Напротив, ему открывалась престижная вакансия быть замом командира по политчасти на тяжёлом авианесущем крейсере «Киев»… Он пожертвовал всем… Как человека я его понимаю… Как офицера? Он же ничего не добился… Не так надо было делать…
На том мы и расстались с Анатолием Васильевичем Потульным. Он навсегда исчез в серой пасмури питерской осени. Командир корабля, выброшенный взрывом мятежа на сушу…
4 марта 1990 года. Лефортово.
Я долго искал этот дом номер 3а по Энергетической улице, пока не отыскал хитро спрятавшиеся за корпусами новостроек стены старинной, ещё екатерининских времён, тюрьмы, а ныне следственного изолятора КГБ. Именно сюда привезли Саблина в ноябре 1975-го, здесь его лечили, допрашивали, отсюда увозили на суд… Прохожу сквозь тесный пропускной пункт, два прапорщика в синеоколышных фуражках долго изучают мой паспорт, меня самого. Заявка на пропуск давно уже лежит у них на столике. Наконец пропускают. С замиранием сердца поднимаюсь на второй этаж. Высокие потолки, просторные коридоры, зелёные дорожки. Всё чинно, благопристойно. Окажись здесь нечаянно, минуя КПП, — и можно подумать, что попал в коридор заурядного московского НИИ или отраслевого главка. Но взгляд вдруг натыкается на стенд с погрудной мишенью, изрешечённой пистолетными пулями. Стенд спортобщества «Динамо». А победная мишень — гордость местных стрелков.
Нет, ты не в главке и не в НИИ, ты в следственном изоляторе Комитета госбезопасности. Ускоряю шаги, ищу дверь с номером 216, кабинет заместителя начальника следственного отдела КГБ полковника юстиции О.А. Добровольского.
Пятнадцать лет назад капитан юстиции Олег Добровольский допрашивал здесь своего ровесника — капитана 3-го ранга Саблина. Впрочем, тогда уже не капитана 3-го ранга, а подследственного Саблина.
— Я был младше его на год, — вспоминает Олег Андреевич, моложавый, круглолицый, чернобровый полковник в штатском. — Не знаю, почему бросили меня на это дело. У меня ведь был совсем другой профиль. Но считалось уж так, что я умею находить общий язык с самыми трудными подследственными. И я стал допрашивать Саблина…
За спинкой кресла моего собеседника холодно поблёскивал на стене отлитый из бронзы Государственный герб СССР. Никогда привычный кругляш не казался мне таким зловещим… Ещё висел обязательный портрет Дзержинского, но не канонически строгий, а с тонкой усмешкой на губах. Улыбающийся Феликс. Отсюда, со стены, улыбался он и подследственному Саблину — коварно, всесильно, беспощадно…
Я и представить себе не мог, что всего через год после визита в этот кабинет, однажды в августовский вечер выйду из метро на площадь Дзержинского и увижу пустой постамент Великого инквизитора, исписанный, как обломок колонны взятого Рейхстага.
— Честно говоря, за эти пятнадцать лет меня никто не спрашивал о Саблине, и многое подзабылось, — потирал виски Добровольский. — Потом был Афганистан, дело Руста…
— Вы вели дело Руста? В своём очерке я писал, что у Саблина была возможность прийти в Ленинград, каким бы невероятным ни казался его план. Ведь шансы Руста долететь до Москвы и посадить самолёт на Красной площади теоретически были равны нулю.
— Да, это вообще фантастика. Я сам ходил на Большой Каменный мост и осматривал место происшествия. Он не мог там сесть — там же всюду троллейбусные провода, сплошная сетка. Физически невозможно. Потом докопался. На другой день после этого ЧП Управление пассажирского транспорта Москвы распорядилось затянуть пространство над мостом дополнительными проводами. Чтоб, не дай бог, ещё кто-нибудь не сел. Не смешно ли?!
А Чебриков, тогдашний председатель Комитета, названивал мне по «вертушке» и нажимал на шпионский аспект дела Руста.
Добровольский невольно покосился на аппарат с золотистым гербом, и я посмотрел туда же: не по этой ли «вертушке» звонил председатель в 1976-м и нажимал на шпионский ли, изменнический или «шведский» аспекты?.. Я спрашиваю Добровольского о том, что он думает по поводу «шведской версии».
— Да, давление было… Саблину пытались навязать самую позорную для офицера версию — побег в другую страну, в Швецию… Мой подследственный объяснил, что уходил от навигационных опасностей курсом двести девяносто градусов, на норд-вест… Однако в обвинительном заключении никакой Швеции нет. В вину ему вменялось совсем другое: попытка изменения государственного строя.
— То есть попытка угона корабля в Швецию не доказана?
— Совершенно верно. Но… Вы читали моё интервью в «Красной Звезде»?
Разумеется, я читал…
О. Добровольский:
— Дальнейшие намерения Саблина трудно прогнозировать. Да, он заявлял морякам, что «Сторожевой» пойдёт на Кронштадтский рейд… Однако обратимся к материалам обвинительного заключения: «…Корабль остановлен в Балтийском море… в 21 миле от советской Государственной границы и на расстоянии 50 миль от территориальных вод Швеции». Как бы дальше развивались события и куда бы пришёл корабль, какой замысел был у Саблина — всё это можно было только предполагать…
Осторожное заявление, но всё-таки с намёком на уход «Сторожевого» в Швецию.
Генерал-майор юстиции А. Борискин был более определёнен в «шведской версии», приоткрыв на страницах февральского (1991 года) номера «Военно-исторического журнала» и тактику следствия, и ответы Саблина на тогдашние вопросы Добровольского.
Выдержки из протокола допроса от 23 февраля 1976 года даны со сносками, примечаниями и комментариями А. Борискина:
«Следователь: Как видно из предъявленного вам заключения экспертов, пограничные катера не влияли на курс „Сторожевого“, который после прохода Ирбенского маяка мог лечь на любой курс. Этот вывод экспертов опровергает ваше утверждение, что назначить курс двести девяносто градусов, ведущий к шведскому острову Готска-Сандён, вас вынудили действия пограничных катеров, маневрировавших на острых курсовых углах…
Саблин: Я не утверждаю, что пограничные катера специально произвели манёвры… Курс же двести девяносто градусов я назначил совершенно произвольно, без учёта его конечной направленности, тем более что на карте, находящейся в тот момент на столе автопрокладчика, не имелось изображений шведского берега и шведских островов.
Следователь: Из заключения штурманской экспертизы видно, что к 10 часам 09 минутам после отхода пограничных катеров от БПК на 50 кабельтовых „Сторожевой“ следовал примерно 23 минуты без сопровождения, но назначенный курс не менял. Почему же за этот период вы не изменили курс, ведущий в сторону Швеции, и удалились от берегов СССР?
Саблин: Я ещё раз заявляю, что курс в тот момент не имел для меня никакого значения: я старался уйти как можно дальше в открытое море от советских берегов».
«Представьте себе картину с точки зрения шведской пограничной службы, в зону ответственности которой устремился большой противолодочный корабль соседней страны, сопровождаемый пограничными, тоже чужими, кораблями, а также боевыми самолётами… Трудно сказать, чем бы это могло закончиться. Не исключено, что и серьёзным военным конфликтом. По крайней мере, это могло произойти…»
Виня во всём Саблина, Борискин забывает сказать, что в подобных ситуациях законный долг одного правительства предупредить другое о происходящем инциденте. Но этого сделано не было, как не было потом предупреждений на межправительственном уровне о взрыве на Чернобыльской АЭС и радиоактивном облаке, плывущем в сторону Швеции, о заблудшей в шведских фиордах советской подводной лодке, о гибели атомарины у острова Медвежьего. Так что счёт ответственности за возможный международный конфликт генерал Борискин должен предъявить и брежневской партийно-государственной верхушке. Но это другая грань проблемы. Многозначительный подсчёт миль от берегов Швеции в обвинительном заключении был рассчитан на людей, не сведущих в географии района, или на тех, кому недосуг было заглянуть в карту Балтики. И тем не менее любой школьник, открыв географический атлас, поймёт, что если Саблин действительно стремился уйти в Швецию, то курс ему надо было держать не на остров Готска-Сандён, а на остров Форё у Готланда, он ближе, и курс двести семьдесят градусов быстрее бы привёл «Сторожевой» в иностранные терводы. Так что Саблин не кривил душой, заявляя, что курс в тот момент не имел для него никакого значения. Да и, поверни он на фарватер, ведущий в Финский залив, борискины всё равно бы обвинили его в том, что нос корабля смотрел в сторону Финляндии. Там, куда ни поверни из Ирбен — на запад ли, на север, на юг, — либо Дания, либо Швеция, либо Финляндия.
Почему «шведская версия» так быстро пошла гулять по начальственным умам? Не потому, что были, как говорится, печальные прецеденты? Ушёл на корабельном катере из советской военно-морской базы в Польше (Свиноуйсце) морской офицер Артамонов, прихватив по пути возлюбленную даму.
Ещё раньше, в мае 1962 года, к берегам острова Готланда (заметим, не Готска-Сандён, а кратчайшим путём к Готланду) лейтенант Плешкис пригнал вспомогательный корабль советского Балтфлота. Встал на якорь и попросил политического убежища. Шведские власти его приняли, а корабль увёл в родную базу помощник советского военного атташе в Стокгольме капитан 3-го ранга Коновалов.
Так что шведские берега были воистину притчей во языцех…
Добровольский тщательно сложил газету, с которой, собственно, и начался наш разговор, и отодвинул в сторону:
— Я должен сказать вам, что мои слова приведены здесь неточно. Корреспондент Быстров брал у меня интервью ночью, так как материал планировался наутро. Я заметил искажение моих мыслей, попросил поправить. Быстров обещал, но материал отложили, и он забыл. Забыл упомянуть о моём сообщении, что на «шведской версии» настаивали Председатель Верховного суда СССР и Главная военная прокуратура. Саблин же мне так говорил «Я бы мог уйти на Готланд за час… Шёл же на норд-вест, потому что справа по курсу были мели». И ещё: «Бардак на флоте проявился даже в том, как нас задерживали. Достаточно было бы закрыть боковые ворота в устье Даугавы». Самолёты и в самом деле сразу «Сторожевой» в море не нашли. Обстреляли поначалу какое-то судно.
…Вообще следствие по делу Саблина было несложным. Я гарантировал ему объективность, и все листы протоколов он подписал. Практически он ничего не скрывал… Никаких очных ставок не проводил — не было противоречивых показаний. Его приносили из изолятора на носилках. Сначала ходил на костылях. Потом, по рекомендации врачей, его стали приносить на носилках. Вот там, в коридоре, — железная дверь лифта. Кабинет рядом, нести недалеко…
Да… Располагался в кресле полулёжа-полусидя, чтобы не тревожить раненую ногу. Пили чай и говорили не только о том, кто за кем гонялся на корабле. Он был интересный собеседник. Я порой заслушивался. Начальник даже подтрунивал: «Смотри, он и тебя разагитирует». Ну, мне-то что, а вот генералу армии Епишеву, начальнику тогдашнего Главпура, спорить с ним трудновато было. Тот прилетел ещё в Ригу по горячим следам. В окружении политических генералов… Посмотреть на балтийского Шмидта.
«Ну что тебе, сынок, не хватало?! Чем тебя советская власть обидела?» Саблин отвечал. И — как козырями — ленинскими цитатами крыл Епишев ему так, а он: «А вот Ленин иначе думал!» И номер тома, страницу…
Епишев в шоке. Другие подходили, диспут продолжался в том же духе… Запас сведений и фактов по всяким ЧП и безобразиям у него огромный был. Умел расспрашивать матросов, возвращавшихся из отпусков.
По правилам ведения протокола требовалось крамольные мысли записывать в сослагательном наклонении: «Подследственный такой-то заявил, что в СССР якобы нет демократии». Боялись даже такой, «протокольной», пропаганды. А он — открытым текстом, в полный голос…
Хорошо держался. Иногда производил впечатление фанатика. Слишком твёрд. Кстати, психиатрическую экспертизу не проводили… Меня же настораживало то, что он верил в своё изначальное предназначение. Подчёркивал, что он в этой роли не случаен, что в прошлом веке был такой народоволец, участник покушения на Александра II, Николай Саблин. Застрелился в тридцать два года при аресте. И у Ленина одним из псевдонимов была фамилия Саблин.
Что ещё?.. Пограничные катера пёред бомбёжкой ушли. Пробоины в борту были…
Дело Саблина заканчивал не я, а мой коллега. Меня срочно направили в Тбилиси по поводу взрывов там…
Уголовное дело сначала возбудили против четырнадцати человек. Но не хотели создавать перед очередным съездом КПСС видимость большой подпольной организации. Плохой сюрприз съезду. Поэтому судили только двоих: Саблина и Шеина.
Нет, я на суде не был. И «вышку» Саблину никак не ожидал. Даже расстроился, знаете ли… Есть в гибели Саблина своя загадка. Из самого последнего его письма видно, что и он никак не ожидал смертного приговора. Кем-то очень обнадёженный, он просил родителей прислать тёплые вещи и дорожные продукты. Это было в конце июля, а 3 августа — пуля в затылок.
Да, во все времена и на всех флотах захват военного корабля считался тягчайшим преступлением. Но в саблинском случае юристам было о чём поспорить: где провести границу между воинским преступлением и гражданским подвигом? Всё-таки мирное время, не война… Не было и тяжких последствий. Если пролилась кровь, то только самого Саблина…
Я не юрист, не искушён в законотолковании, но не покидает меня сомнение: а не сработала ли и здесь Фемида с телефонной трубкой в руках вместо весов правосудия? Уж очень был напуган Сам саблинским выступлением. В официальных — секретных — документах прибегли к привычному эвфемизму. Мятеж на «Сторожевом» назвали «случаем неповиновения». Всего лишь на всего — случай… Так генсеку спокойнее…
В год гибели Саблина на экраны страны вышел фильм о Брежневе «Повесть о коммунисте». То было самое заурядное Зазеркалье. По одну сторону зеркала расстреливали коммуниста настоящего, по другую — примерял погоны со сталинского плеча коммунист, мягко говоря, липовый.
Смотреть этот кинопанегирик нас, офицеров подплава, заставили в организованном порядке. Ретивые устроители просмотра попытались воодушевить зал, чтоб спеть под занавес «Интернационал». Но зал безмолвствовал.
История Саблина вызвала разные толки. Да, как офицер он не имел права покушаться на власть командира, самовольно вступать в управление кораблём… Но в том-то и дело, что Саблин был не просто офицером, он был политическим работником, комиссаром, представителем партии на корабле. И хотя он действовал в одиночку, на свой страх и риск, фактически он представлял те здоровые силы партии, которые спустя десять лет поведут страну к обновлению, к очищению, к демократии.
Юристы, причастные к делу Саблина, и сегодня комментируют его «преступление» с тех же позиций, с каких смотрела на этого офицера брежневская верхушка в 1976 году. При этом они лукавят, во-первых, в том, что объект преступления (брежневский режим) подменён в их толкованиях средством преступления (захват корабля); «забывают» при этом, во-вторых, что корабль Саблину был нужен вовсе не для предательского побега в Швецию, а для заявления протеста против самоубийственной для народа, страны партийно-государственной политики недогенералиссимуса.
Максимум саблинских требований — дать ему возможность выступить по Центральному телевидению.
Вот тут-то и заключена разгадка «феномена Саблина», объяснённого почти за сто лет до выступления «Сторожевого» отставным штабс-капитаном артиллерии народовольцем Константином Степуриным. Двадцать пятого июля 1884 года он заявил на следствии:
«Коль скоро общество стеснено в выражении своих наболевших потребностей легальным путём, оно неизбежно заявит о них незаконными средствами (конечно, если сколь-нибудь жизненно), борясь за самосохранение… То государство, в котором критика и гласность не пользуются правами гражданства, неизбежно обречено на смерть и разложение».
Присягу Саблин нарушил лишь формально. Объективно же его действия направлены не на измену Родине, а на освобождение Родины от тех пут — экономических и политических, — которые связали великую страну по рукам и ногам. Карательный закон в неправовом государстве, что молитва Фарисея, — кровавое фарисейство. Маршал Брежнев тоже принимал военную присягу и как военный человек (Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны) тоже подлежит юрисдикции военной прокуратуры. И я считаю, что он в гораздо большей степени, чем Саблин, заслуживает обвинения в измене Родине, ибо он своими действиями, а пуще — преступным бездействием уклонился от выполнения воинского, государственного и партийного долга. Он упустил тот исторический шанс, который был дан стране хрущёвской «оттепелью», он привёл КПСС к идеологическому банкротству, государство — к экономическому кризису, армию — к подрыву боевой мощи.
Как главковерх он несёт прямую ответственность за серию военно-морских катастроф, происшедших в годы его правления, за зарождение и расцвет «дедовщины», за вторжение в Чехословакию. За одно лишь развязывание войны в Афганистане он должен быть назван военным преступником и изменником Родины (не говоря уже о таких «мелочах», как соучастие в бриллиантокрадстве).
То, что совершил Саблин, — ужасно. Но ужаснее всего то, что он должен был это совершить. И посему человек, выступивший против облечённого высшей властью изменника Родины, не может быть назван предателем.
Да, именно об этом почти сто лет назад твердил штабс-капитан Степурин:
«Побудило меня стать на нелегальный путь деятельности наболевшее… убеждение в полной невозможности законными средствами содействовать выходу России из того тягостного и поистине критического положения, в котором она в настоящее время находится и которое признаёт существующим и само правительство…
Бюрократия овладела всем и вся — и телом, и духом общества — и своим мёртвым формализмом и присущей ему традиционной неправдой… стоит фатальной стеной между правительством и обществом, мешает… возродить Россию от объявшего её кошмара. Как же быть честному русскому гражданину при сознании всего этого? Оставаясь верным закону, он будет преступником против общества; оставаясь же на стороне интересов общества, он, чтобы заявить обществу о его критическом положении, должен нарушить закон…»
Эти на удивление не утратившие злободневности мысли хочется подкрепить выводом современного публициста: «Кто виноват? Брежнев? Сейчас легко так сказать. Виновата партийная дворня, небескорыстно раздувавшая пустой резиновый сосуд? Больше, чем он. Да потому, что ведала, что творила. Но главный виновник, которого надо привлечь к суду истории, — брежневский режим, который законсервировал бедность и развратил сознание огромной массы людей».
Если в Сталина многие верили и почитали его искренне, то Брежнев, омундиренный аппаратчик, отнюдь не представлял собой кумира даже для самой далёкой от политики части народа. Слова Саблина о бедах страны, о её корыстных и бездушных вождях, возможно, были самыми первыми словами правды, сказанными матросам официально, они обладали для них бесспорной очевидностью, особенно убеждать их, агитировать не пришлось. Искры упали на сухую траву. «Сторожевой» развёл пары…
Главный камень преткновения для тех, кто не приемлет саблинского вызова, в том, что он нарушил военную присягу. Нарушил её, ибо арестовал командира, взял командование кораблём и перестал подчиняться приказам вышестоящих начальников. Да, всё это так. И тут есть о чём подумать. Но вот что удивительно. Газета «Красная Звезда», та, что не раз бичевала Саблина посмертно, воздавая дань декабристам, воспевая их мятеж на Сенатской площади, утверждает устами своего публициста:
«Русские офицеры… честь свою ценили выше, чем присягу» (26 декабря 1990 года).
Значит, получается так, что русским офицерам можно было ценить свою честь выше, чем присягу, а советским — нельзя. Я вообще против искусственного разделения русской дореволюционной армии и современной. Но это особый разговор. Здесь же хочу напомнить, что и ныне лучшие офицеры честь свою ставят превыше всего. И капитан 3-го ранга Саблин — из их числа.
Из конспектов Саблина:
«Человек может и часто должен жертвовать своей жизнью, но не личностью. Жертва есть условие реализации личности». Ник. Бердяев.
«Большинство людей умирает, достигнув 20–30-летнего возраста. Перешагнув этот рубеж, они превращаются в собственную тень». Ромен Роллан.
Поступок Саблина кажется нам случайным броском героя-одиночки лишь на фоне нашего общего неведения о том, что все семьдесят лет партийной диктатуры борьба против неё не прекращалась. Ещё не написана история этой борьбы. И как бы историки-наёмники ни трактовали эту борьбу, ни наклеивали на неё пёстрые ярлыки правых (левых) мятежей, она тем не менее шла до самых последних дней, и дело Саблина — это закономерный, неслучайный эпизод в череде.
Да, он не отбросил коммунистическую фразеологию, но не потому, что фанатично верил в лучезарное завтра по Марксу—Энгельсу—Ленину, а потому, что надеялся, что матросы, офицеры, все советские люди пойдут за ним скорее и вернее, если ему не придётся ломать привычный им стереотип мышления, если он не даст повода сразу же заклеймить себя тавром антикоммуниста, которое повлечёт за собой весь набор идеологических ярлыков: антисоветчик, пособник империализма, вплоть до агента спецслужб.
С позиций истинного коммуниста, борца за неискажённое Учение он был менее уязвим со стороны идеологической инквизиции.
Так я думаю о Саблине теперь, прочтя его дневники, конспекты, письма, выслушав рассказы о нём его друзей и близких. Впрочем, вполне допускаю, что он мог искренне верить в справедливость марксизма-ленинизма, незамутнённого кровавой практикой ВКП(б) — КПСС. В любом случае для него важнее всего было публично уличить партийных бонз в чудовищном расхождении их слов с их делами.
Сомнение в коммунистической убеждённости Саблина высказал и генерал Борискин: «Скажу, что Саблин свои преступные действия только прикрывал коммунистическим призывом, а на самом деле готовил себя в военные диктаторы вроде генерала Корнилова или адмирала Колчака».
Оставим Колчака и Корнилова на совести генерала. Однако возьмём в толк, что Саблин, как и все мы, воспитывался на беспрестанном воспевании революционного насилия. Вспомним фильм «Броненосец „Потёмкин“»: матросы, разъярённые недоброкачественным борщом, выбрасывают офицеров за борт и в конце концов уводят боевой корабль в чужую страну. Все они — беззаветные герои. Откроем любую книгу по истории русского флота. Бунт на крейсере «Память Азова»: матросы, недовольные всё тем же борщом, берут на штыки командира корабля, убивают кувалдой инженера-механика, стреляют в только что назначенных на корабль девятнадцатилетних, ни в чём не повинных мичманов и, конечно же, зачисляются нашими историками в герои. Матросы «Авроры» убивают своего командира — их портреты на музейных стендах. Примерам несть числа. И потому удивление — «Как подобная мысль могла прийти в голову советскому офицеру?!» — лицемерно.
Выступление Саблина похоже на акт политического терроризма. Но это чисто внешнее сходство. Ибо Саблин полагался в своём выборе не на силу корабельного оружия, а на силу факта самого выступления. Человек попытался дать сигнал аварийной тревоги на всю страну, замкнув провода своим телом, своей жизнью. Сигнал, запоздавший на полтора десятилетия. И те, кому был выгоден «сон разума» миллионов, его расстреляли. И сделали это так тихо, что звук выстрела не разбудил нас, благостно спавших…
Кое-кто из осторожных комментаторов усмотрел в выступлении Саблина чуть ли не попытку военного переворота. Да полноте!
Был в старом русском флоте обычай: команда, горячо не согласная с чем-либо, становилась во фронт и не расходилась до тех пор, пока не придёт командир и не выслушает её обиды. Это называлось «заявить претензию». Нечто подобное намеревался сделать и Саблин: «стать во фронт» и на виду города Ленина «заявить претензию» на чудовищную неправду нашей жизни, на искажение ленинских идей, на самоуправство брежневской элиты…
Давайте подумаем сначала, против чего выступил Саблин и во имя чего, а уж потом назовём, параграфы каких законов он при этом преступил. Однако в самом главном — военную присягу он не нарушил: «Я клянусь… до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей Советской Родине…»
Из прощального письма Саблина к сыну:
«Дорогой сынок, Миша! Я временно расстаюсь с вами, чтобы свой долг перед Родиной выполнить. Не скучай и помогай маме. Береги её и не давай в обиду.
В чём мой долг перед Родиной?
Я боюсь, что сейчас ты не поймёшь глубоко, но подрастёшь, и всё станет ясно. А сейчас я тебе советую прочитать рассказ Горького о Данко. Вот и я так решил — рвануть себе грудь и достать сердце…»
Говорят, трижды убийца тот, кто убивает мысль. Сколь же кратным убийцей был тот, кто убивал своей алчностью, аморальностью идеалы социального переустройства, веру людей в своё будущее, кто ввергал их в ледяной ад бездуховности?! На одну минуту представим себе, что выступление «Сторожевого» и в самом деле послужило толчком падения Брежнева. Сколько бы дали стране, народу годы «безбрежного» десятилетия?! Быть может, не разрослись бы так метастазы адиловщины, чурбановщины — всего того, чему ужасаемся мы ныне?
Саблин — явление глубоко русское, оно из недр национального характера, о котором проникновенно сказал Достоевский:
«…Они (русские мальчики. — Н.Ч.) не станут тратить время на расчёты — поступят, как велит им совесть, часто даже будучи уверенными в самых ужасных для себя последствиях… В минуты опасности для Отечества оставляют дом, невесту, мать — и идут добровольцами, ополченцами, чтоб стать героями Бородина; забывают о своей тысячелетней родословной, и благах, и привилегиях, кои она им обеспечивает, обрекая себя на виселицу, на кандалы, выходят на Сенатскую площадь, ибо честь и слава Отчизны, освобождённой от крепостного права и подчинения немецкой чиновной бюрократии, для них превыше благ и привилегий спокойного ничегонеделания…
Нетерпеливы русские мальчики; им хочется сразу всего, одним разом, либо пристукнуть весь мир зла и несправедливости, либо обнять и жизнью своей защитить его красоту от прихлопывания других. Всё или ничего…»
«Ну и чего добился Саблин своим выступлением? — спрашивают скептики. — Двух пуль и добился: одну — в ногу, другую — в затылок…»
Чего он добился?..
Да, внешне ничего особенного не произошло: вышел корабль из парадного строя вечером, а под утро вернулся в базу. Никто из рижан этого даже и не заметил. И всё же весть о «Сторожевом» облетела по матросско-офицерскому телеграфу все флоты.
Чего он добился?
Да просто не так едко ест стыд теперь за позорные годы понурого молчания, за своё якобы «прозрение», за свою дарованную гласность. Не столь убийствен будет упрёк, который бросят наши потомки «потерянному поколению»: «Вы — молчальники, творцы всесоюзного одобрямса».
Некоторые из однокашников Саблина уже стали адмиралами… Так и вертится строчка из песни: «Господа офицеры, я прошу вас учесть, кто сберёг свои нервы, тот не спас свою честь!» Не хочу сказать о них ничего дурного. Наверное, каждый из них по-своему честен, хотя кое-кто дорого бы дал, чтобы изъять своё курсантское фото из саблинского альбома. Но дело совсем не в этом, а в том, что сегодня они повторяют с высоких трибун или читают во всех газетах то, что пытался прокричать в радиоэфир Валерий Саблин в ноябре 1975-го. В годы безгласья и безвременья он ценой жизни спас их честь, спас честь своего поколения.
Пока Саблин лежал в тюремном лазарете (пуля пробила ногу чуть ниже колена), писал родителям бодрые письма, стараясь поддерживать в стариках веру, что жизнь у него не отнимут. Письма эти, по счастью, сохранились. Не хочется называть их казённым словом «документ», они слишком теплы для этого, человечны, полны внутренней веры в правоту своих убеждений, веры в добро, в жизнь.
«24.03.76 г. Здравствуйте, дорогие мои мамочка и папочка!
…У меня всё хорошо. Продолжаю поддерживать здоровье и настроение на должном уровне. Много читаю, так как здесь очень хорошая библиотека. Стараюсь меньше сидеть и лежать, а больше ходить. На прогулках напеваю песни, что помогает прочищать лёгкие и поднимает жизненный тонус: „…Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно!“
Режим „письмомолчания“, вероятнее всего, начнётся где-то в апреле. К сожалению, весна никак не начинается. А хотелось бы уже солнышка и тепла. У вас, вероятно, такая же кислая погода, простудная… Берегите себя! На госпиталь (больницу) надейся, а сам не плошай!
Я недавно выслал на имя Коли (младшего брата. — Н.Ч.) небольшую повесть о собаке Дике. Написал её в феврале. Это и есть то занятие, которым я заполнял время, когда библиотека не работала. Сам понимаю, что по технике литературного исполнения она (повесть) слабовата, но поручил Коле изыскать возможность издать её. Это была бы материальная поддержка для Нины. Я вложил в описание удивительной жизни Дика столько труда и любви, что решил посвятить эту повесть маме. Понравится ли она тебе, мама, не знаю, но я очень старался…»
«3.06.76 г. …Только что получил ваше первое письмо из Белыни. Сразу же сел отвечать, так как за полтора месяца соскучился по вашим и Нининым письмам. Именно такие подробные письма о всех мелочах в вашей жизни для меня очень ценны и дороги!
…Спросите у Прыгуновых (соседей. — Н.Ч.), понравилось ли корове сено, которое мы с папой так усердно спасали от дождя. Пишу — и чувствую запах сена. Хорошо!
Рад за вас, что вы дышите чистейшим белыньским воздухом! „Всё должно быть для здоровья с максимальной отдачей!!“ — такой должен быть у вас девиз на четыре месяца.
Что, мама, ты сейчас читаешь? Читала ли рассказы Шукшина? Кажется, в сентябрьской „Роман-газете“ они были опубликованы. Как впечатления? Береги себя, мамочка! Ты знаешь, о чём я говорю… О себе мне как-то и писать нечего. Кажется, не меняюсь ни к лучшему, ни к худшему. Это относится и к здоровью, и к настроению, и к внешнему виду.
…Читаю Ромена Роллана о Бетховене, Толстом и Микеланджело. Назвал он свою книгу „Героические жизни“, но в этих жизнях больше страдальческого, чем героического. Прочитал „Письма из Сибири“ — это сборник писем Кирова, Свердлова, Куйбышева и других революционеров своим родным и близким. Впечатляющая книга.
Режим выдерживаю строгий и разрешаю себе не делать физзарядку только в воскресенье. Ну а в субботу, как положено, — большая приборка. То есть поддерживаются флотский порядок и режим. Так что обо мне не беспокойтесь. Берегите себя!»
Потом, после нескольких месяцев зловещего молчания, пришёл тонкий конверт. Из него выпало вот это:
«Свидетельство о смерти. Гражданин Саблин В.М. умер третьего августа 1976 г. в возрасте 39 лет, о чём в книге регистрации актов о смерти 1977 года февраля месяца 22 числа произведена запись за № 344. Причина смерти — (прочерк). Место смерти — (прочерк)».
По странному совпадению в номере свидетельства о смерти оказались цифры бортового номера его корабля. Возраст Саблина указан ошибочно. Когда его расстреляли, ему было 37 лет, как и лейтенанту Шмидту.
Михаил Петрович Саблин пережил сына на шесть месяцев. Он умер в январе 1977-го. Не выдержав смерти двух самых дорогих для неё людей, скончалась спустя полгода и Анна Васильевна Бучнёва, мать Валерия Саблина.
Младший брат сохранил его школьные стихи, посвящённые маме:
С каким достоинством, с каким горьким смирением несла свой крест все эти годы обезглавленная семья Саблиных!.. И хоть не тридцатые, не сороковые, ох не сладко и в наши дни быть женой и сыном «изменника Родины».
Едва только военный городок потрясла весть о «Сторожевом», об аресте Саблина, как верхний сосед по подъезду, некто капитан Белоусов, тут же стал улучшать свои жилищные условия за счёт опальной семьи. Взломал дверь, принёс свои вещи — убирайтесь, и всё! Сразу же замолчал телефон. Кое-кто из бывших друзей поспешил забыть дорогу к дому № 26 по улице Ушакова.
То, что их жизнь вступила отныне в ледниковый период, остро понял и двенадцатилетний Миша Саблин. Он учился в одном классе с сыном командира своего отца. В школе знали, что произошло на «Сторожевом», разумеется, в самых общих, но тем не менее драматичных чертах.
«Саблин! Саблин!» — позвал приятель во дворе, и тут же родители сделали ему строгое внушение, чтобы не смел так громко произносить запретную фамилию.
И всё-таки далеко не все смотрели на Саблиных косо. Несколько раз заходил в гости старпом капитан 3-го ранга Новожилов, спрашивал, не нужна ли какая помощь. Заглядывали и другие офицеры. Но потом прекратились и эти визиты. Кольцо отчуждения росло и ширилось. Нина решила уехать из Балтийска. В Калининграде им с Мишей довольно быстро дали однокомнатную квартиру. Потом она и вовсе перебралась из чужого города в Ленинград, к маме. Там и сейчас живёт в Весёлом посёлке, где не так уж и весело, — далёкий новостроечный район.
И вот что важно заметить: те всемогущие неизвестные силы, которые распорядились судьбой мужа, не стали ломать жизнь ни ей, ни его братьям, ни его сыну. Конечно же, у Николая и Бориса собрались над головами чёрные тучи, но гром не грянул, оба остались так или иначе на своих ответственных инженерных постах. Не помешали они, эти силы, и ей прописаться в Ленинграде, а Мише поступить в университет. Правда, парень хотел быть моряком, но дорога на флот ему была заказана, и он пошёл на биофак изучать древних ископаемых юрского периода. Благо уж в этой сфере никак не проявится его «генетическая предрасположенность» к «измене Родине». Однако на всякий случай от военной кафедры его отлучили.
Не потому ли — напрашивается мысль — эти всемогущие и всегда таинственные силы не стали загонять за Можай саблинских родственников, что не даёт им это сделать смутное чувство вины перед вдовой расстрелянного офицера, преступление которого они признали лишь казённым разумом, а не собственным сердцем? Я тешу себя этой надеждой.
Раковины и морские звёзды лежали на полках старенького серванта. Меж ними затерялась моделька корабля. Разостланный шлюпочный флаг. Книги с его пометками. Книги из серии «Пламенные революционеры», которую он собирал.
Тикает будильник — подарок на свадьбу. А этот кошелёчек — всё, что вернули из Лефортовской тюрьмы. Вот и весь домашний мемориал.
Я стоял в более чем скромной квартирке, куда меня поначалу и приглашать-то стеснялись, и жёг меня стыд за своё благоденствие и за посмертное прозябание его дома.
Мы служили с ним на разных морях, но на одном флоте и в одно время… Мы росли на берегах одной и той же реки. Мы ночевали в одних и тех же горных приютах и жили на одних и тех же улицах в заполярных городах. Бродили по одним и тем же ленинградским и московским вокзалам. Ходили в один и тот же океан. Мне кажется, я знаю его целую вечность. Мне кажется, что и я потерял очень родного мне человека…
У Нины Саблиной, хозяйки дома, милая и робкая улыбка. Она исчезает мгновенно, и лицо каменеет в печали. Это самое привычное выражение.
Ленинградка. Но корни уходят в земли брянские и псковские. Окончила ЛИСИ — инженерно-строительный, работает в стройуправлении. С Валерием познакомились на танцах в училище в 1958 году, когда тот учился на третьем курсе. Поженились через два года… Теперь вечера коротает с мамой — очень пожилой и болезненной. Сын недавно женился. Живёт в центре. Обещал сегодня прийти.
И он приходит. Сдержанный, немногословный, с глубоко затаённой печалью. Мать не верит, а он верит, что об отце во всеуслышание будут сказаны добрые слова. Порукой тому — портрет лейтенанта Шмидта, оставленный отцом в наследство.
Что стало с кораблём? Экипаж расформировали, а «Сторожевой» перегнали с Балтики на Тихий океан, чтоб не мозолил глаза и не вызывал ни у кого никаких ассоциаций. Он долго нёс свою ратную службу, и нёс её на «отлично», из года в год ходил в лидерах. И хотя экипажи менялись, моряки знали, на каком корабле они служили. И держали марку.
Дело Саблина, поступок Саблина, преступление Саблина, подвиг Саблина…
Та, теперь уже такая далёкая драма, разыгравшаяся на морском параде в Риге, с непреуменьшившейся остротой продолжает волновать умы моряков и юристов, политиков и журналистов, всех нас, граждан своего Отечества, и зарубежных интересантов, которые знают о Саблине понаслышке — со страниц авантюрного романа «Охота за „Красным Октябрём“» американского страхового агента Тома Кленси, принёсшего его автору мировую известность.
Так кто он такой, капитан 3-го ранга Валерий Саблин? Разочаровавшийся в жизни авантюрист-одиночка? Ультралевый коммунист, который хотел быть святее генсека, или доморощенный бонапартик, метивший в военные диктаторы? Тщеславный безумец, задумавший повторить судьбу лейтенанта Шмидта? Изменник Родины, прельстившийся шведскими хлебами?
Вот уже много лет, изучая письма Саблина, его конспекты, дневники, расспрашивая его друзей и недругов, сослуживцев и родственников, тех, кто его судил, и тех, кто стоял с ним в роковую ночь рядом, пытаясь постичь его характер и его личность, я сделал для себя такой вывод: ВАЛЕРИЙ САБЛИН — ГРАЖДАНИН, РЕШИВШИЙСЯ УДАРИТЬ В НАБАТНЫЙ КОЛОКОЛ ТОГДА, КОГДА ВСЕ НАПАСТИ, ОБРУШИВШИЕСЯ НЫНЕ НА НАШУ СТРАНУ, ЕЩЁ ТОЛЬКО ВЫЗРЕВАЛИ. Он попытался это сделать как можно громче, а потому не ограничился самосожжением где-нибудь посреди Москвы, как это уже делалось и до, и после него в знак протеста против брежневского партийно-мафиозного маразма, а попытался крикнуть на всю Россию, на весь СССР и весь мир с палубы, с мостика, с антенн боевого корабля, откуда бы его непременно услышали: «Граждане, Отечество в опасности!» Не его вина, что сограждане его не услышали. Но тридцатисемилетний человек положил жизнь, как говорили встарь, за други своя, то есть за нас, за каждого из нас… И ещё одно утверждение, выведенное как из дела Саблина, так и из собственного опыта флотской службы: подобное выступление могло произойти на любом корабле Военно-морского флота СССР, окажись на нём такой человек, как Саблин, скажи он такие слова, какие бросил замполит «Сторожевого» своей команде.
Был ли Саблин правоверным марксистом, фанатом учения? Этот вопрос мучил меня с первых же шагов по следам своего героя.
Думаю, что Саблин понимал, что матросы, да и народ вообще ещё не готовы действовать вне рамок этого вероучения, впрыснутого в мозги миллионов людей. Поэтому он пользовался коммунистической фразеологией, её лозунгами и постулатами. Но это лишь внешне. Для дела. Чтобы не оттолкнуть массы, чтобы говорить с ними на одном языке. («Царь мне нужен потому, что без него чёрная масса за мной не пойдёт» — из речи лейтенанта П. Шмидта перед офицерами «Очакова».) Для себя же, для души он исповедовал далёкие от марксизма идеи академика Вернадского. И даже написал диссертацию о нём. Увы, оставшуюся незащищённой.
До сих пор юристы не могут точно определить формулу обвинения. За что именно был расстрелян Валерий Саблин? За воинское преступление, выразившееся в захвате корабля и неподчинении власти вышестоящих начальников? Но в приговоре Военной коллегии Верховного суда СССР речь идёт вовсе не об этом, а о попытке изменения государственного строя СССР, что и отождествляется с изменой Родине… Но вот государственный строй изменён, СССР не существует так же, как и пресловутая 58-я статья, проведена не одна политическая амнистия, реабилитированы Сахаров, Солженицын, сотни диссидентов. А дело Саблина по-прежнему под сукном, а имя Саблина по-прежнему в чёрном списке. Вдова Саблина и братья подали прошение на пересмотр дела. Слово за Фемидой обновлённой — демократической России.
Сдать эти письма в архив не поднимается рука. Это отклики, пришедшие в «Комсомольскую правду» и другие газеты, на радио, телевидение после публикаций материалов о Саблине и «Сторожевом».
Прежде всего — слово участникам событий. Письмо бывшего старшего матроса «Сторожевого», ныне московского строителя Сергея Лыкова.
«На днях ребята по бригаде принесли мне газету. „Почитай, тебе будет интересно“. Развернул и увидел фотографию своего замполита Валерия Михайловича Саблина. У меня в душе всё перевернулось, а на глазах появились слёзы… Слишком много вспомнилось.
То, что произошло в Риге в ноябре 1975 года, нам, рядовому составу, приказали забыть, а после двухмесячного разбирательства напутствовали нас так: „Только честным трудом вы смоете позор с Балтийского флота“. Домой ехать не хотелось, всё боялся — вот приеду, и тут же на вокзале арестуют. Приехал домой ночью, мать обрадовалась и, плача, спросила — почему же так долго не приезжал? Сказал, что служба такая. Пока она хлопотала на кухне, подсел к приёмнику, и, прокручивая станции, вдруг услыхал сквозь трескотню помех сообщение „Голоса Америки“: мол, такого-то числа в Балтийском море был обстрелян советскими истребителями советский военный корабль. Дальше слушать не мог. Сидел и ревел, как девчонка. Было так обидно и стыдно за тех, кто послал эти самолёты…
Теперь вот прочитал в латвийской „молодёжке“ статью А. Майданова „Прямо по курсу — смерть“, и снова стало обидно и стыдно, на этот раз за автора: столько неточностей и откровенной полуправды. Зачем так пинать нашего командира капитана 2-го ранга Потульного, которого на корабле уважали, несмотря и на некоторый гонор? И, наконец, полный бред, ясный и школьнику — самолёт с водородной бомбой на борту, посланный вдогонку за „Сторожёвым“, чтобы уничтожить его — и где! — у берегов Латвии. Не надо драматизировать и без того трагическую ситуацию нелепыми домыслами. И чтобы подобное не накручивалось и впредь, прошу всех, кто причастен к тем событиям, самим рассказать, как всё было на самом деле».
Бывший матрос, художник Тольяттинского народного театра Александр Николаевич Шеин три года отдал флоту, восемь — тюрьме и лагерю. Но даже там, за решёткой и «колючкой», его старались держать подальше от остальных заключённых, дабы бывший матрос не проговорился, за что сидит. Он научился медитировать и выходить в астральное пространство — за неимением пространства иного.
В лагерной общеобразовательной школе Шеин впервые в жизни влюбился. В вольную. В учительницу литературы. В жену замполита конвойной роты. С таким же успехом он мог влюбляться в Жаклин Кеннеди или Эдиту Пьеху. Но произошло чудо, случавшееся разве что в старой русской жизни: его возлюбленная оставила мужа-охранника и потянулась к нему, бритоголовому невольнику, дождалась, когда кончится срок, и уехала с ним навсегда.
С Шейным у меня завязалась обширная переписка.
«У нас напрасно искали потом подпольную организацию на корабле, — писал Шеин в очередном письме, — её не было. Если уж меня определили ближайшим помощником Саблина, то я о его намерениях узнал лишь за три дня до выступления.
Саблина поддержали в основном матросы. Мы не были сильны в теории социализма, но мы хорошо чувствовали всю фальшь того, что нам внушали и как далеко расходились газетные словеса с нашей жизнью. Наглядный урок показухи, барства, лицемерия преподал нам бывший Главком ВМФ Горшков, который выходил на нашем корабле в море вместе с министром обороны Гречко. Мы должны были продемонстрировать стрельбу ракетоторпедой по подводкой лодке. Лодку искали долго, но так и не нашли. Тогда высокое начальство решило стрелять наобум, получив данные о цели по прибору, имитирующему на тренировках подводную лодку. Ну и вжахнули! Красивое было зрелище, если не считать тех сотен тысяч рублей, которых оно стоило. Министр остался доволен. Все газеты расписали нашу блестящую атаку. А мы читали — плевались. И ещё деталь. На том выходе корабельные коридоры были устланы ковровыми дорожками, прямо через комингсы, хотя это и мешало закрывать водонепроницаемые двери, как велят корабельные правила. Но что им Корабельный устав… Ребята всё видели…»
В конверте я нашёл и вырезку из газеты «Страж Балтики» с отчётом о том походе. Любопытный документ.
«ПОД ФЛАГОМ МИНИСТРА ОБОРОНЫ СССР». Высокий патриотический дух царит па кораблях и в частях дважды Краснознамённого Балтийского флота. Воины-балтийцы глубоко осознают всю сложность и ответственность, вытекающие из решений XXIV съезда КПСС…
Руководители партии и правительства лично уделяют большое внимание военным морякам. Корабли и части ВМФ неоднократно посещали Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н.В. Подгорный, Председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгин.
На дважды Краснознамённом Балтийском флоте не раз бывал член Политбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР Маршал Советского Союза А.А. Гречко. Сегодня такой чести удостоен этот корабль…
…14 вот корабль вышел в море. На ходовом мостике — министр обороны СССР Маршал Советского Союза А.А. Гречко. Он заслушивает доклад командира корабля о поставленной перед экипажем задаче. Министр обороны подробно интересуется тем, как военные моряки осваивают новую технику и оружие, какие тактические приёмы применяет командир в ходе боевой подготовки в море, как он учит подчинённых умению использовать оружие, организует занятия, тренировки, учения. Командир корабля докладывает министру обороны о том, что воодушевлённые Обращениям Центрального Комитета КПСС к партии, к советскому народу, офицеры и мичманы, старшины и матросы экипажа выполнили социалистические обязательства, принятые ими на зимний период обучения в соревновании под девизом «За дальнейшее повышение боевой готовности, отличное знание и сбережение оружия и военной техники».
Министр обороны СССР обстоятельно заслушивает командира о людях экипажа корабля, офицерах, мичманах, старшинах, матросах, условиях их жизни, быта, отдыха.
Маршал Советского Союза А.А. Гречко спрашивает, как личный состав выполняет свои обязанности на боевых постах по различным вводным и командам. Специальная подготовленность моряков, уровень их тактической и морской выучки, морально-волевой настрой — это и многое другое в поле зрения Маршала Советского Союза А.А. Гречко.
Корабль под флагом министра обороны СССР следует в заданный район. А в это время поступает радиосообщение от вертолётчиков об обнаружении подводной лодки «противника». На всех боевых постах корабля идёт боевая работа. Особо ответственна сейчас роль гидроакустиков. И они справились с задачей. По их данным, командир принимает решение атаковать подводную лодку. Считанные минуты пролетели после установления контакта с подводной лодкой, и вот уже на подводную лодку обрушился удар всего комплекса противолодочного оружия корабля — реактивных бомбомётных установок и торпед.
На выходе экипаж корабля продемонстрировал высокий уровень боевой подготовленности, выучки и мастерства. Сказалась большая партийно-политическая работа, проведённая в экипаже.
Коммунисты и комсомольские активисты беседовали с воинами о заботе, проявляемой партией и правительством о военных моряках, призывали балтийцев ответить на это внимание новыми достижениями в совершенствовании боевого мастерства. Коммунисты и комсомольцы показали личный пример.
Начальник Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота генерал армии А.А. Епишев проявил глубокий интерес к организации партийно-политической работы на корабле, заслушал доклад заместителя командира корабля по политчасти.
Заслушать заслушал, но по-настоящему услышал лишь через год — в мятежном ноябре 1975-го.
Строки из писем.
«Я ровесница Саблина, и я восхищаюсь его самоотверженным поступком… Ценой жизни решил разбудить нас, вывести из состояния глубокого сна. Он знал, на что шёл! Сын может гордиться своим отцом.
Л. Мороз, Москва».
«Я тоже служил в то время на Балтике, на корабле такого же проекта. Но мы ушли на Тихоокеанский флот в сентябре, и весть об этом случае до нас дошла уже в Индийском океане. Но преподнесли нам его совсем в другом виде: В. Саблин — изменник Родины и хотел угнать корабль за границу и т.д. И все 15 лет я так и думал. Вот только горько, что уже нельзя извиниться перед В. Саблиным. Уверен, что многие, кто служил в то время на флоте, смогут понять теперь, с какой чудовищной неправдой мы жили, служили бок о бок.
В. Рубцов, Хабаровский край, Ванинский район».
«Я обращаюсь к „Комсомолке“ с предложением начать кампанию по переименованию корабля „Сторожевой“ в „Валерий Саблин“. Хватит нам „Ждановых“, „Ворошиловых“, „Устиновых“, „Калининых“! Народ, а не Главпур должен давать имена строящимся на его деньги кораблям! Имена подлинных героев, а не сталинско-брежневских креатур! Имя Валерия Саблина — Человека и Офицера, — выступившего против извратившей и изолгавшей идею социализма бюрократическо-авторитарной шайки, должно навечно остаться в памяти советского народа!
Константин Чуприн, член КПСС, г. Баку».
«Люди издавна путают понятие „родина“ с понятием „государство“. А разница между этими понятиями очевидна уже на уровне грамматики: слово „родина“ имеет общий корень со словом „народ“, слово „государство“ — со словом „государь“. Так что делать народу, когда государь жесток и неразумен? Вот и получается, что выступить на защиту родины иногда означает — восстать против государства.
Валерий Саблин поступил согласно присяге — он выступил на защиту своей Родины и защищал её, не щадя своей крови и самой жизни. И то, что Саблин был политработником, убеждённым марксистом — очень характерно. Я помню, как в 1984 году, придя на второй курс Университета марксизма-ленинизма, я услышал буквально следующее: изучать марксизм-ленинизм необходимо для того, чтобы бороться с теми, кто нами правит. С этого заявления началось первое занятие по научному коммунизму… Человек, действительно узнавший и понявший Маркса и Ленина, не может не быть убеждённым и последовательным врагом той общественной системы, в которой мы жили.
Вопрос в том, как бороться. И в этом смысле поступок Саблина — это авантюра. Петра Петровича Шмидта матросы сами позвали. Он согласился возглавить выступление на „Очакове“, согласившись разделить их судьбу. Матросов „Сторожевого“ Валерий Саблин подставил, сделал их заложниками. Делать такие вещи можно лишь тогда, когда люди разделяют твои убеждения, идут на риск сознательно. Сахаров и Солженицын при любом исходе отвечали за свои поступки и слова сами. Саблин сделал заложниками десятки человек. И вот в этом самый главный урок событий на Балтике. Чтобы бороться с государством — хотя бы и во имя народа, — надо либо оставаться рыцарем-одиночкой, как Радищев, как Сахаров. Либо — организуя и воспитывая людей, создавая организацию революционеров — людей, на всё идущих сознательно. Иначе любая революционность оборачивается авантюризмом и неизбежно приводит к гибели невинных людей. Бомбы, летящие с баррикады в батальон карателей, — это одно. Бомба, бросаемая из-за угла и калечащая, помимо главной жертвы — министра или генерала, — случайных прохожих, это совсем другое.
Ну что же, нельзя забывать, что мировоззрение Саблина вызревало на марксистско-коммунистических идеях. Он действовал в рамках партийной, революционно-большевистской морали, а логика её позволяет во имя высшего блага большинства приносить в жертву невинное меньшинство.
Николай Кудряков, Десногорск».
«С горечью вынужден констатировать, что публикация данного очерка отнюдь не способствует патриотическому воспитанию нашей молодёжи… Не следует забывать старинный российский военный призыв: „За Веру, Царя и Отечество!“ Веру у нас отобрал тот, величием которого проникся военный преступник Саблин, Царя свергли и расстреляли тоже не без его участия. А Отечество у нас осталось — наша Родина, земля предков. И задача Вооружённых Сил защищать Отечество от посягательства на него извне, которые в истории ещё долго не прекратятся. Каждый воин должен на своём посту укреплять Вооружённые Силы, независимо от того, хорош или плох правитель, стоящий во главе Отечества в данное время… Кто знает, сколько ещё появится тайных или явных сторонников „партийных“ переворотов в Вооружённых Силах?.. Считаю, настало время убрать институт „политиканов“ из ВС страны. Каждый гражданин на время службы не должен состоять ни в какой партии. К этому разумному выводу пришли руководители многих стран Варшавского Договора и, к сожалению, раньше нас.
Ветеран Вооружённых Сил, подполковник запаса В. Бабич, Ленинград».
«Нет, не готово наше общество к таким героям, и не герои плохи, а жизнь наша слишком сложна… Я полностью разделяю мнение генерал-майора юстиции А. Борискина: „Авантюризм, в том числе и политический тем более, если он опирается на противоправные действия, ничем не может быть оправдан и приводит к элементарной уголовщине“.
Раиса Аркадьевна Огнева, член КПСС, г. Калининград».
«Прекрасные слова! Их бы напомнить тем, кто свергал законное правительство в октябре 17-го, кто разгонял Учредительное собрание в 18-м, кто уводил в Румынию воспетый во всех партийных хрестоматиях броненосец „Потёмкин“. Я не восхваляю Саблина, но я понимаю его. Он боролся с политической системой теми средствами, которыми система эта его и вооружила.
В. Ткаченко, Киев».
«Я полагаю, напрасно некоторые авторы изображают Саблина пострадавшим за идейные разногласия, „буревестником“ новых политических взглядов. На деле его поступок — нарушение военной присяги, дешёвый политический авантюризм, граничащий с элементарной уголовщиной.
Так думают и мои сослуживцы, которым довелось принять участие в пресечении ухода ВПК „Сторожевой“ к берегам Швеции. Ибо, если следовать их логике, то можно оправдать не только Саблина, но и воздушных террористов, убивших бортпроводницу Надю Курченко, и небезызвестного лётчика Беленко, угнавшего МиГ-25 в Японию. А почему бы и нет? Ведь они тоже якобы боролись с „системой“, выступали таким „неординарным“ способом против тоталитарного режима. Следовательно, они не клятвопреступники, а герои? Но, извините, назвать их таковыми просто язык не поворачивается.
Подполковник Анатолий Юдин, г. Рига».
«В статье „Последний парад“ вы были обязаны назвать фамилии и нынешние должности прокурора, судей и исполнителей приговора Саблину. Не для суда над ними, а чтобы страна знала всех своих героев. Не сомневаюсь, что после процесса они выросли в должностях и сейчас, конечно, за перестройку.
Е. Верещук, экскаваторщик, Магаданская обл., п. Духот».
«Убедительно прошу откликнуться на моё письмо и помочь нашему музею — Музею П.П. Шмидта — в сборе материалов, документов, фотографий, реликвий, связанных с именем Валерия Саблина. Я думаю, мы обязаны рассказать о нём в экспозиции нашего музея. Знаменательно, что и в годы застоя среди офицеров морского флота нашёлся человек с совестью лейтенанта Шмидта.
И ещё одно совпадение. Валерий окончил то же училище, в стенах которого учился и П.П. Шмидт.
Заведующая музеем П.П. Шмидта Л. Иващенко, г. Очаков».
«Я автор песен, две из которых получили широкую известность: „Медленным шагом, робким зигзагом“ (1953) и „По тундре, по железной дороге“ (1942). Последняя вошла в лагерную классику. Песня о Валерии Саблине — не случайный эпизод в моей творческой биографии. Её пели уже со второй половины 70-х годов на вечеринках и сходках в Москве, Киеве, на Урале. Те, кто слышал песню, частенько удивлялись: замполит, а решился на такое… Тогда я обычно напоминал слова Солженицына: „Я верю, что здоровые силы русского народа имеются на всех ступенях социальной лестницы“. Песня написана на мотив „Варяга“:
Григорий Шурмак, г. Электросталь».
«Почему пусть даже за попытку измены Родине человека втихую расстреляли и его просьба о помиловании отклонена. Ведь поступили более жестоко, чем самодержец всероссийский с декабристами… Как офицер флота знаю, что в одиночку никакой авантюрист такой корабль, как „Сторожевой“ (я сам служу на корабле такого же проекта) вместе с его экипажем, у членов которого есть семьи, дети, родные, Родина, наконец, угнать за границу не сможет… Кому-то и по сей день не выгодно проливать свет на „дело Саблина“. Ведь если это был не примитивный угон, а политический протест, тогда это пример, на котором надо воспитывать всех и в первую очередь политработников, институт которых в годы застоя послужил удобной подстилкой для клана командно-административной системы.
Капитан-лейтенант А. Давыдов».
Письма эти, как венки из терний и роз, пусть лягут к подножию безвестной могилы капитана 3-го ранга Валерия Саблина, похороненного не по морскому и не по людскому обычаю.
ТОЛЬКО ДОКУМЕНТЫ…
(Из Особой папки ЦК КПСС)
Из Обращения Саблина к советскому народу, записанного на магнитную плёнку (расшифровка органов следствия КГБ):
«Товарищи! Прослушайте текст выступления, с которым мы стремимся выступить по радио и телевидению.
Прежде всего большое спасибо вам за поддержку, иначе бы я не беседовал сегодня с вами. Наше выступление не есть предательство Родины, а чисто политическое, прогрессивное выступление, и предателями Родины будут те, кто пытается нам помешать. Мои товарищи просили передать, что в случае военных действий против нашей страны мы будем достойно защищать её. А сейчас наша цель другая: поднять голос правды.
Мы твёрдо убеждены, что необходимость изложить свои взгляды на внутреннее положение в нашей стране, причём чисто критического плана по отношению к политике Центрального Комитета КПСС и Советского правительства, имеется у многих честных людей в Советском Союзе.
[…] Ленин мечтал о государстве справедливости и свободы, а не о государстве жёсткого подчинения и политического бесправия. […] Я думаю, нет смысла доказывать, что в настоящее время слуги общества уже превратились в господ над обществом На этот счёт каждый имеет не один пример из жизни. Мы наблюдаем игру в формальный парламентаризм при выборах в советские органы и в исполнении Советами своих обязанностей. Практически судьба всего народа находится в руках избранной элиты в лице Политбюро ЦК КПСС. Всеобъемлющая концентрация власти, политической, государственной, стала стабильным и общепризнанным фактом. Особенно роковую роль в развитии революционного процесса в нашей стране сыграло уничтожение инакомыслящих в период культа личности Сталина, Хрущёва. А сейчас, к сведению, тоже ежегодно арестовывается до 75 человек по политическим мотивам. Пропала вера в существование справедливости в нашем обществе. А это первый симптом тяжёлой болезни общества. […] Почему-то считается, что народ должен довольствоваться фактами и быть политически безвольной массой. А народу нужна политическая активность… Скажите, где, в каком печатном органе или в передаче радио и телевидения допускается критика верхов? Это исключено. И мы должны честно признаться, что у нас нет политического или общественного органа, который бы позволил развернуть дискуссию по многим спорным вопросам общественного, политического, экономического и культурного развития нашей страны, так как всё находится под давлением партийных и государственных органов. Самый передовой в социальном развитии строй в исторически короткий период времени, 50 лет, преломился в такую социальную систему, в которой народ оказался в затхлой атмосфере беспрекословной веры в указание свыше, в атмосфере политической бесправности и бессловесности, в которой процветает боязнь выступить против партии и иного государственного органа, так как это отразится на личной судьбе. Наш народ уже значительно пострадал и страдает из-за своего политического бесправия. Только узкому кругу специалистов известно, сколько вреда принесло и приносит волюнтаристское вмешательство государственных и партийных органов в развитие науки и искусства, в развитие вооружённых сил и экономики, в решение национальных вопросов и воспитание молодёжи.
Мы, конечно, можем миллион раз хохотать над сатирой Райкина, журнала „Крокодил“, киножурнала „Фитиль“, но должны же когда-то появиться слёзы сквозь смех по поводу настоящего и будущего Родины. Пора уже не смеяться, а привлечь кое-кого к всенародному суду и спросить со всей строгостью за весь этот горький смех. Сейчас в нашей стране сложилась сложная ситуация: с одной стороны, с внешней, официальной, в нашем обществе всеобщая гармония и социальное согласие, ни дать ни взять — всенародное государство, а с другой стороны — всеобщая индивидуальная неудовлетворённость существующим положением дел. […] Наше выступление — это только маленький импульс, который должен послужить началом всплеска. […] Будет ли революция коммунистическая носить характер острой классовой борьбы в виде вооружённой борьбы или ограничится политической борьбой? Это зависит от ряда факторов. Во-первых, сразу ли поверит народ в необходимость социальных преобразований. И в то, что путь к ним только через коммунистическую революцию. Или это будет длительный процесс роста общественного понимания, политического сознания. Во-вторых, будет ли создана в ближайшее время организующая и вдохновляющая сила революции, то есть новая революционная партия, опирающаяся на новую передовую теорию. И, наконец, насколько яростно верхи будут оказывать сопротивление революции, топить её в крови народной, а это во многом зависит от того, на чью сторону встанут войска, милиция и другие вооружённые части. Можно лишь теоретически предположить, что наличие современных средств информации, связи и транспорта, а также высокий культурный уровень населения, большой опыт социальных революций в прошлом позволят нашему народу заставить правительство отказаться от насильственных контрреволюционных мер и направить революцию по мирному пути развития. Однако мы никогда не должны забывать, что революционная бдительность — основа успеха борьбы в революционную эпоху, и поэтому надо быть готовым к различным поворотам истории. Главная наша задача на настоящий момент, когда по всей стране нет пока широкой сети революционных кружков, нет ни профсоюзных, ни молодёжных, ни общественных (а они будут расти быстро, как грибы после дождя), главная задача сейчас — вселить в людей непоколебимую веру в жизненную необходимость коммунистической революции, в то, что иного пути нет, всё иное приведёт к внутренним, ещё большим осложнениям и мучениям. И сомнения одного поколения всё равно выльются в резолюцию следующего поколения, более болезненную и тяжёлую. Эта вера в необходимость революции будет тем дождём, который даст организационные всходы.
[…] Сразу же возникает вопрос — кто, какой класс будет гегемоном революции? Это будет класс трудовой, рабоче-крестьянской интеллигенции, к которому мы относим, с одной стороны, высококвалифицированных рабочих и крестьян, а с другой стороны — инженерно-технический персонал в промышленности и сельском хозяйстве. За этим классом — будущее. Это класс, который постепенно превратится в общество без классов после коммунистической революции. А кто будет противостоять этому классу? Каково социальное лицо противника? Класс управляющих. Он не является многочисленным, но у него сконцентрировано руководство экономикой, средствами информации, финансы. На базе него построена вся государственная надстройка, и за счёт него она держится. К классу управляющих относятся партийные и профсоюзные освобождённые работники, руководители крупных и средних производственных коллективов и торговых центров, кто успешно использует, не нарушая, конечно, советских законов, социалистическую систему хозяйствования для личного обогащения, личного утверждения в обществе в качестве хозяина, путём получения через государственную сеть дополнительных материальных и моральных льгот. Эта новая система эксплуатации путём оборота капитала через государственный бюджет требует ещё подробного изучения для разоблачения и разрушения. […]
И, наконец, стержневой вопрос любой революции — это вопрос власти… Предполагается… что, во-первых, нынешний государственный аппарат будет основательно очищен, а по некоторым узлам разбит и выброшен на свалку истории, так как он глубоко заражён семейственностью, взяточничеством, карьеризмом, высокомерен по отношению к народу, во-вторых, на свалку должна быть выброшена система выборов, превращающая народ в безликую массу. В-третьих, должны быть ликвидированы все условия, порождающие всесильность и бесконтрольность государственных органов со стороны народных масс. Будут ли эти вопросы решаться через диктатуру ведущего класса? Обязательно! Иначе вся революция закончится захватом власти — и не более. Только через величайшую всенародную бдительность — путь к обществу счастья». […]
«А теперь прослушайте радиограмму, которую предполагается дать в адрес командования Флота о нашем выступлении.
Радиограмма в адрес Главнокомандующего ВМФ СССР. Прошу срочно доложить Политбюро ЦК КПСС и Советскому правительству, что на ВПК „Сторожевой“ поднят флаг грядущей коммунистической революции.
Мы требуем: первое — объявить территорию корабля „Сторожевой“ свободной и независимой от государственных и партийных органов в течение года.
Второе — предоставить возможность одному на членов экипажа по нашему решению выступать по Центральному радио и телевидению в течение 30 минут в период с 21.30 до 22.00 по московскому времени ежедневно…
Третье — обеспечивать корабль „Сторожевой“ всеми видами довольствия согласно нормам в любой базе.
Четвёртое — разрешить „Сторожевому“ постановку на якорь и швартовые в любой базе и точке территориальных вод СССР. Пятое — обеспечить доставку и отправку почты „Сторожевого“. Шестое — разрешить радиопередачи радиостанции „Сторожевого“ в радиосети „Маяк“ в вечернее время».
Оснований для утверждения о намерении САБЛИНА увести корабль в Швецию в ходе расследования не выявлено.
Из докладной записки министру обороны СССР
Министру обороны Союза ССР
Маршалу Советского Союза
товарищу ГРЕЧКО А.А.
Докладываем!
Комиссия, назначенная Вашим приказом № 800105 от 9 ноября 1975 года, произвела расследование случая неповиновения, имевшего место 8–9 ноября с.г. на большом противолодочном корабле «Сторожевой» 128-й бригады ракетных кораблей Балтийского флота. […]
[…] На корабле находилось 194 человека. Из них: офицеров — 15, мичманов — 14, старшин и матросов — 165; членов КПСС — 7, кандидатов в члены КПСС — 9, комсомольцев — 164. В составе экипажа представители 18 национальностей, в том числе: 111 русских, 22 украинца, 12 белорусов, 5 латышей, 5 молдаван, 3 литовца, 2 поляка и др. По социальному положению: 114 рабочих, 19 колхозников, 29 служащих, 32 учащихся. […]
Самовольный выход корабля в море и неповиновение командованию явились следствием преступных действий бывшего заместителя командира корабля по политической части САБЛИНА, злобного перерожденца-антисоветчика, прикрывавшегося формой офицера, которому путём демагогических заявлений и обмана удалось временно склонить на свою сторону часть личного состава корабля.
Чрезвычайное происшествие явилось также следствием неосознанных действий определённой группы людей, поддавшейся на демагогическую, лживую агитацию врага, который в течение длительного времени вынашивал преступные замыслы против существующих порядков в партии и нашем государстве. Используя высокий авторитет занимаемой должности, зная психологию многих своих подчинённых, тонко играя на их чувствах, подтасовывая факты, САБЛИН сумел убедить психологически неустойчивую часть личного состава в том, что он только хочет публично выступить с критикой недостатков в политическом, социальном и экономическом развитии нашей страны.
Изучение личных записей САБЛИНА, отдельных подобранных им материалов, поведение при обследовании позволяют охарактеризовать его как человека с болезненным честолюбием, одержимого навязчивой идеей и стремлением выделяться из общей массы и стать исключительной личностью. Одним из путей этого он считал публичные выступления по телевидению.
В ходе работы комиссией не выявлено наличие на БПК «Сторожевой» вражеской антисоветской группы и так называемого «ревкома», фигурирующего в телеграмме на имя Главнокомандующего ВМФ. Саблин действовал единолично при поддержке нескольких человек, обработанных им лишь накануне открытых действий. Оснований для утверждения о намерении САБЛИНА увести корабль в Швецию в ходе расследования не выявлено. […]
САБЛИН является ярым замаскировавшимся антисоветчиком, который длительное время вынашивал свои враждебные взгляды. Демагогическими приёмами, используя высокий должностной авторитет, недостаточную политическую зрелость, пассивность и нерешительность части личного состава, ему удалось овладеть на короткое время положением на корабле.
Командир корабля капитан 2-го ранга ПОТУЛЬНЫЙ А.В. не сумел воспитать экипаж как единый боевой коллектив, способный в любой обстановке выполнить свой воинский долг. Расследование также показало определённую пассивность и растерянность офицерского состава, не сумевшего своевременно распознать антисоветский смысл выступлений и намерений предателя и решительно пресечь его деятельность.
В самовольном выходе корабля во многом повинны дежурная служба и руководство Рижского морского гарнизона… Получив доклад от старшего лейтенанта ФИРСОВА В.В., начальник штаба 78-й бригады кораблей охраны водного района капитан 2-го ранга ВЛАСОВ В.С., начальник особого отдела бригады капитан 2-го ранга ЮДИН В.Г., дежурный по рейду, командир подводной лодки С-263 капитан 2-го ранга СВЕТЛОВСКИЙ Л.В. вместо принятия должных мер длительное время совещались, с большим запозданием доложили по команде, проявили нераспорядительность и нерешительность, граничащие с трусостью.
Одновременно докладываем:
Во время бесед комиссии и руководящих должностных лиц Военно-Морского Флота со многими членами экипажа, а также со всем личным составом большого противолодочного корабля «Сторожевой», люди выражали возмущение предательскими действиями САБЛИНА и просили заверить Министра обороны, ЦК КПСС и лично товарища БРЕЖНЕВА Л.И. в том, что матросы, старшины, мичманы и офицеры глубоко осознали своё временное заблуждение и готовы к выполнению своего воинского долга.
По чрезвычайному происшествию ведётся следствие для привлечения виновных к уголовной ответственности. Проведено партийное собрание, на котором явные виновники, в том числе САБЛИН, исключены из рядов КПСС. Экипаж корабля расформирован, корабль передан новому экипажу. БПК «Сторожевой» находится в строю, оружие и технические средства в исправности. На флоте приняты меры к исключению утечки информации.
Председатель комиссии
Адмирал Флота Советского Союза С. Горшков
Члены комиссии:
Генерал армии А. Епишев
Вице-адмирал П. Навойцев
Генерал-лейтенант С. Романов
Контр-адмирал В. Сабанеев
Генерал-майор Ю. Любанский
Контр-адмирал М. Гуляев.
17 ноября 1975 года.
Из магнитофонной расшифровки следственными органами КГБ:
«ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
Говорит большой противолодочный корабль „Сторожевой“. Мы не предатели Родины и не авантюристы, ищущие известности любыми средствами. Назрела крайняя необходимость открыто поставить ряд вопросов о политическом, социальном и экономическом развитии нашей страны, о будущем нашего народа, требующих коллективного, именно всенародного, обсуждения без давления со стороны государственных и партийных органов. Мы решились на данное выступление с ясным пониманием ответственности за судьбу Родины, с чувством горячего желания добиться коммунистических отношений в нашем обществе. Но мы также сознаём опасность быть уничтоженными физически или в моральном смысле соответствующими органами государства или наёмными лицами. Поэтому мы обращаемся за поддержкой ко всем честным людям нашей страны и за рубежом. И если в указанное нами время, день, в 21.30 по московскому времени, на экранах ваших телевизоров не появится один из представителей нашего корабля, просьба не выходить на следующий день на работу и продолжать эту телевизионную забастовку до тех пор, пока правительство не откажется от грубого попрания свободы слова и пока не состоится наша с вами встреча.
Поддержите нас, товарищи! До свидания»,
Радиотелеграфист от себя добавил: «Прощайте, братишки!..»
Любимая поговорка Валерия Саблина: «Ничто не вышибет нас из седла». Его любимая песня — «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно…»
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
(Из Особой папки ЦК КПСС)
Комитетом госбезопасности заканчивается расследование уголовного дела по обвинению капитана III ранга САБЛИНА В.М. и других военнослужащих — участников преступной акции 8–9 ноября 1975 г. на большом противолодочном корабле «Сторожевой» (всего 14 человек).
Установлено, что организатор этого преступления САБЛИН, подпав под влияние ревизионистской идеологии, на протяжении ряда лет вынашивал враждебные взгляды на советскую действительность. В апреле 1975 г. он, сформулировав их в письменном виде, записал на магнитофонную ленту и во время событий на «Сторожевом» выступил с записанной речью перед личным составом. Политическая «платформа» САБЛИНА включала набор заимствованных из буржуазной пропаганды клеветнических утверждений об «устарелости марксизма-ленинизма», о «бюрократическом перерождении» государственного и партийного аппарата СССР и призывы к отстранению КПСС от руководства обществом, к созданию новой, «более прогрессивной» партии.
Весной 1975 г. он разработал детальный план захвата военного корабля, который намеревался использовать как «политическую трибуну» для выдвижения требований об изменении государственного строя в СССР и борьбы с Советской властью.
Готовясь к реализации этого плана, САБЛИН изучал настроения членов экипажа, приближал к себе отдельных военнослужащих, обрабатывал их в духе негативного отношения к советской действительности, однако, как установлено следствием, найти единомышленников и создать на корабле антисоветскую группу ему не удалось. Лишь за три дня до событий САБЛИН посвятил в свои преступные замыслы матроса ШЕИНА А.Н., заручился его поддержкой и передал для распространения магнитную ленту с речью антисоветского содержания.
ШЕИН до призыва на военную службу привлекался к уголовной ответственности за участие в хищении, в период службы имел 13 дисциплинарных взысканий, допускал политически нездоровые суждения.
Во время событий на «Сторожевом» ШЕИН, получив от САБЛИНА пистолет, оказал ему содействие в аресте командира корабля, принял участие в изоляции и охране офицеров и мичманов, отказавшихся поддержать САБЛИНА, противодействовал попыткам отдельных членов экипажа освободить командира и арестовать САБЛИНА, нанёс при этом телесные повреждения старшине КОПЫЛОВУ.
В целях вовлечения части экипажа в противоправные действия по захвату «Сторожевого» САБЛИН использовал своё служебное положение заместителя командира по политчасти, а для маскировки враждебных намерений прибёг к изощрённым демагогическим заявлениям, сопровождая их цитатами из произведений классиков марксизма-ленинизма.
В результате преступных действий САБЛИНА «Сторожевой» был самовольно угнан из Рижского залива за пределы советских территориальных вод в сторону Швеции (на 21 милю). Неоднократные и категорические требования командования о возвращении корабля в порт САБЛИН игнорировал. Только решительными мерами командования «Сторожевой» при участии членов экипажа был остановлен и возвращён на базу. Таким образом, большой противолодочный корабль на 16 часов был выведен из боевого состава Военно-Морского Флота.
На основании полученных в ходе следствия доказательств преступные действия САБЛИНА квалифицированы как изменнические, совершённые умышленно в целях подрыва существующего в СССР строя и в ущерб военной мощи нашей страны, а преступление ШЕИНА — как пособничество в измене Родине.
Остальные обвиняемые: лейтенанты ВАВИЛКИН В.И. и ДУДНИК В.К., мичманы БОРОДАЙ В.М., ВЕЛИЧКО В.Г., ГОМЕНЧУК А.А., КАЛИНИЧЕВ В.А. и ХОМЯКОВ А.Т., старшина СКИДАНОВ А.В., матросы АВЕРИН В.Н., БУРОВ М.М., САЛИВОНЧИК Н.Ф. и САХНЕВИЧ Г.В. — молодые люди в возрасте 20–23 лет, не имеющие ещё достаточного жизненного опыта и политической закалки, были спровоцированы и введены в заблуждение САБЛИНЫМ. О его изменнических замыслах они не знали, однако, поддержав действия САБЛИНА, по существу способствовали ему в реализации преступного плана захвата корабля. Некоторые из них ещё на первоначальном этапе отказались от поддержки САБЛИНА и были им изолированы. Из материалов следствия усматривается, что умысла изменить Родине они не имели, в связи с неожиданностью и скоротечностью событий своевременно не разобрались во враждебной направленности намерений САБЛИНА и не смогли их правильно оценить.
На допросах указанные обвиняемые дали исчерпывающие показания о совершённых правонарушениях, глубоко раскаиваются в содеянном и осуждают преступную авантюру САБЛИНА. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались.
Действия этой группы обвиняемых подлежат квалификации как воинские преступления.
С учётом установленных обстоятельств и причин чрезвычайного происшествия на ВПК «Сторожевой» считаем целесообразным уголовное дело на САБЛИНА и ШЕИНА по обвинению в измене Родине направить на рассмотрение Военной коллегии Верховного суда СССР.
Остальных 12 обвиняемых, совершивших воинские преступления, в соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 28 марта 1958 г. и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 марта 1958 г. и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1973 г., регламентирующими вопросы привлечения военнослужащих к уголовной ответственности, суду не предавать, дела на них прекратить, строго наказать в дисциплинарном порядке властью министра обороны СССР.
Просим рассмотреть.
Проект постановления ЦК КПСС прилагается.
Ю. АНДРОПОВ А. ГРЕЧКО Р. РУДЕНКО Л. СМИРНОВ.
18 февраля 1976 года.
«ПРИГОВОР
Именем Союза Советских Социалистических Республик
13 июля 1976 г.
г. Москва
Военная коллегия Верховного суда СССР в составе: председательствующего генерал-майора юстиции БУШУЕВА Г.И. и народных заседателей: генерал-лейтенанта-инженера ЦЫГАНКОВА И.С., генерал-майора инженерных войск КОЗЛОВА Б.В. при секретарях: полковнике административной службы Афанасьеве М.В. и служащем Советской Армии Кузнецове В.С. с участием государственного обвинителя — старшего помощника Главного военного прокурора генерал-майора юстиции Шантурова В.С. и защитников — адвокатов Аксёнова Л.В. и Попова Л.М. рассмотрела в закрытом судебном заседании в помещении Верховного суда СССР уголовное дело по обвинению военнослужащих:
1. Капитана III ранга Саблина Валерия Михайловича, родившегося 1 января 1939 года в городе Ленинграде, русского, исключённого из членов КПСС в связи с данным делом, имеющего высшее образование, женатого, ранее не судимого, на службе в Военно-Морском Флоте СССР с июля 1956 года, — в совершении преступления, предусмотренного пунктом „а“ статьи 64 УК РСФСР.
2. Матроса Шеина Александра Николаевича, родившегося 7 марта 1955 года в городе Рубцовске Алтайского края, русского, исключённого из членов ВЛКСМ в связи с данным делом, с образованием 10 классов, холостого, не имеющего судимости, на службу в Военно-Морской Флот СССР призванного в мае 1973 года, — в совершении преступления, предусмотренного ст. 17 и пунктом „а“ ст. 64 УК РСФСР.
При назначении Шеину наказания суд, принимая во внимание признание им своей вины и раскаяние в содеянном, что преступление он совершил под влиянием Саблина, который был его начальником, а также степень и характер его участия в совершении преступления, находит возможным применить к нему ст. 43 УК РСФСР и не применять ссылку.
В отношении Саблина, учитывая исключительную опасность совершённого им преступления, суд считает необходимым применить исключительную меру наказания, предусмотренную законом, хотя в судебном заседании Саблин полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, имеет на иждивении ребёнка, а за время военной службы неоднократно поощрялся.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 44 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик, ст. ст. 301–303, 312–315 и 317 УПК РСФСР, Военная коллегия Верховного суда Союза ССР
приговорила:
Саблина Валерия Михайловича признать виновным в измене Родине, т.е. в совершении преступления, предусмотренного пунктом „а“ ст. 64 УК РСФСР, и на основании этого уголовного закона подвергнуть его смертной казни — расстрелу без конфискации имущества за отсутствием такового.
На основании ст. 36 УК РСФСР Саблина В.М. лишить воинского звания „капитан III ранга“. Внести представление в Президиум Верховного Совета СССР о лишении Саблина В.М. ордена „За службу Родине в Вооружённых Силах СССР“ III степени и медалей „За воинскую доблесть“, „В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина“, „50 лет Вооружённых Сил СССР“, „20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.“, а также министру обороны СССР о лишении Саблина В.М. медалей „За безупречную службу в Вооружённых Силах СССР“ II и III степени.
Шеина Александра Николаевича признать виновным в соучастии в измене Родине (в качестве пособника), т.е. в совершении преступления, предусмотренного ст. 17 и пунктом „а“ ст. 64 УК РСФСР, и на основании этого уголовного закона, с применением ст. 43 УК РСФСР, лишить его свободы сроком на 8 (восемь) лет, из которых первые два года содержать в тюрьме, а остальной срок — в исправительно-трудовой колонии строгого режима, без ссылки и без конфискации имущества за отсутствием такого.
Начальный срок отбытия Шеиным А.Н. наказания, с зачётом предварительного заключения, исчислять с 9 ноября 1975 года.
Вещественные доказательства, перечисленные в том 39 лд, 211 (в части первой пункта 6) — оставить при деле, перечисленные в томе 39 лд. 211–212 (часть 2 пункта 6) — возвратить по принадлежности в воинские части: два пистолета и две обоймы, переданные на хранение в войсковую часть 49358, возвратить по принадлежности в воинскую часть.
Судебные издержки на общую сумму 243 рубля 10 коп. распределить следующим образом: взыскать с Шеина Александра Николаевича в доход государству 186 (сто восемьдесят шесть) рублей 50 копеек; остальную сумму (56 руб. 60 коп.) — принять на счёт государства.
Приговор обжалованию и опротестованию в кассационном порядке не подлежит.
ВЕРНО: Судебный секретарь Военной коллегии Верховного суда СССР».
«ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Об отклонении ходатайства о помиловании Саблина В.М., осуждённого к смертной казни
Рассмотрев ходатайство о помиловании Саблина В.М., осуждённого к смертной казни, предложения в связи с этим Прокуратуры СССР и Верховного суда СССР, ввиду исключительной тяжести совершённого им преступления, Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
Отклонить ходатайство о помиловании САБЛИНА Валерия Михайловича, рожд. 1939 года, уроженца гор. Ленинграда.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
(Н. Подгорный)
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
(М. Георгадзе)
Москва. Кремль. 2 августа 1976 г.
№ 4305 — IX».
8 ноября 1975 г., 18.00 — ужин на «Сторожевом». Затем начало показа первого кинофильма в столовой личного состава.
19.00 — визит Саблина к командиру. Сообщает о ЧП.
19.10 — оба спускаются в носовые выгородки. Саблин запирает командира в каюте.
19.20 — матросы Шеин и Аверин подпирают люк запертого командира раздвижным упором (2-й БП РТС).
19.30 — выступление Саблина перед офицерами. Голосование шашками в мичманской кают-компании.
19.45 — арест офицеров.
20.00 — начало показа второго фильма «Броненосец „Потёмкин“».
22.10 — сигнал «Большой сбор». Построение экипажа на юте. Выступление Саблина перед матросами. В это же время матросы Копылов и Набиев пытаются обезоружить матроса Шеина во 2-м тамбуре.
22.50 — попытка лейтенантов Степанова, Саитова и мичмана Ковальченкова арестовать Саблина в каюте лейтенанта Саитова и офицерском коридоре.
22.00–22.30 — старший лейтенант Фирсов покидает корабль и перебирается на подводную лодку.
23.00 — Фирсов на берегу, в Риге. На «Сторожевом» начато экстренное приготовление корабля к бою и походу. «Сторожевой» снимается с якорной бочки и выходит в Даугаву.
00.00 — Фирсов у дежурного по штабу Рижской военно-морской базы.
9 ноября, 1.30–1.40 — оперативный дежурный штаба Балтийского флота сообщает Косову о самовольном уходе «Сторожевого» из Риги.
1.40–1.50 — вице-адмирал Косов прибывает на командный пункт Балтийского флота.
2.00–2.30 — Косов докладывает Главкому ВМФ Адмиралу Флота Советского Союза С. Горшкову о ЧП на «Сторожевом».
2.30 — Косов выходит на связь с Саблиным (до выхода корабля в залив).
4.00 — Адмирал Флота С. Горшков ведёт разговор с Саблиным по радиотелефону.
5.00 — министр обороны Маршал Советского Союза А.А. Гречко ведёт разговор с Саблиным по радиотелефону.
5.00–6.00 — корабли под командованием капитана 1-го ранга Бобракова выходят из Лиепаи на перехват «Сторожевого».
6.00 — поднята в воздух разведывательная авиация Балтийского флота. Доклад: в пятне нанесения удара 15–18 судов, не считая малых рыболовецких сейнеров.
6.30 — подняты в воздух армейские бомбардировщики.
7.00 — подняты ракетоносцы из Белоруссии (с аэродрома «Быково»).
8.00 — транспортный отцеп ракет. Появление пограничных катеров. Попытка передать в эфир воззвание: «Всем! Всем! Всем!»
9.40 — матросы Лыков, Набиев, старшина 2-й статьи Станкявичус освобождают запертых офицеров.
10.00 — матросы Лыков и Борисов взламывают люк 2-го поста РТС и освобождают командира Потульного. Раздача оружия.
10.09 — пограничные катера уходят.
10.20–10.32 — облёты самолётов. Обстрел. Арест Саблина.
Первый корабль, который носил имя «Сторожевой», входил в состав Порт-артурской эскадры. До декабря 1904 года им командовал лейтенант Лукин, затем лейтенант Непенин. Миноносец «Сторожевой» принимал активное участие в морской обороне Порт-Артура и был подорван и затоплен при сдаче крепости японцам 2 января 1905 года.
Второй корабль, унаследовавший это имя, был построен на Балтике и принимал активное участие в Первой мировой войне под командованием капитана 2-го ранга Коптева 2-го. В Гражданскую войну корабль ходил под красным флагом. Разобран на металл в конце 1925 года.
Третий «Сторожевой» заложен в 1936 году. В 1940 году вошёл в состав Краснознамённого Балтийского флота. Участвовал в обороне Ленинграда и Рижского залива. Потоплен в Ирбенском проливе немецкими самолётами в 1941 году.
Четвёртый «Сторожевой» был построен на Калининградском судостроительном объединении «Янтарь». Переведён из класса сторожевых кораблей в большие противолодочные в 1972 году. Корабль 2-го ранга. Многоцелевой. Главное назначение — поиск и уничтожение подводных лодок, охранение больших кораблей в составе ударных корабельных группировок. Может ставить мины, высаживать десанты.
Его основные тактико-технические данные:
Водоизмещение — 3800 т
Длина — 123 м
Ширина — 14 м
Осадка — 4,5 м
Скорость — 30 узлов
Экипаж — 250 человек.
БПК вооружён зенитным ракетным комплексом, башенными артустановками, реактивными противолодочными бомбомётами.
Район плавания не ограничен.
Старинная казачья фамилия Саблиных на флоте прижилась давно и прочно. На царской яхте «Штандарт» служили сразу двое Саблиных — не родственников, однофамильцев, тёзок и ровесников: Николай Васильевич Саблин и Николай Павлович Саблин.
Первый — Николай Васильевич, родившийся в 1880 году, окончил Морской корпус в 1901 году (за 60 лет до выпуска из него Валерия Саблина). Служил на эскадренном броненосце «Ретвизан», участвовал в обороне Порт-Артура. Потом был начальником Сатакундской флотилии. Был зачислен в Гвардейский экипаж. Революцию встретил в чине капитана 2-го ранга.
Эмигрировал в Румынию. Жил в Бухаресте. В 1928 году вступил в Кружок офицеров российского императорского флота и вскоре возглавил его. Сотрудничал с парижским журналом «Военная быль», публиковался в «Морском журнале», во многих эмигрантских газетах. Написал воспоминания «Эскадренный броненосец „Ретвизан“» и «Десять лет на императорской яхте „Штандарт“».
В 1945 году с вступлением советских войск в Румынию был арестован и депортирован в СССР, отбывал свой срок в Джезказгане (Казахстан). Ввиду тяжёлой болезни был передан румынским властям в 1955 году. Но через три года был арестован румынскими «чекистами» и приговорён к 28 годам заключения. Умер в тюрьме города Деж 20 января 1962 года в возрасте 82 лет.
Интересно, что Николай Васильевич Саблин приходился родным дядей Любови Евгеньевне Белозёрской, второй жене Михаила Булгакова. Именно ей посвящены «Белая гвардия», «Бег» и «Собачье сердце».
Судьба второго Николая Саблина — Павловича, была более милостивой, если не считать, что жизненный путь его оборвался в 57 лет. Капитан 1-го ранга Саблин был лицом приближённым к императору, его часто приглашали на обед, семейные прогулки и вечера.
Скончался он в Париже 21 августа 1937 года и погребён на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. По всей вероятности, полковник лейб-гвардии Конной артиллерии Александр Павлович Саблин приходился ему братом. Он также окончил свои дни в Париже в 1961 году.
В «Морском биографическом словаре» имя Валерия Саблина мы не найдём (хотя его кумир — лейтенант Шмидт — представлен, как подобает герою Отечества). Но мы обнаружим в этом авторитетном издании двух других Саблиных — одного контр-адмирала, отнесённого советскими историками к «белогвардейцам», другого — Героя Социалистического Труда, капитана мощного землесоса «Северо-Западный-14».
Контр-адмирал Михаил Павлович Саблин принял Черноморский флот от вице-адмирала Колчака в лихолетье 1917 года. Он также питомец Морского корпуса (выпуска 1890 года), участвовал в русско-китайской и русско-японских войнах, командовал миноносцем «Завидный», канонерской лодкой «Донец». Цусимское сражение принял на борту миноносца «Бравый», который в числе немногих кораблей смог прорваться во Владивосток. В 1912 году получил в командование линейный корабль «Ростислав» на Черноморском флоте. В годы Первой мировой войны командовал 2-й бригадой линкоров на Чёрном море, был награждён многими боевыми орденами и золотым оружием.
Умер он от рака печени 17 октября 1920 года в Ялте и погребён в Севастополе — в усыпальнице знаменитых адмиралов. Однако с приходом в Крым Красной армии адмиральская усыпальница в нижнем храме Свято-Владимирского собора была уничтожена.
Саблин Пётр Петрович, углубитель морей и каналов, окончил в 1970 году Горьковский институт инженеров водного транспорта, в котором преподавал в то время отец Валерия Саблина — Михаил Петрович Саблин.
И, наконец, ещё один Саблин — Юрий Борисович, капитан 2-го ранга, погибший на «Курске». Он родом из Севастополя, родился в 1966 году в семье офицера-подводника. Сам стал подводником — командиром электромеханической боевой части новейшего атомного подводного крейсера. Писал стихи. В том числе и эти, пророческие:
Эти строки вполне могли бы стать эпитафией и морякам «Курска», и Валерию Саблину.
Есть нечто мистическое в том, что спустя 20 лет после мятежа судовой колокол «Сторожевого» перелетел (его доставили авиарейсом) с Тихого океана в Москву и занял своё место в бывшем Музее Октябрьской революции, ныне Музее политической истории. Но не это самое удивительное. Поразительно то, что в 1996 году в Москву привели боевой корабль одного проекта со «Сторожёвым». Его купил некий частный предприниматель, чтобы поставить на вечную стоянку в Тушинском затоне. Это мог быть любой иной корабль — тральщик, эсминец, малый противолодочный корабль — покупателю всё равно. Но всё же пришёл именно стальной собрат «Сторожевого». Стоит уже который год. Конечно, не крейсер «Аврора». Но на размышления наводит…
Прошло уже полвека с того дня, точнее, с той роковой ночи, когда на внутреннем рейде Севастополя под днищем линкора «Новороссийск» прогремел чудовищный взрыв. А два часа сорок пять минут спустя огромный корабль опрокинулся, заживо похоронив в своих подпалубных помещениях десятки людей. Всего за одну ночь погибли свыше шестисот моряков.
«Сегодня существует много версий подрыва линкора „Новороссийск“, — пишет председатель совета ветеранов „Новороссийска“ Юрий Лепехов. — Версий будет меньше, если учёные рассчитают, а главное, официально обнародуют, какое количество взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте было необходимо для образования пробоины свыше 150 кв. м, повреждения киля корабля и всех палуб — 1–1,2 тыс. кг или 4–6 тыс. кг. То, что при таком повреждении и такой конструкции гибель корабля была неминуема, доказали не только расчёты, но и сама судьба линкора».
Трагедия «Новороссийска» — в большом количестве человеческих жертв. Погибли более 600 человек «Непосредственно от взрыва погибли не более 50–60 человек, — утверждает профессор Н.П. Муру. — Примерно столько же погибло от быстрого затопления носовых отсеков. Гибель более 500 человек ничем не оправдана и лежит на совести командования флотом».
В своих официальных выводах комиссия по расследованию гибели линкора «Новороссийск» не исключала возможности диверсии. Но чьей диверсии? Об этом в итоговом документе не говорилось ни слова. Но моряки — весь флот, от матросов до адмиралов, — разделились в своих мнениях как бы на два лагеря. Одни верили в невытраленную мину и приводили довольно веские аргументы. Другие — их гораздо больше — отстаивали, и не менее убедительно, версию проникновения в севастопольскую бухту итальянских подводных диверсантов. Сторонниками этой, второй, гипотезы были многие весьма авторитетные в морском деле специалисты. Назову лишь некоторых — это главнокомандующий ВМФ СССР в 1950-е годы Адмирал Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов, выдающийся эпроновец, лауреат Государственной премии инженер-контр-адмирал Н.П. Чикер, замечательный историк-кораблевед капитан 1-го ранга в отставке Н.А. Залесский (к слову сказать, отрицавший диверсию на линкоре «Императрица Мария»). В том, что взрыв «Новороссийска» — дело рук боевых пловцов, был убеждён и исполнявший обязанности командира линкора капитан 2-го ранга Г.Л. Хуршудов, а также многие здравствующие ныне офицеры «Новороссийска», работники особого отдела, специалисты-подводники.
В Севастополе на читательской конференции, посвящённой моей повести «К стопам скорбящего матроса», я получил из зала и такую записку: «Н.А., знаете ли вы, что вскоре после взрыва „Новороссийска“ в устье Чёрной речки был найден труп аквалангиста?»
К этой записке я отнёсся лишь как к реплике из зала, не более того. Это не выписка из протокола осмотра места происшествия, это, строго говоря, не документ. Может быть, и в самом деле нашли труп, но не аквалангиста, а обычного купальщика. Ну, пусть аквалангиста, но советского, нашего.
Предположим как нечто очень маловероятное: в устье Чёрной речки, впадающей в Северную бухту, в самом деле нашли труп итальянского боевого пловца. Даже если так, то подобный факт мог быть зафиксирован лишь в очень секретных документах; он вообще мог никак не фигурировать в работе правительственной комиссии, дабы не ломать очень удобную версию со старой немецкой миной.
Принимать всерьёз эту записку было нельзя. Но она подсказала направление мысли. А почему, собственно, мы считаем, что диверсионный удар по линкору был нанесён со стороны моря? Как бы плохо ни охранялась база, она всё же охранялась, и те, кто планировал операцию, не могли сбрасывать со счетов и дозорные корабли, и гидроакустические вахты. Определённый риск был. Если бы советский сторожевик обнаружил иностранную подводную лодку, пусть далее и «карликовую», у входа в главную базу флота — это более чем международный скандал.
Есть и второе соображение. Отсюда, то есть от устья Чёрной речки, до штатной якорной бочки линкора в бухте Голландия гораздо ближе, чем от боновых ворот. И если «Новороссийск» в роковую ночь всё же стоял не на своей бочке (ближе к морю, дальше от Чёрной речки), то эта случайность и в самом деле могла стоить жизни аквалангисту, вынужденному преодолевать под водой (даже с помощью аквабота) расстояние почти вдвое больше расчётного. Итак, выбор направления удара со стороны устья Чёрной речки мог быть сделан исходя из большей неожиданности и меньшего расстояния до цели. Наконец, есть и третье обстоятельство, весьма благоприятствовавшее диверсии. В устье Чёрной речки расположена судоразделочная база Вторчермета, куда стаскивают отслужившие свой срок корабли. Одни ещё держатся на плаву, другие — полузатопленные — разбросаны по всей акватории базы. Корпус любого из них мог послужить подводным диверсантам идеальной точкой старта, временным убежищем, складом, наблюдательным пунктом. Ведь именно так или почти так итальянские боевые пловцы провели свою операцию против английских кораблей в Гибралтаре.
В 1942 году итальянские подводные диверсанты обосновались в трюмах генуэзского танкера «Ольтерра», интернированного в испанском порту Альхесирас. Танкер, притопленный на мелководье, стоял в виду рейда морской крепости Гибралтар — главной базы английского флота в годы Второй мировой войны в Атлантике. В борту «Ольтерры» был проделан подводный выход, через который боевые пловцы отправлялись в свои рейды. Они минировали английские корабли и возвращались на «Ольтерру». где, стянув гидрокомбинезоны, снова превращались в скучающих торговых моряков. Англичане так и не смогли разгадать тайну «Ольтерры» до конца войны, хотя, как пишет Боргезе, «Альхесирас кишел английскими агентами, а „Ольтерра“ была ошвартована прямо под окнами английского консульства, битком набитого морскими офицерами из „Интеллидженс сервис“».
1942 год и год 1955-й. Их разделяет всего тринадцать лет. Ещё полон сил и политической энергии «чёрный князь» Боргезе, шеф 10-й флотилии подводных диверсантов. Во всеоружии и сама флотилия, не расформированная, как требовали того условия мирного договора 1947 года, а преобразованная в Центр подготовки подводных пловцов — диверсантов итальянских ВМС. С 1952 года по 1959 год Центр этот возглавлял не кто иной, как капитан 1-го ранга Джино Биринделли, верный сподвижник Боргезе по 10-й флотилии МАС. В 1940 году он командовал группой пловцов-диверсантов в операции против английских линкоров в Александрии. Чуть позже действовал в Гибралтаре. Кстати, любопытное совпадение: именно Биринделли обучался вместе с товарищами подводному минированию, подплывая по ночам к линкору «Джулио Чезаре» (будущему «Новороссийску»). Так что опыт «Ольтерры» и дивизиона «Большой Медведицы» (так называлась группа, действовавшая с танкера против Гибралтара) стоял перед глазами руководителя Центра подводных диверсий.
Итак, если представить, что на одном из притопленных кораблей Вторчермета было устроено нечто вроде тайника на «Ольтерре», то возникает резонный вопрос каким образом проникли боевые пловцы в тыл севастопольской базы и как доставили они туда взрывчатку и снаряжение?
За ответом придётся вернуться в 1942 год. В то время, когда люди-лягушки из дивизиона «Большой Медведицы» готовились к подводным атакам на гибралтарском рейде, под Севастополь прибыла внушительная колонна автотягачей и крытых фургонов. «ВМС Италии, — пишет В. Боргезе, — идя навстречу желанию союзников, отправили в Чёрное море флотилию катеров МАС под командованием капитана 1-го ранга Мимбелли и несколько карманных подводных лодок типа СВ. Эти корабли с честью выполнили поставленные задачи (один катер потопил русский крейсер, а малютки СВ — две русские подводные лодки)… Мы решили перебазировать в Чёрное море группу торпедных и взрывающихся катеров с задачей организовать постоянное патрулирование на подступах к Севастополю».
Начальником «севастопольского отряда диверсионных сил» был назначен капитан 3-го ранга Альдо Ленци. «Храбрый офицер, — характеризует его Боргезе, — всегда спокойный и весёлый, неутомимый на службе, любитель красивых вещей и комфорта в часы отдыха, оптимист по натуре. Ленци взялся за это новое для него да и вообще для любого моряка дело с энтузиазмом… Наконец 22 мая (1942 года. — Н.Ч.) колонна прибыла к месту назначения в Форос — очаровательный городок, расположенный на прекрасном Южном побережье Крыма, недалеко от Балаклавы и к югу от Севастополя. Здесь наша группа раскинула палатки под сенью ореховых деревьев. Прежде всего мы продолжили рельсовый путь и соорудили деревянный слип, чтобы доставить наши штурмовые средства к берегу моря и спустить на воду».
Следы этого слипа до недавних пор можно было отыскать в Форосе. Штурмовые катера итальянцев поджидали свои морские жертвы, укрывшись под каменной стеной мыса Айя. Это удивительнейшее по своей могучей красе место. Горы здесь вступают в море складками эдакого гигантского каменного драпри. (В них-то и прятались катера.) Кое-где скалы обрушиваются в воду идеально ровными высоченными стенами. Их можно принять за остатки каких-то древних — времён египетских пирамид — гидротехнических сооружений, возведённых внеземными цивилизациями. Слишком уж высоки и гладки их стёсы, слишком уж хитроумно запрятаны в них гроты, проникнуть в которые можно лишь из-под воды.
Автору этих строк доводилось плавать с аквалангом у подводного подножия этих глухих с виду стен. Я погружался с мыслью о том, что здесь, на этих каменных ступенях, в этих расщелинах и гротах, вполне могут остаться следы пребывания людей Ленци, ничуть не подозревая, что это предположение двадцатью годами раньше уже было проверено здесь контрразведкой Черноморского флота.
Бывший сотрудник флотской контрразведки Евгений Борисович Мельничук рассказал мне позже, что это по его инициативе в 1970-е годы аквалангисты обследовали подводные пещеры мыса Айя в поисках тайных складов итальянских диверсантов. Известно, что немецкие и итальянские боевые пловцы, покидая гавани, занимаемые противником, оставляли в бетонных массивах молов, причалов и прочих портовых сооружений хорошо скрытые склады взрывчатки, баллонов с кислородом и т.п. Всё это делалось для обеспечения будущих операций. Так было в Кальяри (остров Сардиния), в Штеттине (ныне Щецин) и в других местах. Так что в существовании такой секретной базы и под Севастополем нет ничего невероятного. Жаль, что обследование подводных гротов мыса Айя было, насколько я смог понять со слов Мельничука, весьма непродолжительным и, конечно же, запоздалым.
Даже если такой склад и не был устроен, то всё необходимое оборудование наследники ластоногих бойцов Ленци—Боргезе могли получить с борта проходящего мимо крымских берегов какого-либо торгового итальянского судна. Да и сами могли быть высажены с него. Ведь проходил же 28 октября 1955 года в тридцати милях от мыса Айя итальянский сухогруз. Он шёл из Босфора в Азовское море…
Доставить ящики с подводными аппаратами, со всем, что надо для подобного дела, на территорию судоразделочной базы Вторчермета не представляло в те годы особой сложности. Рядом, по берегу Чёрной речки, проходят железная дорога, шоссе… К тому же кладбище старых кораблей — это не режимный объект. Под видом газорезчиков можно было легко проникнуть даже с транспортировочными ящиками на любое предназначенное к слому судно. Во всяком случае, в годы войны специалисты из флотилии МАС умудрялись провозить свои разобранные на части торпеды даже через государственные границы нейтральных стран как «садовый инвентарь» или запасные детали для судовых машин.
Евгений Борисович Мельничук, невольный свидетель гибели линкора, все эти годы пытается раскрыть тайну «Новороссийска». И делает он это не по долгу службы («Новороссийское» дело давно закрыто), а по велению сердца. В оные годы даже рисковал навлечь на себя неудовольствие начальства: мол, ставит под сомнение выводы правительственной комиссии.
Я познакомил его с чернореченской версией. Он нашёл её вполне вероятной. И высказал своё предположение: Чёрная речка могла быть выбрана и как путь наиболее безопасного отхода после установки мины под днищем линкора.
Было всё именно так или иначе, да и было ли вообще — вопросы эти пока надолго останутся без ответов. Я не думаю, что в итальянских архивах хранятся какие-либо документы, проливающие свет на взрыв под днищем «Новороссийска». Подобная акция могла быть проведена, скорее всего, как частное дело «группы патриотов», располагающих достаточными средствами как для покупки «карманной подводной лодки», так и для фрахта торгового судна. Хотя, разумеется, не без ведома, а то и при прямом содействии спецслужб. Той же СИФАР, например, — разведывательной службы вооружённых сил Италии — или в сотрудничестве с ЦРУ. Наводит на размышление и то, что летом 1955 года, за четыре месяца до взрыва на севастопольском внутреннем рейде, министром внутренних дел Италии был назначен бывший высокопоставленный сотрудник фашистской милиции Фернандо Тамброни. Тамброни весьма чутко относился к советам тогдашнего шефа ЦРУ в Италии Роберто Дрисколла. Благоприятствовала проведению диверсантской вылазки и внутриполитическая обстановка в нашей стране — весьма смутная, с острой, хотя и скрытой борьбой группировок в высших сферах власти. Всё это сказывалось на жизненном тонусе государства.
То, что итальянская версия гибели «Новороссийска» принималась главным командованием ВМФ всерьёз, доказывает, пожалуй, и тот факт, что вскоре после взрыва линкора все бывшие итальянские корабли, состоявшие в Черноморском флоте (крейсер «Керчь», четыре эсминца, подводная лодка), были выведены из боевого состава и отправлены на резку. Надо полагать потому, чтобы не провоцировать новых диверсий. И если кому-то из наших адмиралов до октября 1955-го подводные диверсанты казались лишь персонажами приключенческих книг, то с того же, чёрного года, и по наши дни на всех кораблях нашего Военно-Морского Флота, где бы они ни стояли — у родного причала или на якоре в нейтральных водах — каждую ночь несётся вахта ПДСС — противодиверсионных сил и средств. Каждую ночь матросы-автоматчики в стальных касках вглядываются в чёрную воду у бортов кораблей. Это своего рода вахта памяти «Новороссийска».
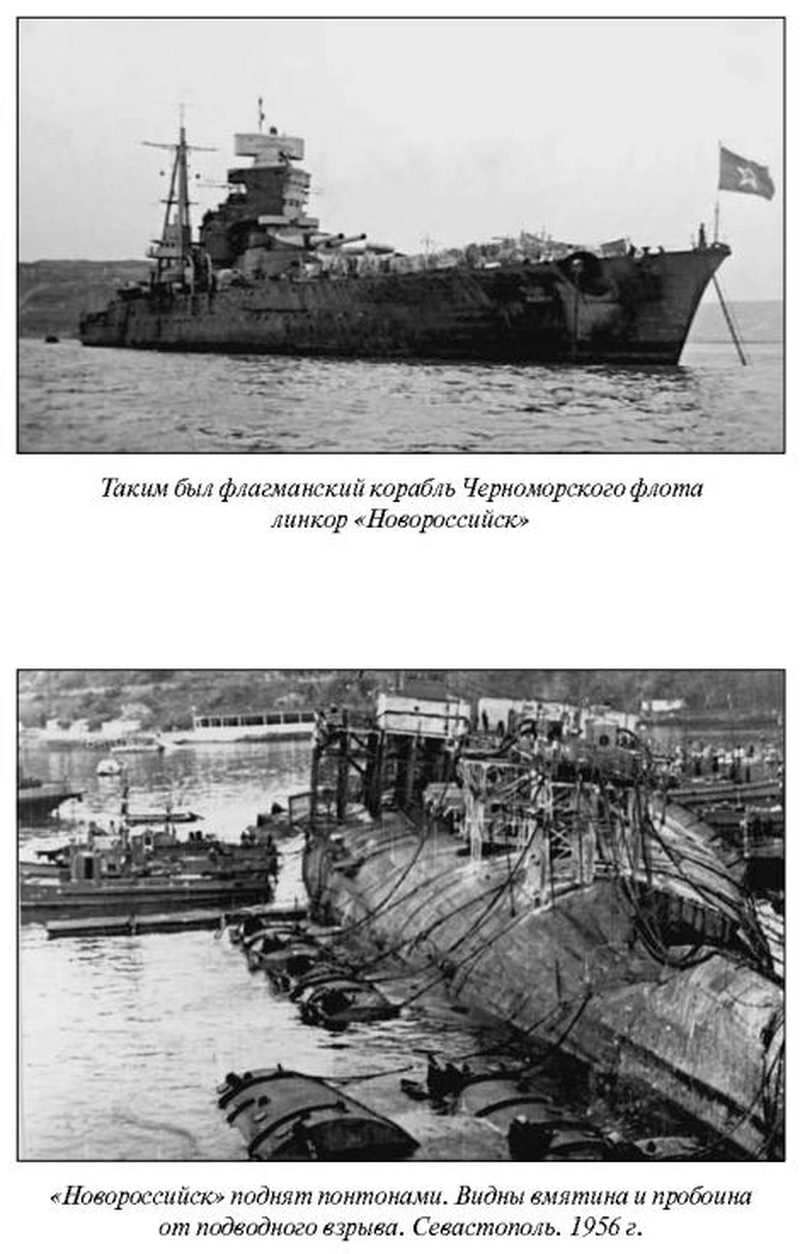
29 октября 1999 г. на страницах «Независимого военного обозрения» впервые был опубликован краткий газетный вариант новой версии: «Суэц и Портсмут в судьбе „Новороссийска“». В ней высказывалось предположение о том, что флагман Черноморского флота стал жертвой ближневосточной политики Советского Союза.
«…Каковы были мотивы этого акта прямой военной агрессии? И почему диверсия произошла именно 29 октября 1955 г.?
По нашему мнению, ответы на эти вопросы можно найти в истории Суэцкого канала. Как известно, канал официально открылся для судоходства 17 ноября 1869 г. Международные правила эксплуатации канала, прохода судов и кораблей и их международные гарантии определила многосторонняя Конвенция, которую заключили 29 октября 1888 г. в Константинополе Великобритания, Франция, Россия, Австро-Венгрия, Германия, Голландия, Испания, Италия и Турция.
Концессия на эксплуатацию канала до 17 ноября 1968 г. принадлежала „Всеобщей компании Суэцкого канала“, где 44% акций находилось в руках правительства Великобритании, купившего в 1875 г. у Египта за 100 млн. франков все его акции.
В 1955 г. через канал прошли 14660 судов под флагами 48 стран. 65% всех прошедших судов составили танкеры. Полный грузооборот канала в 1955 г. равнялся 107,5 млн. тонн. Ещё в 1936 г., под предлогом защиты стратегических коммуникаций Британской империи, был заключён британско-египетский договор, закрепивший пребывание британских войск в зоне канала. Но в 1947 г. Египет внёс на рассмотрение Совета Безопасности ООН предложение о немедленной эвакуации британских войск из зоны Суэцкого канала. СССР поддержал это предложение, однако Совет Безопасности отложил обсуждение вопроса на неопределённое время. В 1951 г. парламент Египта отменил в одностороннем порядке британско-египетский договор 1936 г. В 1952 г. в Египте пал проанглийский монархический режим и была образована республика, начавшая искать контакты со странами социалистического лагеря. В ответ Великобритания способствовала приёму в НАТО Турции. В октябре 1954 г. в Каире был подписан англо-египетский договор, по которому Англия обязалась вывести свои войска из зоны канала до 19 октября 1956 г. Дальнейшие военно-политические события вокруг Суэцкого канала развивались стремительно. В феврале 1955 г. Великобритания инициировала создание военного союза „Багдадский пакт“, куда первоначально вошли Турция и Ирак. Англия вступила в „Багдадский пакт“ 4 апреля 1955 г. Это позволило ей установить двойной военный контроль над Черноморскими проливами — единственным путём для выхода СССР в Средиземное море.
14 мая 1955 г. в Варшаве был учреждён военный союз „Варшавский договор“, в который вошла и Албания, что создало реальную возможность для военно-морского присутствия СССР в Средиземном море. Советские корабли базировались в албанском порту Дуррес, в непосредственной близости от стратегической коммуникации Британской империи через Суэцкий канал!
В 1956–1961 гг. в портах Албании постоянно базировались 12 советских ударных дизельных подводных лодок и две плавбазы (40-я отдельная бригада ЧФ). В мае 1961 г. из-за разногласий в оценке „культа личности“ Сталина этой бригаде пришлось покинуть залив Влёра и уйти на Балтику. При этом Албания „приватизировала“ (захватила силой) четыре подлодки и одну плавбазу.
В течение всего 1955 г. Британия максимально форсировала расширение „Багдадского пакта“; в него вошли Пакистан и Иран. От вступления в этот пробританский союз отказались Сирия, Иордания, Индия и Афганистан. Таким образом, Великобритания планировала создать глобальный военный союз стран двух океанов — Атлантического и Индийского! По своим географическим масштабам он превзошёл бы даже НАТО! В свете этого факта становится более понятным значение визита Н.С. Хрущёва в Англию весной 1956 г.
В сентябре 1955 г. Египет в ответ на реальную военную угрозу со стороны Англии заключил соглашения с СССР, Чехословакией и Польшей о поставках Египту современного вооружения в обмен на хлопок и другую сельскохозяйственную продукцию.
11 июня 1956 г. зону Суэцкого канала покинул последний британский солдат. А уже в июле правительство Египта национализировало Суэцкий канал, что до предела накалило международные отношения, которые фактически балансировали на грани „большой“ войны».
Виктор Иванович, бывший артиллерист 7-й зенитной батареи линкора «Новороссийск», свидетельствует: «В октябре пятьдесят пятого я дослуживал четвёртый год. Сам уже молодых за кипятком на марс посылал. За неделю до взрыва линкор стоял в Донузлавском порту. В три часа ночи всю эскадру подняли по тревоге, и корабли срочно перешли в севастопольскую бухту. Говорили (в радиорубках, на командирском мостике и в офицерской кают-компании), что в Чёрном море обнаружили неизвестную подводную лодку. Вот и перевели нас под надёжную защиту».
Этот рассказ старого матроса свидетельствует о важнейших корабельных слухах (новостях) на флагмане Черноморского флота в 20-х числах октября 1955 года. Он подтверждает, что разведка и командование флота имели кое-какие сведения о развёртывании в Чёрном море иностранных подводных лодок в октябре 1955 года.
Более того, вся эскадра Черноморского флота была срочно переведена в главную базу, где предполагалось обеспечить, используя все силы и средства противолодочной обороны, гарантированную защиту от внезапной атаки подводных сил вероятного противника.
Однако перевод всей эскадры в бухту Севастополя в полной мере соответствовал замыслу диверсантов — одним ударом надолго вывести из «игры» Черноморский флот. В свете всего сказанного выше можно предполагать именно такой замысел операции адмиралтейства. Похоже, что тактическое ядерное оружие для отражения рейда 6-го флота США в Чёрное море грузили не только на линкор «Новороссийск». Похоже, что 6-й флот США готовился отражать возможную атаку линкоров и крейсеров Черноморского флота на Стамбул в День независимости Турции, который приходится на 29 октября 1955 года. Похоже, что именно британское адмиралтейство круто заварило всю эту «кашу», организовав шумное движение почти всех крупных надводных кораблей 6-го флота США для защиты Турции от агрессии СССР, якобы уже назначенной (по сообщениям «надёжных источников информации») на 29 октября.
С 8 по 20 октября 1955 года новейшие советские крейсеры «Свердлов» и «Александр Невский» в сопровождении эсминцев «Совершенный», «Смотрящий», «Способный» и «Сметливый», под флагом командующего БФ адмирала А.Г. Головко, посетили с дружеским визитом главную базу британского флота Холи Лох. Одновременно отряд английских кораблей в составе авианосца «Триумф», минного заградителя «Аполлон», эсминцев «Деной», «Диана», «Инфтейн» и «Шеврон» с визитом дружбы находился в Ленинграде.
В то же время, в 20-х числах октября 1955 года, команда подводных диверсантов 12-й флотилии ВМФ Великобритании была уже далеко от своей базы, в Портсмуте. Давно спланированная и отлично подготовленная специальная операция адмиралтейства вступила в завершающую фазу сразу же после завершения визита английских кораблей в Ленинград 20 октября 1955 года. Цель операции — уничтожение боевых кораблей и главной военно-морской базы России на Чёрном море!
Единственно, о чём могли и не знать в адмиралтействе, принимая окончательное решение на атаку 28 октября, так это о приказе высшего политического и военного руководства СССР загрузить 27 октября 1955 года на линкор «Новороссийск» сверхдальнобойные артснаряды с атомными зарядами. Так, в результате стечения обстоятельств (или по точному расчёту?) был запущен механизм реализации атомной диверсии в бухте Севастополя в ночь на 29 октября 1955 года.
В связи с падением в Египте проанглийского монархического режима у властей Великобритании возникли серьёзные опасения за дальнейшую судьбу Суэцкого канала. Кроме того, в этом жизненно важном для англичан регионе мира начал стремительно закрепляться СССР, военные корабли которого зачастили с визитами «дружбы» в порты Средиземноморья. Их маршруты, как правило, начинались в Севастополе.
По нашему мнению, весной-летом 1954 года высшее руководство адмиралтейства приняло окончательное решение самым радикальным образом противодействовать выходу Черноморского флота СССР в Средиземное море. План операции предусматривал подрыв диверсионными донными минами двух линкоров в бухте Севастополя, с тем чтобы вызвать детонацию их боезапаса. По расчётам, взрыв погребов линкоров «Севастополь» и «Новороссийск» гарантировал уничтожение всех кораблей и береговых сооружений в акватории и территории главной базы.
Атаку должны были осуществить четыре субмарины класса «X», которые ещё предстояло заказать и изготовить в строжайшей тайне. Формирование и подготовку экипажей диверсионных субмарин следовало начать незамедлительно.
В первых числах октября 1955 года началось выдвижение сил и средств в зону Черноморских проливов из метрополии. Субмарины «X-51» («Stickleback»), «X-52» («Shrimp»), «X-53» («Sprat») и «X-54» («Minnow») с экипажами прибыли в акваторию Чёрного моря на борту надводного носителя примерно 24–25 октября. 25–26 октября диверсионные субмарины на буксире больших подводных лодок начали движение к берегам Крыма. 27 октября поступил приказ адмиралтейства начать рейд на Севастополь.
С началом боевой фазы операции, вечером 27 октября 1955 года, все четыре СМПЛ{5} вошли в территориальные воды СССР строго автономно, как и в операции «Сорс-1». Только теперь, вскрыв секретные пакеты, каждый командир узнал чёткий план своих действий, расписанный с точностью до одного метра и одной минуты. Отметим, что строгий режим полного радиомолчания на борту всех СМПЛ в этой фазе операции исключал любую попытку штаба операции внести оперативные корректуры в план атаки. Отсутствовала также возможность изменить либо отменить операцию в целом.
Можно предполагать, что четыре СМПЛ выдвигались к бухте Севастополя автономно-эшелонированно, т.е. двумя эшелонами (по числу линкоров-целей) — по две СМПЛ в каждом. Тактически обосновано именно последовательное движение СМПЛ по общему маршруту в каждом эшелоне, с разносом по времени в 30–40 минут, чтобы не создавать взаимных помех в ходе рейда. Степень скрытности и надёжности при данной схеме движения и целевого использования боевых средств — максимальная.
Командир всей группы шёл на головной СМПЛ («X-51»?) первого эшелона; эта СМПЛ должна была первой войти в базу и уйти из неё последней. Только командир группы на борту субмарины-чистильщика знал весь план распределения целей и точное время установки взрывателей диверсионных зарядов каждой СМПЛ по основной или резервной цели. Только он имел право перенацелить любую субмарину в базе противника и «заказать» время одновременного срабатывания всех диверсионных зарядов с учётом возможностей их гидродинамических взрывателей. Только командир группы нёс всю ответственность за результаты диверсии в бухте Севастополя.
СМПЛ первого эшелона (бортовые № «X-51» и «X-52»?) скрытно проникли в базу в ночь около 24.0027 октября, транзитом прошли всю бухту с запада на восток, вскрывая обстановку по кораблям-целям, и заняли позицию выжидания где-то в восточной части бухты. Возможно, что эта позиция располагалась у «кладбища» списанных в металлолом кораблей на разделочной базе «Главвторчермета» — лучшего «схрона» для морских диверсантов в бухте не существует! В случае обнаружения СМПЛ второго эшелона такая позиция позволяла переждать время поисков диверсантов и с тыла нанести удар первым эшелоном СМПЛ по двум кораблям-целям.
Второй эшелон СМПЛ (бортовые № «X-53» и «X-54») скрытно проник в базу около 1.00 28 октября, прошёл бухту в восточном направлении вдоль штатных мест якорных стоянок крейсеров и линкоров ЧФ, обнаружил и атаковал линкор «Севастополь» «траверзным способом» (когда боевой галс СМПЛ и мины-контейнеры ложатся поперёк диаметральной плоскости корабля-цели) на якорном месте № 3.
Четыре заряда прицельно и точно были сброшены под носовую башню ГК линкора «Севастополь». Не обязательно СМПЛ второго эшелона установили механические часовые взрыватели своих зарядов на 1.30 29 октября. Можно только констатировать, что после успешной атаки СМПЛ второго эшелона линкора «Севастополь» подводный взрыв в Севастопольской бухте на якорном месте № 3 стал уже необратим.
Именно четыре мины-контейнера СМПЛ второго эшелона сформировали ту ударно-взрывную волну, которая проломила палубу полубака линкора «Новороссийск». Напомним размеры этой пробоины: длина — около 14 метров, наибольшая ширина — около 4 метров. Размеры заряда диверсионной мины-контейнера СМПЛ типа «X»: мина — около 6 метров, ширина — около 1,7 метра.
Выполним элементарный расчёт. Определим ширину «проекции» кумулятивной струи от подрыва двух зарядов, сброшенных с одного носителя: ширина «проекции» = 2 x 1,7 м + 1 м (длина технологической «связки» между зарядами) = 4,4 м, что практически равно ширине пробоины на палубе «Новороссийска». А её длина (14 метров) практически равна удвоенной длине диверсионного заряда. Возможно ли, что это — чисто «случайное» совпадение?
Для доказательства того, что именно эти заряды были первоначально нацелены на погреба 1-й башни ГК линкора «Севастополь», достаточно совместить силуэты линкоров «Севастополь» и «Новороссийск», считая точкой отсчёта кормовые срезы их корпусов. Очевидно, что проекция пробоины на верхней палубе «Новороссийска» удивительным образом совпадает с центром барбета первой башни ГК линкора «Севастополь». Возможно ли, что и это — «случайное» совпадение?
Успешно выполнив атаку линкора «Севастополь», обе СМПЛ второго эшелона скрытно вышли в открытое море около 3.00 28 октября, где ещё до рассвета встретились со своими буксировщиками за пределами территориальных вод СССР.
Днём 28 октября (в пятницу!) линкоры-цели неожиданно изменили свои штатные места якорных стоянок, что командир рейда вряд ли мог визуально наблюдать из района ожидания, так как СМПЛ первого эшелона днём лежали на грунте. Теперь успех всей операции и точное выполнение плана массированной атаки полностью зависел от решения командира рейда на борту «чистильщика». Пока были сохранены шансы силами первого эшелона всё же нанести удар по двум линкорам-целям.
«X-52» с окончанием сумерек в 18.47 28 октября 1955 года начала движение на выход из базы, планируя произвести атаку линкора «Новороссийск» на его штатном месте якорной стоянки № 14. Однако на этой стоянке чётко просматривался силуэт крейсера проекта «68-бис». Двигаясь на запад в поисках «своей» цели, командир «Х-52», действуя строго по плану, обнаружил «Новороссийск» на якорном месте № 3 и атаковал его с кормы «продольным» боевым галсом.
Поднырнув под корпус корабля-цели у кормовой бочки, эта СМПЛ сбросила свои диверсионные донные мины на грунт. По расчёту командира «X-52», который принял за точку отсчёта боевого галса кормовую бочку якорного места № 3, его мины-контейнеры легли точно между 1-й и 2-й башнями ГК. Выполнив атаку, эта СМПЛ скрытно и беспрепятственно вышла из базы в открытое море на рандеву со своим буксировщиком.
«X-51» («чистильщик») последней начала движение на выход из базы, планируя выполнить атаку линкора «Новороссийск» на его штатном месте якорной стоянки № 14. Но там стоял крейсер проекта «68-бис». Испытывая дефицит времени и не имея информации о действиях остальных СМПЛ, а также не наблюдая линкора «Севастополь» на внутреннем рейде бухты (так как корабль теперь находился в Южной бухте), командир рейда принял единственно верное решение в такой обстановке — нанести максимальный урон атакой главной цели всей операции (флагманскому кораблю флота противника)! Тем более что командиру рейда ясно: даже «точно» установленные кумулятивные заряды для атаки 1-й башни ГК линкора «Севастополь» на якорном месте № 3 дадут явный промах по 1-й башне ГК «Новороссийска» при их взрыве под корпусом линкора на якорном месте № 3.
И командир рейда приказал командиру «чистильщика» действовать строго по плану адмиралтейства — обнаружить и атаковать именно «Новороссийск»! Командир СМПЛ обнаружил в перископ линкор «Новороссийск» на якорном месте № 3 и атаковал его с кормы «продольным» боевым галсом. Погрузившись у кормовой бочки якорного места № 3 с перископной на рабочую глубину погружения, эта СМПЛ сбросила свои заряды на грунт под днищем корабля-цели. По расчёту командира «X-51», его контейнеры легли точно под носовую башню ПС «Новороссийска».
Успешно завершив атаку, последняя СМПЛ беспрепятственно покинула бухту Севастополя и ушла на встречу с подлодкой-буксировщиком. До точки встречи — около 12 миль, или порядка 2–3 часов хода в подводном и надводном положении. Разглядеть СМПЛ ночью среди волн практически невозможно даже исправным радаром с корабля либо с берегового поста СНиС.
Промах СМПЛ первого эшелона в установке зарядов легко объяснить — ветер с норд-оста сместил корпус линкора «Новороссийск» от осевой линии якорного места № 3, поэтому заряды «Х-52» и «Х-51» взорвались на расстоянии 25–30 метров от правого борта флагмана ЧФ. Отметим, что до настоящей публикации никто никогда не оценивал «точность» стоянки линкора «Севастополь» на якорном месте № 3 в бухте Севастополя и не совмещал силуэты линкоров «Новороссийск» и «Севастополь».
В назначенных точках открытого моря все СМПЛ встретились с подводными лодками-буксировщиками и покинули пределы Чёрного моря. Боевая операция в целом завершилась, но теперь все непосредственные участники успешного рейда в бухту Севастополя стали свидетелями и активными участниками весьма масштабного преступления. Однако мы не знаем, как сложилась судьба боевых экипажей (примерно 21–22 человека) СМПЛ, действовавших в Севастополе.
После гибели «Новороссийска» в Европе широко распространялись слухи (ещё одна легенда прикрытия британской операции) о награждении группы итальянских боевых пловцов, ветеранов 10-й флотилии МАС высокими правительственными наградами Италии за успешное выполнение некой особо секретной операции в мирное время. Все прошедшие годы вину за эту диверсию многочисленные отечественные авторы возлагали исключительно на итальянских ветеранов Второй мировой войны из состава знаменитой 10-й флотилии МАС, которой с 1942 года командовал князь Валерио Боргезе. Тем более что и сам Боргезе в начале 1950-х годов неоднократно заявлял журналистам: «Ни один итальянский корабль не будет служить под флагом большевиков!»
Сколько же бывших итальянских кораблей ЧФ грозился уничтожить бывший командир 10-й флотилии? Вот полный список этих надводных кораблей: линкор «Новороссийск» («Giulio Cesare»); крейсер «Керчь» («Duca d'Aosta»), списан 20.02.1958 г.; эсминец «Ладный» («Animoso»), списан 31.01.1958 г.; эсминец «Лёгкий» («Fuciliere»), списан 21.01.1960 г.; эсминец «Лётный» («Fortunale»), списан 29.12.1959 г.; эсминец «Летучий» («Regina Maria»), списан 3.07.1951 г.; эсминец «Лихой» («Regele Ferdinand 1»), списан 3.07.1951 г.; эсминец «Ловкий» («Artigliere»), списан 27.03.1960 г.; эсминец «Лютый» («Ardimentoso»), списан 31.10.1959 г.
Очевидно, что любому частному лицу вместе с товарищами было совершенно не под силу выполнить столь масштабную диверсию в бухте Севастополя. Как легенда прикрытия спецоперации такая версия, может быть, и проходит, но не более того. Кто может серьёзно поверить в то, что в 1955 году командование итальянского флота было способно планировать и самостоятельно проводить спецоперации такого масштаба (и такого уровня военно-политических последствий) без санкции высшего командования НАТО?
Рано утром 29 октября западные СМИ уже сообщили о гибели «Новороссийска», что позволяет предполагать наличие плана широкого международного освещения ожидаемой крупной аварии в Севастополе, которую засекли и подтвердили корабли-разведчики НАТО у берегов Крыма.
Уже в 1952 году армия США располагала 280-мм орудиями, которые были способны стрелять ядерными боеприпасами, т.е. артиллерийскими снарядами с атомными зарядами.
В своих мемуарах Н.С. Хрущёв свидетельствовал: «Наши военные убедили правительство выделить им средства для разработки нашей собственной ядерной пушки. Мы обычно вывозили её на военные парады на Красной площади». Впервые самоходное орудие («257» по классификации НАТО) калибра 203-мм было показано на параде 7 ноября 1957 года, что доказало способность Советской армии иметь ядерный снаряд даже меньшего, чем у армии США, калибра.
Как же в начале 1950-х годов обстояли дела с крупнокалиберной артиллерией советских крейсеров и линкоров, а также с научно-техническими возможностями СССР создавать опытно-серийные образцы атомных зарядов для вооружения Военно-морского флота?
В 1952 году в строй вступил крейсер «Свердлов» — головной корабль в серии из 25 первоклассных единиц. Эксперты НАТО в 1950-е годы считали, что 152-мм орудия главного калибра новейших крейсеров проекта «68-бис» вполне могут быть оснащены ядерными снарядами! В таком случае советские лёгкие крейсера получали возможность всего одним выстрелом уничтожить любую цель в радиусе до 40 километров.
Одним из поводов к такому заключению экспертов НАТО было явное несоответствие стандартного водоизмещения (15450 тонн по оценке британского справочника «Jain's Fighting Ships») новейших кораблей проекта «68-бис» их вооружению — 12 орудий калибра 152 мм. Почему лёгкие крейсера данного типа, в 1,5 раза превышая водоизмещение тяжёлых крейсеров периода Второй мировой войны, имели артиллерию главного калибра только 152 мм?
Между тем десятилетняя программа строительства ВМФ СССР на период 1938–1947 годов предусматривала строительство двух тяжёлых крейсеров водоизмещением 35500 тонн, вооружённых девятью орудиями калибра 305 мм в трёх башнях. Скорость хода этих кораблей (проект 69) планировалась 32 узла (59 км/час). Нетрудно заметить, что крейсера данного проекта фактически соответствовали «стандартам», установленным Вашингтонским соглашением 1922 года для линкоров.
30 ноября 1939 года на заводе имени Андре Марта в Ленинграде состоялась закладка тяжёлого крейсера «Кронштадт», а на заводе имени 61 Коммунара в Николаеве был заложен однотипный крейсер «Севастополь». Эти корабли планировалось сдать флоту в 1943 году. Для них с 1936 года разрабатывались 305-мм трёхорудийные установки МК-15: вес штатного снаряда 470 кг, дальность стрельбы до 53 км (!), минутный залп одной установки 4568 кг активного металла, вес установки около 1200 тонн, штатный боезапас 300 выстрелов.
Эти крейсеры достроены не были, но в 1951 году началось строительство двух тяжёлых крейсеров проекта 82 («Сталинград» и «Москва») — представлявших развитие проекта 69. Планировалось начать в 1953–1955 годах постройку ещё пяти тяжёлых крейсеров проекта 82. Загадка всех этих тяжёлых крейсеров (фактически линкоров) заключалась в малом калибре орудий (всего 305 мм). Главный калибр 305 мм имели линкоры постройки начала XX века.
Новейшие американские линкоры (типа «Нью-Джерси») имели девять орудий калибра 406 мм. В таксой случае исход артиллерийской дуэли советского тяжёлого крейсера проекта 82 с линкором «Нью-Джерси» очевиден: 9 x 305-мм много меньше, чем 9 x 406-мм. Неужели Сталин дал команду строить семь заведомо «слабых» линкоров в то время, когда во всём мире строительство линкоров вообще окончательно прекратилось, а СССР ещё не оправился от Великой Отечественной войны?
Не торопитесь делать «очевидные» выводы. Энциклопедия «Отечественная артиллерия» утверждает (с. 973–975), что 305-мм снаряд тяжёлого крейсера проекта 82 (снаряд чертежа 5212) имел дальность стрельбы 35 км по сравнению с 40 км 406-мм снаряда линкора типа «Нью-Джерси»! А если к такой дальнобойности добавить ещё и «атомную» боеголовку? Разве покажется тогда тяжёлый (равно и лёгкий) крейсер «слабым»?
После смерти Сталина все работы по линкорам и тяжёлым крейсерам в СССР были внезапно прекращены. Инициатором запрещения дальнейшего строительства советских «атомных» тяжёлых крейсеров проекта 82 был не Н.С. Хрущёв, а лично «товарищ» Берия, расстрелянный несколько позже в бункере штаба Московского военного округа за многие преступления, в том числе за долгосрочную связь с английской разведкой. И тогда же по Москве поползли слухи, что в штабе МВО был расстрелян «27-й бакинский комиссар», «чудом» избежавший расстрела 20 сентября 1918 года, когда от рук эсеров-националистов и английских интервентов на берегу Каспия погибли 26 его товарищей.
Военно-морской флот СССР в 1950-е годы форсировал создание атомных боеприпасов, широко используя довоенные разработки для 305-мм орудий тяжёлых крейсеров проекта 69 и для береговых 305-мм батарей. Особый интерес в этом плане представляет история создания и отработки тонкостенного «специального 305-мм дальнобойного фугасного снаряда» перед Великой Отечественной войной 1941–1945 годов.
Напомним, что если в 1916 году линкоры типа «Севастополь» имели предельную дальность стрельбы орудиями ПС штатным снарядом весом 470 кг до 23705 метров, то после модернизации этих линкоров в 1933–1939 годах их боевые возможности существенно возросли. Так, линкор БФ «Октябрьская революция» имел максимальную дальность стрельбы штатным 305-мм снарядом 28890 метров. Линкор ЧФ «Севастополь» имел максимальную дальность стрельбы тонкостенным «специальным 305-мм дальнобойным фугасным снарядом» (вес 314 кг) 44448 метров. Следует отметить, что «специальный 305-мм дальнобойный фугасный снаряд» успешно прошёл все испытания и был подготовлен к запуску в серийное производство ещё до начала Великой Отечественной войны. Приборы центрального управления артиллерийским огнём линкора «Севастополь» были доработаны в ходе этих испытаний и обеспечивали ведение огня «специальными 305-мм дальнобойными фугасными снарядами» на полную дистанцию огня 44,44 км.
В 1953 году действительно было прекращено строительство «сталинских» тяжёлых крейсеров, но работы по созданию 305-мм сверхдальнобойных снарядов не прекращались! 305-мм дальнобойный снаряд чертежа 5219 был готов к натурным испытаниям в 1955 году, но они почему-то не состоялись.
Первую партию в 150 снарядов чертежа 5219 (вес снаряда около 230,5 кг) промышленность СССР должна была изготовить и передать на хранение уже в первом квартале 1955 года. Работы по созданию сверхдальнобойных снарядов для военно-морского флота одновременно вели несколько научно-исследовательских институтов (НИИ № 6, 13, 22, 24). Учитывая необычайно широкий фронт работ по созданию фугасного (простейшего по устройству) артснаряда, правомерно предположить, что для новейших советских корабельных установок МК-15 и СМ-31 в 1950-х годах разрабатывались самые современные, т.е. атомные боеприпасы в габаритах тонкостенного снаряда с предельной дальностью стрельбы 127 км.
Очевидно, что значительное число потенциальных пользователей дальнобойных 305-мм атомных снарядов в корабельной и береговой артиллерии делало целесообразным их серийное производство в середине 1950-х годов. Бесспорно, что атомное зарядное устройство специального артиллерийского снаряда калибром 305 мм практически без доработки можно разместить также в корпусе артиллерийского снаряда калибра 320 мм, т.е. вполне могла существовать разработка унифицированного артиллерийского атомного заряда калибра 305/320 мм.
В свете изложенного правомерно считать, что тонкостенный «специальный дальнобойный снаряд калибра 305 мм (чертёж 5219)» с начальной скоростью 1300 м/сек и дальностью стрельбы до 127350 метров легче всего было доработать под унифицированный атомный заряд калибра 305/320 мм для орудий ГК советских линкоров и для стационарных береговых батарей.
Кстати говоря, 13 февраля 1954 года на боевое дежурство заступила береговая батарея в районе посёлка Любимовка (под Севастополем) — две трехорудийные башни калибра 305 мм. В 1996 году эта действующая батарея была передана «незалежной Украине», а в 1998 году её материальная часть была полностью приведена в негодное состояние.
Логично предположить, что унифицированный атомный заряд калибра 152/180 мм предназначался для артиллерии ГК всех лёгких крейсеров СССР. Таким образом, всего два типа унифицированных атомных зарядов комплексно решали актуальную задачу создания «атомных» крейсеров и линкоров в боевом составе ВМФ.
Ещё 21 апреля 1947 года Совет Министров СССР принял постановление о строительстве Семипалатинского полигона для испытаний атомного оружия. Но испытательные мощности этого полигона были ограничены и не обеспечивали большого объёма экспериментальных работ в предельно сжатые сроки.
Поэтому испытания ядерного оружия для ВМФ проводились также на архипелаге Новая Земля, где по решению Правительства СССР от 31 июля 1954 года был создан ещё один испытательный атомный полигон. 16 сентября 1955 года именно здесь, в районе бухты Чёрная, был осуществлён первый в СССР подводный взрыв торпеды с ядерным зарядом. Всё это свидетельствует о том, что в середине 1950-х годов ВМФ СССР уже имел отработанные образцы тактических ядерных боеприпасов для надводных и подводных кораблей различных классов.
Выступая перед руководящим составом ВМФ и корабельными офицерами на борту черноморского крейсера «Фрунзе» 20 декабря 1953 года, член Президиума ЦК КПСС министр обороны СССР Н.А. Булганин наставлял: «Мы должны усиленно, в более высоких темпах овладевать новыми средствами обороны и нападения. Речь идёт об атомных, водородных, стратегических и других видах вооружения. Срок на это один год. К концу 1954 года все наши Вооружённые силы, в том числе и Военно-морские, должны быть готовы к ведению боевых действий с применением новейших средств и, главным образом, атомного оружия. Офицерский состав должен изучить это оружие к первому мая 1954 года. Офицерскому составу предстоит много поработать. К этому сроку все офицеры должны твёрдо знать эти новые средства, это новое оружие».
К каким последствиям приводит взрыв погребов главного калибра линкора, лучше других знают в британском военно-морском флоте. Утром 24 мая 1941 года в Атлантике произошёл морской артиллерийский бой между германским рейдером «Бисмарк» и отрядом британских кораблей. На 11-й минуте боя в погреб ПС линейного крейсера «Худ» попал 380-мм снаряд (весом 800 кг) германского линкора, что вызвало детонацию всех его погребов! Бронированный корабль водоизмещением свыше 41000 тонны практически мгновенно превратился в гейзер пара до самых облаков, из которых выпал град раскалённых стальных осколков — всё, что осталось от одного из крупнейших боевых кораблей мира!
Каковы могли быть последствия от взрыва боезапаса всех артиллерийских погребов двух советских линкоров в тесной бухте Севастополя? Или в случае «детонации» хотя бы одного «атомного» снаряда в погребе линкора «Новороссийск»?
Напомним читателям трагедию канадского порта Галифакс в декабре 1917 года, когда у пирса № 6 взорвался французский пароход «Монблан». В тот роковой день «Монблан», водоизмещением всего 3120 тонн, был случайно протаранен норвежским пароходом «Имо» в проливе Тэ-Нарроус, который разделял город Галифакс на две части. От удара на «Монблане» начался сильный пожар, и экипаж стремительно покинул судно, дрейфующее в сторону пирса № 6.
На борту французского парохода находился весьма опасный груз: 2300 тонн пикриновой кислоты, 200 тонн тринитротолуола, 35 тонн бензола в бочках и 10 тонн порохового хлопка! О дьявольском грузе «Монблана» в Галифаксе не знал никто, кроме контр-адмирала Чендерса и двух его офицеров. «Монблан» взорвался в 9.06. Специалисты-пиротехники всего мира считают, что до появления атомной бомбы взрыв, который произошёл в тот день в Галифаксе, был самым мощным, который когда-либо знало человечество.
Вот как описал внешние проявления этого чудовищного взрыва капитан английского лайнера «Аркадиан» Кемпбелл в судовом вахтенном журнале в тот момент, когда лайнер находился на расстоянии около 15 миль (порядка 30 км) от входа в Галифакскую бухту: «Сегодня утром, 6 декабря 1917 года, в 9 часов 06 минут, на горизонте в стороне залива я увидел зарево, которое казалось ярче солнца. Через несколько секунд над Галифаксом взметнулся гигантский столб дыма, увенчанный яркими языками пламени. Эти языки сразу же исчезли в серо-чёрных клубах дыма и через несколько мгновений снова появились в небе в виде многочисленных вспышек. Над городом медленно вздымался чёрный гриб дыма. Потом до нас донёсся звук двух, последовавших один за другим, глухих раскатов взрыва. По определению секстаном, высота этого чёрного гриба составила более 2 миль. Он висел над городом неподвижно в течение 15 минут».
Примерно так же выглядели бы взрывы линкоров «Севастополь» и «Новороссийск» в бухте Севастополя 29 октября 1955 года. Когда «Монблан» разлетелся на тысячи осколков, взрывная волна была направлена во все стороны. О силе взрыва говорят следующие факты: стальной кусок шпангоута парохода весом около 100 кг нашли на расстоянии 12 миль (около 20 км) от города. Веретено якоря парохода весом около 500 кг нашли на расстоянии двух миль от места взрыва. 100-мм корабельную пушку, которая стояла на баке «Монблана», нашли с расплавленным наполовину стволом на дне озера Албро в миле от места взрыва. Все каменные здания, не говоря уже о деревянных домах, стоявшие по обоим берегам пролива Тэ-Нарроус, в Дартмуте и Ричмонде, почти полностью оказались снесёнными. Телеграфные столбы повсеместно переломились, словно спички, сотни деревьев вывернуло с корнем, мосты обрушились, рухнули водонапорные башни и заводские кирпичные трубы. Кроме крупных зданий — заводов и складов, школ и церквей, взрыв полностью разрушил 1600 и сильно повредил 1200 жилых домов.
На город падали не только осколки «Монблана», но и огромные обломки скал со дна пролива, камни и кирпичи разрушенных домов. На загромождённые обломками улицы города упала искрящаяся паутина проводов. Из-за развалившихся угольных печей и плит повсюду начались пожары. Среди стоявших в порту судов погибла добрая дюжина крупных транспортов, а десятки пароходов и военных кораблей получили очень сильные повреждения. На крейсере «Хайфлайер» взрывная волна разворотила бронированный борт, снесла рубки, трубы, мачты и все баркасы. Более 20 человек из команды крейсера были убиты на месте и более 100 ранены. Крейсер «Найоб» водоизмещением около 11000 тонн выбросило на берег.
Когда над Галифаксом прошла воздушная взрывная волна, в проливе образовалась придонная волна высотой около пяти метров, сорвавшая с якорей и бочек десятки судов. Берега Ричмонда и Дартмута были сплошь усеяны и завалены буксирами, баржами, шхунами, катерами и лодками. От действия воздушной взрывной волны вылетели стёкла окон домов даже в городе Труро, расположенном в 50 км от Галифакса. Повсеместно, в радиусе 100 км от места взрыва, в церквях от воздействия взрывной волны сами собой зазвонили все колокола. Их печальный звон раздавался панихидой по погибшим. Всего погибли свыше 4 тысяч человек, около 9 тысяч были ранены.
Только «атомный фактор» может вразумительно объяснить весь комплекс вопросов по составу и стилю работы Правительственной комиссии СССР. В частности, о стремительном окончании её работы в Севастополе сразу же после установления факта внешнего характера подрыва корабля, об отсутствии судебных процессов над виновными должностными лицами, о сохранении на долгие десятилетия режима повышенной секретности всех официальных документов, имевших хоть какое-то отношение к гибели «Новороссийска». Почему в начале 1956 года было решено ликвидировать все материалы свидетельских показаний, собранных Правительственной комиссией?
Правительственную комиссию СССР по расследованию всех обстоятельств гибели линкора «Новороссийск» возглавлял заместитель Председателя Совета Министров СССР В.А. Малышев, который лично курировал вопросы создания ракетно-ядерного оружия.
Комиссия работала в Севастополе с 29 октября по 4 ноября 1955 года включительно, т.е. всего 7 (!) дней. Много это или мало?
С другой стороны, можно предполагать, что одной из возможных причин, побудивших Н.С. Хрущёва не возбуждать уголовного дела по факту гибели «малоценного» трофейного линкора, стали успешные испытания ракетно-ядерного оружия на Северном флоте.
Дело в том, что 18 сентября 1955 года советская подводная лодка «Б-67» успешно произвела первый в мире надводный старт баллистической ракеты типа «Р-11МФ», что обеспечивало возможность поражения цели ядерным зарядом на расстоянии до 150 км! Руководство страны решило, что время «атомных» линкоров и крейсеров прошло, что наступает эра ракетного ядерного оружия в морской войне. Такому решению способствовало расширенное совещание руководящего состава Министерства обороны СССР, пришедшее к выводу о бесперспективности классической артиллерии в современных «атомных» войнах! Это совещание проходило в середине октября 1955 года в Москве.
После 18 сентября 1955 года старые линкоры и новейшие крейсера с их «атомной» артиллерией, имевшей дальность стрельбы до 127 км, казались «беспомощными мишенями» недальновидным кремлёвским политикам, плохо понимавшим роль сдерживающего фактора мощных надводных кораблей. Ведь ракеты не способны наглядно демонстрировать свой флаг и силуэт в любой точке Мирового океана.
Начиная с осени 1955 года в развитии советской морской артиллерии наступил продолжительный перерыв. Все начатые раньше работы по созданию и развитию артиллерийских систем крупного и среднего калибра были свёрнуты. Все ресурсы направили на создание ракетно-ядерного оружия для подводных лодок. Уже в феврале 1959 года первый лодочный ракетный комплекс с ракетой «Р-13МФ» надводного старта был принят на вооружение подводных дизельных ракетоносцев проекта 629 (типа «Golf» по классификации НАТО). Именно ракетоносцы проекта 629 были направлены и выходили на боевые стартовые позиции в океане во время Карибского кризиса 1962 года.
В третьем томе Морского атласа (издание Главного штаба ВМФ СССР, 1966 год) акция британских торпедных катеров против Кронштадта 18 августа 1919 года кратко изложена следующим образом:
«Ок. 1 часа ночи 18.08 пять английских торпедных катеров вышли из Койвисто (Бьерке), а несколько позже два торпедных катера — из Терийок. Обе группы сев. фарватером направились к Кронштадту с целью уничтожить стоявшие там корабли.
В 3 ч 45 мин над Кронштадтом появились английские гидросамолёты, которые, отвлекая внимание от наблюдения за морем, сбрасывали бомбы и обстреливали город из пулемётов.
В 4 ч 20 мин дежурный эсминец „Гавриил“ обнаружил на юге два торпедных катера противника и открыл по ним огонь. Один из катеров успел выпустить торпеду, но тут же был потоплен прямым попаданием с „Гавриила“. Второй катер, отказавшись от прорыва в гавань, отвернул.
Из пяти катеров, вышедших из-за Военного Угла гавани, три, не выдержав огня „Гавриила“, отвернули и ушли. Двум торпедным катерам удалось прорваться в Среднюю гавань; один из них потопил торпедой учебный корабль „Память Азова“, другой повредил линкор „Андрей Первозванный“. В 4 ч 25 мин эти катера при выходе из гавани были потоплены артогнём „Гавриила“. Спущенная с „Гавриила“ шлюпка подобрала шестерых английских матросов и трёх офицеров».
Однако в Морском атласе нет ни слова о том, что рейд на Кронштадт был полномасштабной военной операцией, осуществлённой британским флотом против страны, с которой Великобритания не вела военных действий. Более того, никаких официальных претензий к России правительство Соединённого Королевства в 1919 году не предъявляло. Такова традиция «просвещённых мореплавателей» — наносить «превентивные» удары там и тогда, где и когда будет усмотрена хоть малейшая угроза британским интересам.
Ещё один пример — нападение англичан на французскую эскадру 3 июля 1940 года на рейде французской военно-морской базы Мерс-эль-Кебир возле Орана.
В 1939 году военно-морской флот Франции занимал четвёртое место в мире. После поражения Франции в мае 1940 года британские адмиралы были озабочены вопросом: на чью сторону в дальнейшем встанет французский флот, который практически не имел потерь в корабельном составе?
Напомним, что 14 июня 1940 года германские войска без боя вошли в Париж, что предопределило неизбежное падение Франции. 16 июня в штаб главкома ВМФ Франции спешно прибыли самолётом из метрополии первый лорд адмиралтейства Александер и первый морской лорд Ллойд. Цель их визита заключалась в том, чтобы убедить командующего ФМФ адмирала Дарлана незамедлительно направить его корабли из портов Франции в нейтральные или в британские порты, чтобы исключить их захват противником. Этот визит не дал однозначного результата, но французские корабли всё же начали движение в порты Северной Африки и Англии.
17 июня правительство маршала Петэна начало переговоры о перемирии с Германией, которые 22 июня завершились подписанием акта о капитуляции Франции.
По условиям капитуляции, всё атлантическое побережье Франции переходило в руки противника, а французские корабли предполагалось сосредоточить в портах, которые будут указаны позже, там их демобилизовать и разоружить под немецким или итальянским контролем. К тому моменту французские линкоры дислоцировались следующим образом:
«Курбэ» и «Париж» прибыли в Англию; «Жан Бар» прибыл в Касабланку (Марокко); «Ришельё» прибыл в Дакар (Сенегал); недостроенный «Клемансо» остался в Бресте; «Дюнкерк», «Страсбург», «Бретань» и «Прованс» (эскадра адмирала Жансоля) находились в районе Орана (Алжир).
Британское правительство посчитало, что судьба французских кораблей должна быть решена без промедления и крайне решительно. В первых числах июля все французские корабли в британских портах были захвачены силой оружия или угрозой его применения. В Александрии удалось убедить командира французской эскадры крейсеров законсервировать корабли. Достичь аналогичной договорённости с адмиралом Жансолем в Оране не удалось, так как Жансоль был настроен решительно и располагал значительной мощью: четыре линкора, 13 эсминцев, четыре подводные лодки, батареи и аэродромы военно-морской базы Мерс-эль-Кебир.
И хотя Великобритания не объявляла войну своему недавнему союзнику, британский адмирал Соммервил получил приказ адмиралтейства атаковать 3 июля 1940 года эскадру адмирала Жансоля в случае отклонения им британского ультиматума. Адмиралтейство посчитало, что авианосца, трёх линкоров, двух крейсеров и 11 эсминцев будет достаточно, чтобы преодолеть сопротивление французов. Утром 3 июля в Оран на эсминце прибыл капитан 1-го ранга Холланд для ведения переговоров на базе выдвинутых адмиралтейством четырёх предложений: выйти в море и присоединиться к британской эскадре или выйти в море с минимальным экипажем и прибыть в любой британский порт, или выйти в море с минимальным экипажем и следовать в один из французских портов в Вест-Индии, или затопить все корабли французской эскадры в течение шести часов!
Переговоры не дали конечного результата, и капитан 1-го ранга Холланд в 17.25 покинул борт линкора «Дюнкерк». Когда он выходил из базы на эсминце, французская эскадра готовилась к бою.
В 17.54 3 июля 1940 года английские линкоры и крейсера открыли огонь на поражение. Линкор «Бретань» затонул, линкоры «Дюнкерк», «Прованс» и значительное число других кораблей получили серьёзные повреждения. Линкору «Страсбург» и пяти эсминцам удалось вырваться из Мерс-эль-Кебира и достичь Тулона, несмотря на атаки британских самолётов-торпедоносцев с авианосца «Арк Ройял».
8 июля 1940 года линкор «Ришельё» был атакован в Дакаре палубной авиацией британского авианосца «Гермес» и получил повреждения. Всего в ходе британской операции «Катапульта» погибли несколько тысяч французских военных моряков, что заставило правительство Франции 11 июля 1940 года разорвать дипломатические отношения с британской империей.
Рейд на Севастополь в октябре 1955 года — лишь одно из многих звеньев в цепи аналогичных «превентивных мер» британского адмиралтейства.
Такова версия газеты «Независимое военное обозрение».
На юбилейных торжествах, посвящённых столетию отца советской атомной бомбы — академика Курчатова, никто не вспоминал об этом эпизоде. Может быть, чтобы не омрачать праздничного настроения, а скорее всего потому, что не знали… Не знали о попытке покушения на его жизнь…
Этот международный скандал времён Холодной войны начался с того, что 19 апреля 1956 года вахтенный матрос советского эсминца «Смотрящий», сопровождавшего крейсер «Орджоникидзе» с правительственным визитом в Великобританию, заметил под кормой флагманского корабля голову, обтянутую чёрной резиной водолазной маски. Оба корабля стояли на рейде Портсмута. Матрос немедленно доложил о таинственном водолазе дежурному по кораблю, тот — командиру…
Этому факту не придали бы должной огласки, если бы на борту крейсера не находились главы Советского государства Н.С. Хрущёв и Н.А. Булганин. Поэтому командиру Портсмутской военно-морской базы был послан официальный запрос. Тот отделался невразумительным ответом. Не смог ничего толком объяснить и премьер-министр Великобритании А. Иден в палате общин. Возможно, и эти демарши не привлекли бы особого внимания прессы, но через неделю после ухода отряда советских кораблей из Портсмута в английских газетах появилось сообщение, что в Портсмутской бухте всплыл труп водолаза. Это был капитан Королевского флота Лионелл Крэбб. В некрологе утверждалось, что Крэбб «погиб при испытании нового подводного снаряжения». Но такие вещи не испытываются в одиночку. Испытателей всегда подстраховывают, и уж, если случается несчастье, тело водолаза находят не спустя неделю, а поднимают сразу…
Что же делал капитан Крэбб под днищем советского крейсера в Портсмуте, рискуя вызвать дипломатический скандал, рискуя жизнью? Изучал секретные обводы корпуса или искал какие-либо новые устройства? О том, что их там нет, британская разведка знала не хуже нас, сегодняшних, посвящённых едва ли не во все тайны века. Но выше днища, в каютах для высшего командования таились самые главные оборонно-стратегические секреты Страны Советов. Носителями их были по меньшей мере двое из членов правительственной делегации — академик Игорь Курчатов и генеральный авиаконструктор Алексей Туполев.
Трудно объяснить, зачем Никита Хрущёв взял с собой в Англию сразу двух совершенно «невыездных» учёных, на чьих разработках зиждилась вся стратегическая программа СССР. То ли он хотел продемонстрировать свой отход от сталинской политики «железного занавеса», то ли надеялся пробудить в учёных верноподданнические чувства, добиться их особой лояльности, особого доверия… Возможно, хотел произвести впечатление на Запад — вот, мол, она, живая мощь советской науки, её могучий потенциал, и вот в том усматривалась попытка психологического давления… Так или иначе, Игорь Курчатов и Алексей Туполев ступили на британскую землю с борта новейшего крейсера-красавца «Орджоникидзе» и на него же потом благополучно вернулись, чтобы отправиться домой.
По военной доктрине 1950-х годов главным средством доставки ядерного оружия были самолёты авиации дальнего действия. Такие машины создавались именно в туполевском КБ. Туполевские бомбардировщики должны были наносить стратегические удары по врагу «курчатовскими» атомными бомбами. Надо ли говорить, какая заманчивая перспектива открывалась перед ястребами-атлантистами — обезглавить одним хорошо продуманным терактом сразу всю…
Соблазн подогревался и тем, что концы подобной операции в прямом смысле слова прятались в воду и довольно глубоко — на дне Северного моря, которое должен был пересечь советский крейсер с представительной делегацией на борту. Внешне всё выглядело так, что и тень подозрения не пала бы на британскую корону: покинул «Орджоникидзе» британские воды, ушёл далеко в открытое море и… подорвался там на старой плавучей мине, одной из тех, которых тысячами сеяли в Северном море и немцы, и англичане. В 1950-е годы их немало ещё носилось по воле волн. Боевое траление продолжалось (по крайней мере, в Советском Союзе) аж до 1958 года.
Версия подрыва крейсера «Орджоникидзе» на шальной мине выглядела тем более убедительно, что всего лишь полгода тому назад на такой же «невытраленной немецкой мине» подорвался в Северной бухте Севастополя линкор «Новороссийск». Тот ночной взрыв (почему-то «невытраленная мина» сработала заполночь, да ещё в районе артпогребов, чудом не сдетонировавших) унёс жизни свыше шестисот моряков. Правительственная комиссия назвала тогда наиболее вероятной причиной взрыва — старую немецкую мину. Но это, как говорится, для широкой публики. Для профессионалов существовала иная версия о подрыве бывшего итальянского корабля «Джулио Чезаре», ставшего после передачи его советскому флоту «Новороссийском»: боевыми пловцами из нерасформированной после войны диверсионной флотилии князя Боргезе. В заключительном акте Комиссии говорилось об этом осторожно, но всё же — «не исключена возможность диверсии».
И тем не менее официально — злополучный трофейный линкор погиб на старой немецкой мине. А раз так, почему бы не разделить его судьбу и крейсеру «Орджоникидзе»? Это бы ещё больше укрепило выводы советских специалистов.
Как происходят такие «случайные» взрывы в море, королевский флот испытал на своём горьком опыте в годы совсем недавней тогда Второй мировой войны. Память от тех потерях и опыт подобных диверсий были ещё очень свежи. Как раз в то время — в 1955 году — вышли и мемуары «чёрного князя», в которых тот весьма откровенно рассказывал о подвигах своих подчинённых — людей-лягушек. Вот только один эпизод из их «работы» в нейтральном турецком порту Александретте:
«Вечером, когда наблюдение английских агентов, старательных, но не особенно прозорливых, ослабло, Ферраро и Роккарди задержались на пляже дольше обычного. Увлекательная партия в шары заставила их забыть о том, что время уже позднее. Когда они остались одни, Ферраро вошёл в купальную кабину и принялся рыться в ящике со спортивным инвентарём. Через некоторое время он вышел одетый в чёрный резиновый костюм, на ногах ласты, а на лице — маска (респиратор). На поясе у него были подвешены два странных, видимо, тяжёлых предмета. На голове прикреплён пучок водорослей. Странно вёл себя этот дипломат на пляже!
Человек в чёрном костюме осторожно приблизился к морю, вошёл в воду и тотчас же, без единого звука, бесследно исчез во мраке ночи. Проплыв 2300 м, он оказался вблизи греческого судна „Орион“ (7000 т), гружёного хромом. Вот он выполнил манёвр, который много раз повторял на тренировочных занятиях: под лучами прожекторов, на глазах у вахтенных он потихоньку приблизился к судну, стараясь держаться в тени барж, стоящих у борта, включил кислородный прибор и бесшумно погрузился. Двигаясь под водой вдоль корпуса корабля, он отыскал боковой киль и, отцепив от пояса подрывные заряды, прикрепил их зажимами к килю. Потом он выдернул предохранительную чеку и возвратился на поверхность. Всё это проделано за несколько минут. Так же осторожно он удалился. В 4 часа утра Ферраро возвратился в консульство.
Через шесть дней „Орион“, закончив погрузку, вышел в море, но ему не удалось уйти далеко: в сирийских водах под корпусом тяжелогружёного судна произошёл взрыв, и оно быстро пошло ко дну. Спасшиеся моряки, которых поместили в госпиталь в Александретте, утверждали, что „Орион“ был торпедирован».
Итальянцы ставили мины с вертушками. Такая мина могла «дремать» сколько угодно, но как только судно начинало движение, поток воды вращал маленький пропеллер и через несколько часов освобождённый взрыватель срабатывал…
Кто-кто, а капитан Крэбб как никто другой знал уловки итальянских подводных диверсантов. Всю войну он боролся с ними, охраняя внутренний рейд британской военно-морской базы в Гибралтаре. Кому, как не ему, было идти в опасное предприятие под днище советского крейсера? И он пошёл. И живым не вернулся… Дело в том, что после взрыва «Новороссийска» на всех советских кораблях стали нести специальные вахты — ПДСС (противодиверсионные силы и средства). Несли эти вахты и на крейсере «Орджоникидзе». Инструкция требовала, чтобы дозорный, заметивший чужого водолаза у борта корабля, стрелял без предупреждения — на поражение. Если не успел, то надо бросать в воду специальные оглушающие гранаты. Но в иностранных портах категорически воспрещалось не только применять какое-либо оружие, но и даже спускать за борт своих аквалангистов без согласования с портовым начальством. Вот и оставалось командиру крейсера лишь одно средство — провернуть гребные винты. Огромные острые лопасти рассекли не только толщу воды…
Итак, капитан Крэбб погиб «при испытании новой водолазной техники». Академик Курчатов, равно как и авиаконструктор Туполев, остались живы.
В годы недавней тогда войны Игорь Курчатов носил флотский бушлат. В воюющем Севастополе он вместе с другими учёными-физиками решал жизнесущую проблему размагничивания кораблей и сделал всё, чтобы их стальные корпуса не вызывали взрывов немецких электромагнитных мин. В память этих трудов в Севастополе стоит скромная стела в виде U-образного магнита. В те же самые годы и лейтенант Крэбб боролся в Гибралтаре с итальянскими диверсантами. В той большой и жестокой войне Курчатов и Крэбб были союзниками. Но в войне после войны — Холодной, они стали, увы, противниками. Крэбб хотел спасти свою страну от советской ядерной угрозы. Курчатов — оберегал свою родину от ядерных ударов противоборствующего блока. Не зная друг друга лично, они сошлись в Портсмуте, их судьбы скрестились в одной роковой точке — точке якорной стоянки крейсера «Орджоникидзе».
Бушлат Курчатова хранится в Государственном историческом музее на Красной площади. Мундир капитана Крэбба сберегается в портсмутском музее королевских ВМС.
Военно-морские кульбиты с высшими советскими руководителями случались и позже. Так, в 1968 году премьер-министр Алексей Косыгин, шедший в Финляндию с неофициальным визитом на эсминце «Славный», едва не попал под обстрел финских береговых батарей. Помощник президента Урхо Кекконена забыл предупредить своих военных о приглашённом премьере и те решили, что началось вторжение… Но это уже другая история.
Эта тёмная история не уступает по своей скандальности акции со шпионским полётом самолёта-разведчика, пилотируемого печально известным Пауэрсом. Однако она не получила широкой огласки даже тогда, когда почти всё в ней прояснилось, было названо своими именами. Началась «эпоха общечеловеческих ценностей», и хотя советские спецслужбы приготовили заявление для прессы, оно так и не стало достоянием декларируемой на каждом углу гласности. Из аппарата Горбачёва поступило указание — «сейчас не время говорить об этом». Но сегодня это время, похоже, пришло…
Итак, рассказывает бывший сотрудник разведки Тихоокеанского флота, контр-адмирал запаса Анатолий Тихонович Штыров:
— В августе 1981 года в системе штабов Камчатской операционной зоны произошло непредвиденное, но в целом-то заурядное событие: прекратилась кабельная связь на линии Петропавловск—Магадан—Центр. Специалисты пришли к выводу: повреждён кабель и именно — его подводная часть в заливе Шелихова (Охотское море). Характер неисправности — нарушение изоляции и затекание. Наиболее вероятная причина — повредили рыбаки при постановке на якорь. Рыбаки — народ партизанский, на всякие там нарисованные на картах запретные зоны склонны «смотреть через ноздрю».
Запросили Тихоокеанский флот. У флота кабельных судов под рукой не оказалось: одно — на ремонте в Сингапуре, второе — занято в каком-то районе… И так далее. Камчатская флотилия поднатужилась, снарядила в Пенжинскую губу отряд — гидрографическое судно, буксир и бот. Задача — взять кабель от побережья, поднять и перекантовать через палубу, найти и завулканизировать повреждённое место.
Отряд вышел. В сложных штормовых условиях, укрываясь за мысами, моряки начали тяжёлую неблагодарную работу. Произошло, однако, неожиданное: на одном из участков кабеля обнаружилась непонятная штуковина наподобие кокона. Этот «кокон» охватывал кабель. Впоследствии штуковину назвали «чёрным ящиком».
Этот неожиданный и неприятный факт на КП флотилии решили не обсуждать и болтовню на сей счёт пресечь.
Доложили во Владивосток и Москву. К делу подключились «органы». Получили указание: участок кабеля вырезать, «чёрный ящик» не отсоединять и ни в коем случае не вскрывать: возможны взрывные самоликвидаторы. Иными словами — в «штуковине» не ковыряться. Находку доставить в базу…
Со временем это не получившее огласки событие ушло в прошлое и заслонилось новыми, мало ли чего наслаивается в нашей быстротекущей жизни?
Разгадку таинственного события в заливе Шелихова я нашёл, когда уже пребывал на пенсии. Листал на досуге книгу Боба Вудворта Пелена: «Секретные войны США. 1981–1987» и вычитал в ней: «Наиболее тревожным сообщением в ФБР был совсекретный доклад ВМС, подготовленный в 1982 году относительно операции „Айви Беллз“. В нём утверждалось, что в 1981 году Советский Союз обнаружил подслушивающее устройство потому, что об этом сообщил русским какой-то агент. В докладе исключалось совпадение или удача: русские знали, где и что искать».
И далее: «Адмирал Стэнсфилд Тёрнер{6} привёл несколько примеров: сейчас ВМС создали сложный аппарат „кокон“, который можно помещать над подводным кабелем и оставлять для записи переговоров на недели и месяцы, а затем забирать их.
Каждая операция, особенно если она проводится в советских террводах, подлежит утверждению президентом. Если хоть одна лодка будет захвачена, то последствия будут равны инцидентам с самолётом У-2 и шпионским кораблём „Пуэбло“, вместе взятым.
Такие операции являлись гордостью ВМС, который всегда считался любителем самых дерзких дел.
Как и при других разведывательных операциях, всё строилось на ошибках другой стороны. Русские считали, что подводные кабели прослушивать невозможно, и поэтому использовали несложные коды, а иногда обходились и без них. И это приносило большие „взятки“ переговоров советских официальных лиц друг с другом…»
«ЦРУ получило данные о том, что в период с 1975 по 1980 год советская разведка приобрела важного агента из числа сотрудников АНБ. Им оказался Роберт Б. Пелтон, уволенный в отставку в 1979 году.
В ноябре 1985 года Пелтон был арестован. На одном из судебных заседаний адвокат Пелтона упомянул об операции с кодовым названием „Айви Беллз“. Судья немедленно прекратил допрос.
Операция „Айви Беллз“ начала осуществляться в конце 1970-х годов, а в 1981 году была провалена…»
«На восток от советского побережья, глубоко на дне Охотского моря АНБ и ВМС США с подводной лодки установили одно из самых современных и сложных подслушивающих устройств, при помощи которого снималась информация с глубоководного советского кабеля, обеспечивающего работу ключевых советских военных и других коммуникационных линий. Аппарат имел специально облегающее кабель устройство, которое позволяло электронными методами проникать внутрь его, без физического контакта с отдельными проводами.
Одним из наиболее сложных аспектов операции „Айви Беллз“ было изъятие из устройства плёнок с записанной информацией.
Специально оборудованная подводная лодка должна была регулярно появляться в Охотском море. Военные аквалангисты при помощи минилодки и даже подводного робота устанавливали местонахождение записывающего „кокона“ и меняли плёнки, которые затем направлялись в АНБ для расшифровки. Хотя сообщения имели месячную или большую давность, они содержали ценную информацию.
Особый интерес представляли сообщения, связанные с испытаниями советских баллистических ракет. Ракеты завершали свой полёт в районе Камчатского полуострова, и вся информация о ракетах и испытаниях передавалась по этому кабелю.
Операция в Охотском море успешно осуществлялась до 1981 года. Но однажды на фотоснимке со спутника было отмечено скопление советских судов как раз в том участке Охотского моря, где к кабелю было прикреплено американское подслушивающее устройство. Позднее, когда американская подводная лодка прибыла в район для замены плёнок, она установила, что устройство исчезло. АНБ пришло к выводу, что оно попало к русским и операция провалена.
В ВМС изучили всю добытую развединформацию, и был составлен настолько секретный доклад, что доступ к нему был предоставлен строго ограниченному кругу лиц. В докладе отрицалась возможность случайного совпадения или удачи со стороны русских. Значит, утверждали составители доклада, имела место утечка информации. Военный шпионаж? Да. В докладе был сделан вывод, что у русских в сферах американской разведки есть свой агент.
Причины утраты в 1981 году записывающего устройства были загадкой до получения информации, давшей ключ к разоблачению Пелтона в 1985 году. Кейси{7} надеялся, что Пелтон будет осуждён без раскрытия тайны операции „Айви Беллз“…
Суд над Пелтоном состоялся 21 мая 1986 года. В первый день суда оглашено место проведения операции „Айви Беллз“ — Охотское море.
Пелтон был осуждён на три пожизненных срока плюс десять лет».
Рассказ контр-адмирала А.Т. Штырова продолжает бывший начальник отдела контрразведки ВМФ контр-адмирал Владимир Петрович Иванов:
— Та история мне хорошо памятна… В 32 милях от западного побережья Камчатки с глубины в 65 метров советское кабельное судно подняло очередной участок подводного кабеля. Вот на нём-то моряки и обнаружили два странных цилиндрических предмета размером с 250-литровую бочку. Непонятное устройство цепко охватывало бронированный кабель, вонзив в его оплётку стальное жало. Цилиндры сняли и передали в контрразведку. В одном из герметичных контейнеров мы обнаружили 32 очень ёмких мини-магнитофона. Другой представлял собой миниатюрный ядерный реактор для энергопитания подслушивающей аппаратуры. Реактор немедленно отправили в Казахстан на семипалатинский ядерный полигон. Там его поместили в штольню для подземных взрывов и кликнули добровольцев: кто рискнёт опустить компенсирующую решётку и тем самым фактически обезвредит атомную бомбу-малютку. Ведь на ней мог быть поставлен самоликвидатор, который мог сработать при неосторожном обращении. Вызвались два офицера: один специалист-атомщик, другой — контрразведчик. Вошли они в штольню, оплавленную до стеклянного блеска предыдущим ядерным взрывом, и там сумели благополучно опустить компенсирующую решётку. Оба были награждены орденами Красного Знамени.
По факту обнаружения подслушивающего устройства мы подготовили заявление для прессы и телевидения, но… Горбачёв готовился к переговорам с Рейганом, и дело замолчали.
Если у Мирового океана есть память, то он запомнит середину 1980-х годов как время ядерной грозы, вызревавшей в его глубинах и только по великому счастью не разразившейся атомными громами и молниями. Впрочем, хладнокровные историки называют этот почти четырёхлетний отрезок времени (1983–1986) периодом очередного обострения Холодной войны. Но то был не только очередной, но и последний всплеск ядерного противостояния, острейший после «Карибского кризиса» пик.
Всё началось в декабре 1983 года, когда к берегам США, с обоих океанских направлений — атлантического и тихоокеанского — двинулись атомные подводные крейсера СССР с баллистическими ракетами в шахтах. То был «адекватный ответ» на размещение американских «першингов» в Западной Европе.
Караваны ракет, упакованных в прочные корпуса атомарин, проплывали под водой с севера на юг и с юга на север вдоль западного и восточного побережий США, не останавливая своего грозного движения ни на час — каждодневно, ежемесячно, круглый год… Одни атомные ракетовозы через положенные сроки сменяли другие, держа под постоянным прицелом крупнейшие города США и военно-промышленные центры. Этот чудовищный механизм, запущенный на много лет, требовал исполинского напряжения человеческих сил, повышенной надёжности корабельной, ракетной, ядерной техники. Оба флота, вовлечённых в эту глобальную круговерть — Северный и Тихоокеанский, — расплатились за гонку, спешку, перенапряжение боевых служб потерей двух атомных подводных лодок — К-429 в 1983 году и К-219 в 1986 году — не одним десятком моряцких жизней…
Кроме атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения участвовали в том Великом Цикле и многоцелевые торпедные подводные лодки.
О приключениях одной из них — камчатской К-360 — и пойдёт этот рассказ. Рассказ, записанный из первых уст — тогдашнего командира К-360 капитана 2-го ранга Григория Бутакова, старшего штурмана (командира БЧ-1) капитана 3-го ранга Юрия Ерёмина и командира вычислительной группы старшего лейтенанта Евгения Симонова.
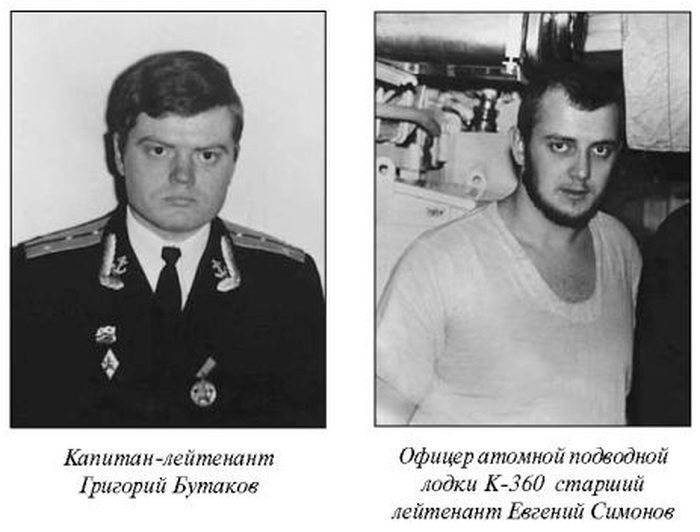
Контр-адмирал запаса Григорий Лукич Бутаков:
— В начале августа 1984 года меня, молодого командира, вызвал командующий нашей 2-й камчатской флотилией Герой Советского Союза вице-адмирал Эдуард Дмитриевич Балтин. Я не ожидал увидеть в его кабинете начальника штаба Тихоокеанского флота вице-адмирала Хватова. Но именно он, Геннадий Александрович Хватов, поставил мне эту непростую задачу. Смысл её заключался в том, чтобы скрытно подойти к входу в крупнейшую военно-морскую базу США Бангор — там базировались атомные подводные лодки с баллистическими ракетами типа «Огайо» — и записать шумы только что вошедшего в состав Тихоокеанского флота США — четвёртый корпус — стратега-ракетоносца «Мичиган».
Задача более чем непростая — ведь подходы к этой базе — проливу Хуан-де-Фука — охранялись всей мощью противолодочных сил, начиная от патрульных самолётов типа «Орион» и кончая совместными действиями американских и канадских кораблей. Нашим подводникам это место было хорошо известно, замечу, так же, как и американским подходы к нашей Авачинской губе. Мы называли его «горячей сковородкой» из-за слишком интенсивного судоходства в том районе и малых глубин. Ровное, как столешница, каменистое дно так же мало способствовало решению нашей главной задачи — записи шумов, поскольку оно многократно отражало звук и возникала так называемая «донная реверберация». Шансов сохранить скрытность и вернуться незамеченными было ничтожно мало. Но приказ есть приказ, и 5 августа 1984 года мы оставили свой родной причал в посёлке Рыбачьем…
Атомная подводная лодка К-360 спущена на воду в Комсомольске-на-Амуре в апреле 1982 года. Кодовое название её 671РТМ проекта — «Щука». Американцы называли их «Виктор-3» и относили к классу «атакующих» подводных лодок. По советским определениям, атомарины 671-го проекта считались многоцелевыми атомными торпедными подлодками, способными нести не только торпеды, но и крылатые ракеты.
Их главным назначением было выслеживать и уничтожать вражеские атомные подводные лодки с баллистическими ракетами. Разумеется, они могли действовать и против надводных кораблей, в том числе авианосцев, но всё же создавали их специально для охоты в глубинах на вражеские атомарины. Именно поэтому они были чрезвычайно обтекаемыми, быстроходными и малошумными (по сравнению с непротиволодочными субмаринами).
Ко всем прочим своим достоинствам «Щуки» могли уходить на глубину до 600 метров, двигаться под водой с максимальной скоростью 31 узел и обеспечивать экипаж в 96 человек без каких бы то ни было дозаправок в течение 80 суток.
Главной особенностью этого проекта в отличие от его ранних модификаций было то, что шумность «Щук» была значительно снижена за счёт так называемого «отключения фундаментов», то есть между шумящими агрегатами и корпусом лодки были поставлены специальные амортизаторы-вибропоглотители. Был уменьшен и гидродинамический шум путём устройства вертикальных шпигатов. В прочном корпусе было установлено новейшее размагничивающее устройство, которое резко снижало возможности обнаружения «Щук» поисковыми магнитометрами патрульных самолётов.
Командир вычислительной группы К-360 Евгений Симонов:
— На подводных лодках нашего проекта стоял новейший по тем временам гидроакустический комплекс «Скат», который позволял не только определять цели в обычном звуковом режиме, но и в инфразвуковом диапазоне частот. Это было почти фантастикой. Но принимать неслышимые человеческим ухом звуки позволяла длинная гибкая буксируемая антенна, которая выпускалась из бульбообразного контейнера, установленного над вертикальным стабилизатором кормового оперения. Именно он придавал силуэту лодки необычный вид.
«По своим возможностям комплекс „Скат“ втрое превосходил подобную аппаратуру предшествующего поколения и вплотную приближался к американским комплексам, — отмечает современный справочник по подводным лодкам, — (хотя по-прежнему уступал им по массогабаритным характеристикам). Максимальная дальность обнаружения целей при нормальных гидрологических условиях составляла 230 километров».
Контр-адмирал Григорий Бутаков:
— Обычно наши лодки ходили в тот район северным маршрутом, а я для большей скрытности пошёл южным маршрутом, как бы намереваясь пройти вдоль Курильской гряды, но потом резко повернул влево, то есть на восток. Довольно быстро и благополучно пересекли Северо-Тихоокеанскую котловину, разлом Мендосино и, оставив десять тысяч миль за кормой, вышли на шельф близ стыка территориальных вод Канады и США у пролива Хуан-де-Фука — прямо на «горячую сковородку». Помимо обычного, довольно напряжённого судоходства в районе этого пролива ещё шёл интенсивный лов рыбы.
Я запросил у командующего флотом разрешение всплывать на сеанс связи не раз в сутки, а раз в двое суток. Очень сложно было всплывать на перископную глубину. Могли попасть под таранный удар любого надводного судна или влезть в рыбацкие сети. Поэтому перед каждым подвсплытием я часа два проверял надводную обстановку — нет ли поблизости надводных судов. Но и это не давало особых гарантий. Там была очень плохая гидрология. К тому же рыбаки нередко ложились в дрейф, а обнаружить их без хода в пассивном режиме нашего «Ската» было невозможно.
С нами шёл ещё один атомоход, но он действовал в другом районе.
Мне повезло: в первый же день удалось залезть под днище огромного супертанкера, который шёл в Сиетл. И мы под ним миновали все ловушки хвалёной системы СОСУС.
Командир вычислительной группы старший лейтенант Евгений Симонов:
— Мой боевой пост находился в центральном посту, и я был в курсе всего, что происходило как на корабле, так и вокруг него над водой, поскольку БИУС, боевая информационная система, находилась в моём заведовании. Обстановка была очень напряжённая. Помимо всего прочего, у многих членов экипажа был свеж ещё шок, который мы пережили накануне нашего похода. Правда, это было на другой лодке — К-507.
Вышли по боевой тревоге в бухту Саранная. Срочное погружение. И тут заклинило рули. Сработала аварийная защита реактора.
Ситуация: неуправляемая лодка с рулями на погружение набирает глубину. Бутаков командует: «Всем турбинам реверс на высоких оборотах!» Но винт не вращается. Хода нет. Это страшно.
Боцман докладывал глубину в непрерывном режиме. Летим вниз на скорости.
Я — вахтенный офицер боевого информационного поста. Сижу в центральном посту, и мне хорошо видно, как лысина нашего механика сначала побелела, потом покраснела, потом посинела.
Мне показалось, что никто не знает что теперь делать. Мы проваливались в океанскую пучину. Взгляд упёрся в фотокарточку жены, прикреплённую к пульту. Мысленно прощаюсь с Ниной, с надеждой на нашу встречу…
Контр-адмирал Григорий Бутаков:
— Под килем пять километров. Боцман непрерывно докладывает: «Глубина 170 метров, лодка быстро погружается… Дифферент на нос растёт! Глубина 175 метров, лодка быстро погружается… Глубина… Быстро погружается… Дифферент на нос растёт…» Голос боцмана всё тревожнее и тревожнее. Рядом со мной — наш механик, командир БЧ-5 Илья Железнов. Он твердит, как зацикленный: «Товарищ командир, сейчас будет ход. Товарищ командир, сейчас будет ход…» Но хода нет! Лысина механика чудовищно багровеет. Он-то первым понял, что пришёл нам полный абзац.
Хода нет.
Стали продувать цистерны. И как назло — там закусило, там отказ. У личного состава шок!
Заорал, чтоб продуть всё аварийным продуванием. Всё выдули. Даже командирскую группу.
Боцман докладывает: «Глубина 207 метров, лодка встала».
Знаю, что после 200 метров продувание цистерн главного балласта малоэффективно. Всплывать с такой глубины можно только за счёт хода, когда под корпусом и рулями возникает подъёмная гидродинамическая сила. Но хода нет, как не было, несмотря на все заклинания механика. И мы уже за 200-метровой отметкой. Но лодка встала… Надолго ли? Куда она пойдёт — вниз или вверх? От нас уже ничего не зависело. Судьба наша решалась на точнейших аптечных весах. На одной чаше весов — законы физики, на другой — наши молитвы. Томительнейшие секунды.
Но Бог-то всё-таки есть! Лодка постояла, «подумала» и стала всплывать.
Голос боцмана, как глас Божий: «Глубина 206 метров, лодка медленно всплывает!»
Пошла, пошла, пошла… Быстрей… Быстрей. На глубине 100 метров открыли клапана вентиляции. Додули остатки балласта остатками ВВД, воздуха высокого давления. Закачало на крутой волне. Надо подниматься, отдраивать верхний рубочный люк. Но шевельнуться не могу. Голова ясная, всё остальное — каменное… От стресса.
Потом выяснилось, что авария произошла по вине завода. Одна из шестерён турбозубчатого механизма треснула из-за литейного брака, в ней оказалась каверна. И произошло рассоединение муфты ТЗМ с линией вала. Подобная неисправность обнаружилась потом ещё на одной «Щуке». Но нам-то от этого было не легче.
Евгений Симонов:
— Всплыли и тут же попали в жесточайший шторм. А хода нет. И несёт нас на камни бухты Саранной. Качка убийственная. Все в лёжку лежали. У нас акустик был, так только он на рулях стоял. Да толку-то, без хода корабля рули бесполезны.
Контр-адмирал Григорий Бутаков:
— Потом говорили, что такого шторма более 100 лет не было! Волны выбросили бы меня на камни и расхлестали вдрызг. Надо подальше отходить от берега. И тут я получаю приказание немедленно заходить в бухту. Но я же могу только на электромоторах двигаться. Под ними в такой шторм в узкость не войдёшь. Безопаснее было бы в океане штормовать. Однако командующий флотилией вице-адмирал Павлов принял решение заводить нашу лодку в бухту двумя буксирами. Я в перископ смотрю, а буксир где-то «в небе», волна его поднимает. Связываюсь с базой:
— Товарищ командующий, мне нельзя подходить. Уберите от меня эти буксиры! Я же людей на палубу вывести не могу! Смоет всех!
А буксиры идут у меня вдоль бортов и стреляют из линемётов.
Я им кричу в мегафон: «Тащите меня в океан, закончится шторм, тогда в базу пойдём!»
Но они всё равно завести ничего не смогли.
Мы же пытались исправить злополучную муфту. Пробовали с обеих сторон железяки приварить. Не сработало. Пытались ломом заклинить. Всё ломало, как спички.
Евгений Симонов:
— 36 часов буксиры пытались заарканить нас на волне. Тросы лопались один за другим. Чудом никого не убило. При запредельных кренах и дифферентах сработала аварийная защита реактора… В общем, из огня да полымя!
Григорий Бутаков:
— Спасло нас от навала на камни то, что ветер изменил направление и пошёл от берега… А ход смогли дать только через четверо суток.
Нет худа без добра. И та передряга испытала экипаж на прочность лучше любой тренировки по борьбе за живучесть. Здесь, у берегов Америки, на «горячей сковородке» и командир К-360 капитан 2-го ранга Григорий Бутаков, и его старпом капитан 3-го ранга Андрей Аполлонов, и механик командир БЧ-5 капитан 3-го ранга-инженер Илья Железнов были уверены в своём экипаже. Если что, не подведут, сработают так же, как в тот камчатский шторм…
Командир БЧ-1 (старший штурман) капитан-лейтенант Юрий Ерёмин:
— Однажды какая-то наша подлодка нарушила границу иностранных территориальных вод. Вышел международный скандал, и Главком запретил нашим кораблям подходить к кромке террвод ближе чем на пять миль. Но здесь мы оказались перед выбором: или мы нарушаем главкомовскую поправку, и тогда не выполняем поставленную задачу, или… Мы выбрали последний вариант. Пришлось подойти так близко, что командир предложил мне посмотреть на вероятного противника в упор. В линзах перископа были очень хорошо видны береговые хребты и самая высокая вершина — гора Олимпес, автотрасса, по которой двигались разноцветные машинки… Дух захватывало при мысли, что вижу Америку своими глазами. Думаю, что подобные чувства испытывали и американские подводники, разглядывая в перископ наши камчатские вулканы…
Григорий Бутаков:
— Теперь наша задача сводилась к одному — затаиться и ждать, когда «Мичиган» выйдет из своей базы в океан. Перед каждым выходом стратегического ракетоносца американцы проводили полномасштабную противолодочную операцию с боевым тралением, с полётами патрульных самолётов и вертолётов ПЛО типа «Си Кинг». И мы терпеливо ждали, когда начнётся эта охота по наши души.
Ко всему прочему ещё одно обстоятельство сильно осложняло нашу жизнь: стометровая глубина и ровное, как столешница, каменистое дно. Абсолютно плоский шельф. Чем это плохо?! Во-первых, шла реверберация шумов, они отражались от грунта, накладывались, сбивали акустиков. Но она же, донная реверберация, помогала нам и укрываться от чужого наблюдения — ведь посылки американских гидролокаторов разбрасывались точно так же. Во-вторых, океанская зыбь на такой незначительной, в общем-то, глубине давала себя знать. Трудно было удерживать подводную лодку на перископной глубине. Она у нас вообще капризная, это же не «Стратег» со своей массой и своим водоизмещением. Очень сложно было сохранять скрытность.
Но то, что нам угрожало, нас и спасало: интенсивное судоходство. У меня был немалый опыт плавания под днищами судов. И экипаж в этом плане был нормально отработан. Такая вот диалектика.
И вот настал тот день, ради которого мы пересекли под водой Тихий океан. Американцы начали расчищать путь своему «Мичигану».
Три канадских фрегата типа «Рестигуш» и один американский эсминец врубили гидролокаторы и пошли плотным строем прочёсывать глубины. А мы были от них в 60–70 кабельтовых. Очень близко, учитывая возможности их поисковой аппаратуры. Что делать?
Я развернулся и стал уходить в сторону океана. Но особо далеко не уйдёшь. Дошёл до кромки своего района, и всё. Дальше боевое распоряжение не велит покидать пределы назначенной позиции.
И я принимаю решение — нырять под средний в ордере корабль. Разворачиваюсь, увеличиваю ход и прямо под средний корабль.
А народ-то мой волнуется, шумы винтов в отсеках слышно. Вся надежда, что командир всё знает. Ведь мы вдалеке от Родины. А ведь мне было всего 32 года.
Евгений Симонов:
— Мы слышали шумы гребных винтов прямо над головой. Но это полбеды. Хуже всего, что американцы бросали сигнальные бомбочки. А они по 3–4 килограмма. И не поймёшь, то ли это профилактическое бомбометание, то ли это сигналы по международному коду…
Григорий Бутаков:
— И вот иду я под этим «Рестигушем». Они меня не обнаружили. Может быть, раньше что-то почуяли. Пошли искать… Поисковый ордер дошёл до внешней кромки моего района, и дальше они пошли. А мне-то дальше нельзя. Они пошли в открытый океан, молотят своими гидролокаторами. Самолёты туда полетели. А я поотстал да и обратно вернулся.
И тут «Мичиган» стал выходить. Я его обнаруживаю, слежу за ним с дистанции примерно 40–60 кабельтовых. Контакт классифицировали. Записали.
Но часа через полтора и они нас обнаружили. Шумность-то у нас была приличная! Они всплыли в надводное положение и ушли в базу. Поломали мы им выход.
Тут и начались разные интересные моменты. Стал я замечать, что «особист» учредил за мной самую настоящую слежку. Куда я, туда и он. Я в штурманскую рубку, и он за мной, я карту смотрю, и он за моей спиной. И так каждый раз. Я не выдержал, пригласил его в свою каюту:
— В чём дело? Ты что, мне не доверяешь?
— Что вы, товарищ командир! Но можно вам вопрос задать? Почему вы всякий раз выбираете глубину погружения не так, как все командиры?
— То есть?
— Ну, обычный командир погрузился бы на пятьдесят метров для ровного счёта, а вы на сорок семь. Или на девяносто семь, как сейчас, а не сто, как это сделал бы командир, с которым я раньше ходил.
Короче, усмотрел он в моём выборе глубин какой-то шифр что ли… Ну, посмеялся я про себя, а ему ответил:
— Да потому, что я выбираю глубину не по ровному счёту, а по гидрологии! Или по изобате… И потом, «семёрка» — моё счастливое число. Никогда не подводила.
Капитан-лейтенант Юрий Ерёмин:
— Американцы догадывались о нашем присутствии и потому искали нас очень плотно. Корабельная поисково-ударная группа буквально выжимала нас из интересовавшего нас района. Глубины небольшие, в три раза меньше нашей предельной отметки. И тут я нашёл на карте одну котловинку, неширокую — всего в три мили, но глубиной около километра. Бутаков спрашивает меня:
— Ну что, штурман, нырнём туда?
Для того чтобы сказать ему «да», надо было точно знать своё место. Но, как известно, неточность в определении накапливается даже за сутки… Рискованно это было. Но ведь вся наша подводная служба — это сплошной риск. А тут был вполне реальный риск, мягко говоря, касания грунта. На деле, при погружении, это «касание» могло обернуться серьёзным ударом о каменистое дно со всеми вытекающими последствиями. И всё же нам удалось плавно вписаться в эту котловину и уйти на предельную глубину. Американцам и в голову не пришло, что мы полезем в эту дыру. Поэтому пошли искать нас дальше. А мы отсиделись и снова ушли к Хуан-де-Фука…
Тот поход запомнился мне ещё и тем, что 28 сентября мне исполнилось 28 лет. И я отметил этот праздник у берегов Америки.
Погружаясь в этот океанский «колодец» глубиной в километр, Бутаков рисковал своей жизнью, жизнью своего экипажа. Он рисковал и международным престижем своей страны. Случись что-нибудь с его кораблём у берегов США, и такая бы свистопляска началась… Он хорошо это понимал, как понимал и то, что, быть может, в те самые дни, когда К-360 выслеживала в проливе Хуан-де-Фука подводный ракетоносец «Мичиган», нечто подобное делала некая американская атомарина у выхода из Кольского залива или навешивала в Охотском море на кабель стратегической связи подслушивающее устройство. Шла Холодная война и подводный флот каждой стороны принимал свои «адекватные меры».
Григорий Бутаков:
— Итак, мы укрылись на большой глубине посреди плоской «горячей сковородки». Нас искали долго и совсем в другой стороне.
Я даже вздремнул в центральном посту маленько. Вдруг вахтенный офицер за плечо трясёт.
— Товарищ командир, вас тут по звукоподводной связи вызывают!
— Кто вызывает?
— Не могу знать!
Подумал сначала, что это наша подводная лодка, с которой мы в паре ходили. Но у неё район за сто миль, если не больше. Никакая ЗПС не пройдёт. А до России ещё полсвета… Вхожу в рубку акустиков, и тут слышу на русском языке, с большим акцентом, медленно произносят: «Виктор-три, я вас на-аблюдаю!.. Виктор-три, я вас на-аблюдаю…» Американец!
Ну, думаю, если бы ты нас наблюдал, то и молчал бы. А так ещё только пытаешься это сделать. На психику давишь… Ну, нервы у нас не из лыка шиты… Попробуй выковыряй нас из этой расселины!
Фамилия Бутакова известна на российском флоте едва ли не с пушкинских времён, когда из Морского корпуса был выпущен мичман Алексей Бутаков, ставший впоследствии известным путешественником, гидрографом, контр-адмиралом. Его имя осталось на картах Аральского моря. Вошли в историю отечественного флота братья Григорий и Иван Бутаковы, адмирал и вице-адмирал. Отчаянный храбрец Григорий Иванович Бутаков ещё мичманом получил два боевых ордена за участие в боях на Кавказе. Но он был настоящим моряком и знатоком морей. Так, за составление лоции Чёрного моря был награждён бриллиантовым перстнем. По-настоящему прославился во время Русско-турецкой войны, когда, командуя пароходофрегатом «Владимир» захватил турецко-египетский пароход «Перваз-Бахри». Службу закончил командиром Санкт-Петербургского порта.
Его младший брат Иван Бутаков совершил кругосветное плавание на знаменитом фрегате «Паллада». Особо заметим его участие в Американской экспедиции русского флота, когда в 1861 году российские моряки пришли на выручку США, отстаивавшим свою территориальную целостность.
В годы Первой мировой войны на русском флоте служили сразу семь Бутаковых — из них два контр-адмирала, два капитана 1-го ранга, капитан Корпуса гидрографов, прапорщик по адмиралтейству и мичман Григорий Александрович Бутаков, продливший старейшую флотскую династию аж до 1978 года. В годы Великой Отечественной войны капитан 1-го ранга Бутаков командовал отдельным дивизионом канонерских лодок.
Когда я узнал о подводнике, контр-адмирале Григории Лукиче Бутакове, я был уверен, что он тоже из этого блестящего семейства Бутаковых. И хотя Григорий Лукич отрицает это, я не верю в простое совпадение сразу четырёх наследственных черт: имени, фамилии, морской профессии и адмиральского чина. Не зря в Японии всех однофамильцев считают родственниками и даже запрещают браки между носителями одной и той же фамилии.
Как бы там ни было, нет сомнений, что род Бутаковых с гордостью причислил бы к своему древу и подводника-атомщика Бутакова, родившегося в далёком уральском селе в семье простых крестьян.
Григорий Бутаков:
— Американцы остервенели. Вертолёты подняли, стали нащупывать меня, наверное, где-то хватанули… Двое вели, а третий проверял слежение вместе с «Орионом». Ну, я опять своим излюбленным приёмом — ушёл под один из кораблей. Они наконец поняли, где я от них прячусь. И этот фрегат, под который я ушёл, рванул вперёд. Он даёт 15 узлов, и я тоже. Он 20 — и я 20. Он 30 — и я 30. Так и ходили, пока поблизости не оказалась большая цель. Потом застопорил турбины, стал слушать. Транспорт какой-то шёл в Сиэтл — я под него. И снова вернулся на исходную. Мне самое главное, чтоб меня в открытый океан не выгнали. Там-то они разгуляются, буёв набросают, никуда не уйдёшь. А здесь в узкости, в стеснённых обстоятельствах можно было играть в кошки-мышки. Как говорят китайцы, безопаснее всего в пасти тигра. Вот я в этой пасти и прятался. Главное, что успел задание выполнить. Шумы «Мичигана» у нас уже были на магнитофоне…
Так что несмотря на хвалёную противолодочную оборону, можно было работать у входа в американские базы.
Всё-таки экипажи у нас в то время были очень хорошо отработаны. У меня получалось в морях по двести суток в год. Кораблей много поступало, надо было их отрабатывать… Вот и ходили. Даже в тот год ходил я аж на трёх лодках.
Из того похода мы вернулись в базу 20 октября — все живые и здоровые. К нам на лодку примчался начальник штаба дивизии, глянул в наши отчёты: «Вы что там натворили?! Немедленно журнал переписывайте!» А как его перепишешь, там у нас столько эпизодов было, не успевали фиксировать.
О приключениях «Щук» в годы Холодной войны можно было бы написать целую книгу. За несколько месяцев до похода Бутакова на К-360 его однокашник по Тихоокеанскому высшему военно-морскому училищу капитан 2-го ранга Вадим Терёхин ходил «под Америку» с другой стороны — со стороны Атлантики. В Карибском море терёхинская К-324 намотала на винт секретнейшую американскую буксируемую кабель-антенну, из-за которой едва не разразился вооружённый конфликт с кораблями США.
Годом спустя пятёрка «Щук» отправилась в Центральную Атлантику курсом к берегам США, переполошив все противолодочные силы американских ВМС.
«Щукари» Холодной войны достойно продолжали боевые дела подводников Великой Отечественной, водивших свои «Щуки» в глубины Балтики, северных морей, Чёрного моря. Вот только «Щуки» новейших лет были намного зубастее и грознее.
Страна так и не узнала о подвиге бутаковского экипажа. Даже на родном Тихоокеанском флоте мало кто знал, какой ценой были добыты ценные разведданные. Да, впрочем, они и сами-то не считали свой поход выдающимся деянием — обычная подводницкая работа.
И только командующий 2-й флотилией Герой Советского Союза вице-адмирал Эдуард Балтин знал, чего стоили те 20 тысяч подводных миль и эта маленькая магнитофонная кассета с шумовым «портретом» «Мичигана». Именно он подписал представление командира К-360 на звание Героя Советского Союза. Жаль, что в высоких штабах так и не дали ход этому документу. Слишком молод командир, показалось кому-то. Как будто на войне кто-то смотрел на молодость и даже юность героев. Но Бутаков-то помнит о том наградном листе. И даже та, не вручённая Звезда, греет ему порой душу.
Сегодня контр-адмирал запаса Григорий Лукич Бутаков работает в одной медицинской фирме, которая занимается инновационными исследованиями.
Старший штурман К-360, а ныне капитан 1-го ранга Юрий Прокопьевич Ерёмин ныне возглавляет морской корпус имени Петра Великого в Санкт-Петербурге.
Бывший командир вычислительной группы Евгений Симонов стал одним из преуспевающих бизнесменов Санкт-Петербурга. И даже купил себе дом (знай наших!) в Нью-Йорке, в той самой Америке, на которую так и не смог посмотреть в перископ в 1984 году.
Это было бы фантастическим зрелищем, если бы его можно было увидеть со стороны: на могучих океанских волнах, поднятых тайфуном, плавно переваливался огромный плавучий город-аэродром — первый в мире атомный авианосец «Энтерпрайз», а под ним — полуста метрами ниже — следовала, слегка покачиваясь в глубине от разгулявшегося шторма, советская атомная подводная лодка К-10. Эта зыбкая конструкция из десяти атомных реакторов, ракетных контейнеров, самолётных ангаров, многоярусных палуб, отсеков, рубок, кубриков, кают неспешно двигалась сквозь ураган в сторону Южно-Китайского моря, откуда американские авианосцы выпускали самолёты, бомбившие Вьетнам. Люди, разнесённые по «этажам» своих атомных монстров, пока что мирно сосуществовали друг с другом: американские коки готовили к обеду жареных цыплят, а русские варили флотский борщ. Они вглядывались в шкалы своих приборов и экраны гидролокаторов, несли вахты на рулях и у ядерных реакторов… Причём те, кто был наверху и стонал от приступов морской болезни, не подозревали о тех, кто неслышной и незримой тенью следовали под ними. Иначе бы они уничтожили их в мгновение ока. Такой была Холодная война в океане спустя всего двадцать три года после нашей общей победы над Гитлером…
Когда капитан 2-го ранга Николай Иванов получил приказ выйти на перехват американской авианосно-ударной атомной группы (АУГ), всё было против него: начиная от родного начальства, которое в спешном порядке «выпихнуло» его в океан, кончая американскими гидроакустиками, чья аппаратура позволяла засекать любую подводную цель за сто миль и дальше. Тем более такую, как атомную подводную лодку К-10, самую шумную из всех атомарин первого поколения. Уяснив задачу, Иванов почувствовал себя, как герой из сказки «Конёк-Горбунок», которому царь дал очередное заведомо невыполнимое задание. «Что, Иванушка, невесел? Что головушку повесил?» Иванушке было легче: в его распоряжении был шустрый, а главное, бесшумный, конёк, даром что горбунок. А у него — «ревущая корова», как прозвали подводники ракетные атомные подлодки 675-го проекта, шумевшая под водой «на пол-океана». Голову, однако, Иванов вешать не стал, а заглянул в штурманскую рубку и сам, благо, в командиры вышел из штурманов, прикинул по карте как и что. Но даже самый общий взгляд не внушал ни малейшего оптимизма. Чтобы выйти на перехват отряда быстроходных атомных кораблей, надо было преодолеть около 800 миль (более полутора тысяч километров). На такой дистанции любое даже самое незначительное отклонение цели от своего главного курса — на один градус или небольшое изменение скорости — приводило к смещению точки встречи на десятки миль, а площадь района нахождения цели превышала полмиллиона квадратных миль. Тем более что данные о первоначальных координатах цели, переданные на К-10 из Москвы, уже устарели на несколько часов. Тем более, что и уточнить их с помощью специальных самолётов-разведчиков не было ни малейшей возможности. Над центральной частью Тихого океана бушевал шторм и погода была стопроцентно нелётной. И всё же Иванов решился на погоню.
— Я надеялся, что все погрешности в определении точки упреждения перекроются тем, что посылки американских гидролокаторов мы услышим миль за сто и точно наведёмся на них.
Но был ещё один риск (да, впрочем, вовсе и не один), — чтобы перехватить американскую авианосно-атомную эскадру, надо было в течение полутора суток идти на максимальных ходах. А это — предельное напряжение всех механизмов, да не где-нибудь — на атомоходе, где случись что — лопни паропровод, замкни кабель — и любая авария может стать радиационной. Известно, как ненадёжны были парогенераторы на лодках первого поколения. Но Иванов принимает решение идти на максимально возможном ходу — 28 узлов (около 50 километров в час). Именно так, на пределе скоростей, догонял свою главную цель капитан 3-го ранга Александр Маринеско в январе 1945 года.
Помимо всех опасений насчёт надёжности техники давило душу и то, что именно в этом районе всего лишь три месяца назад бесследно исчезла подводная лодка К-129. Иванов хорошо знал её командира капитана 2-го ранга Кобзаря, да и многих офицеров этого корабля. Но лодка сгинула, и думай что хочешь. А кружить над подводной могилой товарищей и не думать об этом — невозможно.
За сутки бешеного хода о чём только не передумаешь. Но главная мысль — что же там такое стряслось в мире, если приходится так экстренно и так рискованно идти на перехват? Может быть, уже настал «угрожаемый период» и вот-вот придёт приказ на применение ядерного оружия?
…Шёл 1968-й год — один из самых опасных в послевоенной истории мира. Ещё не погасли толком угли военного конфликта на Ближнем Востоке. Одна за другой погибали в морях по неизвестным причинам подводные лодки — советская К-129, американская «Скорпион», израильская «Дакар», французская «Минерва»… В плену у северокорейцев находился экипаж американского разведывательного корабля «Пуэбло». Советские танки вошли в Прагу. Американские авианосцы вели яростную бомбардировку Вьетнама. И капитан 2-го ранга Николай Иванов вёл свой ракетный атомоход в полном неведении о том, что ждёт его в точке пересечения курсов… Ведь если его так бросили под АУГ — без прикрытия и целеуказания, через пол-океана, как говорили в кавалерии, аллюр три креста, значит, что-то случилось…
С кораблями воюющей державы шутки плохи. Близко подходить к ним, а уж тем более отрабатывать по ним учебные атаки, играть в кошки-мышки, ой как небезопасно. Но именно такая задача и была поставлена Иванову: перехватить «Энтерпрайз» и условно уничтожить его ракетным залпом. В военное время это была бы самоубийственная задача. Атомоходы 675-го проекта могли запускать свои крылатые ракеты только из надводного положения. На это уходило 15–20 минут. Дай бог успеть выпустить последнюю ракету до того, как на тебя обрушится огненный шквал ответного удара! А уж о погружении и благополучном отрыве и думать не приходилось. Задача для смертников или штрафников. Но в экипаже К-10 не было ни тех ни других. Это было великолепное воинское содружество моряков, и потеря его была бы чувствительным ударом для мощи советского ВМФ…
Итак, в Южно-Китайское море на всех парах шёл атомный авианосец США «Энтерпрайз» с 90 самолётами на борту и в сопровождении трёх атомных кораблей — ракетного крейсера «Лонг-Бич», фрегатов «Бейнбридж» и «Траксан», а также обычных эсминцев. «Энтерпрайз» был чемпионом американского флота по числу боевых вылетов в день — 177. Его называли «Королём океанов», им гордились, им устрашали… Наперерез этой атомной армаде была брошена единственная, которая оказалась в относительной близости, атомная подводная лодка с крылатыми ракетами надводного старта. Её командир капитан 2-го ранга Иванов не знал да и не мог знать, что два года назад Пентагон с одобрения президента США и Конгресса разрешил командирам авианосно-ударных групп уничтожать в мирное время советские подводные лодки, обнаруженные в радиусе ста миль от АУГ. Да даже если бы и знал, он всё равно бы продолжал выполнять приказ из Москвы: перехватить, условно атаковать, вести слежение…
— А если б знали тогда, пошли бы на такой риск? — допытываюсь я у своего собеседника.
— Пошёл. Бог не без милости, казак не без удачи, — усмехается Николай Тарасович.
А ведь он и впрямь казак, родом из запорожцев. Вот только та дерзкая атака меньше всего походила на лихой казачий налёт… У Иванова был свой расчёт. В оперативный район надвигался мощный тайфун по имени «Диана». А это обещало прежде всего, что противолодочные самолёты с авианосца в воздух не поднимутся, как не станут летать и самые главные враги подводных лодок — патрульные самолёты наземного базирования. Так оно и вышло.
Иванов прекрасно понимал, как тяжело переносить качку в тесных и душных корабельных рубках, как резко падает бдительность укачавшихся операторов. Ведь даже здесь, на глубине, и то ощущалось могучее дыхание океана. А каково же было тем, кто находился наверху, на вздыбленных волнах? Американские командиры буквально голосили в эфире, сообщая флагману о своих повреждениях и опасениях, что тайфун изрядно покалечит их корабли. Всё это слышал лодочный радиоразведчик в эфире на последнем сеансе связи. АУГ резко снизил скорость движения, а значит, то же самое мог сделать и Иванов, значительно снизив шумность своих турбин. Повышались и шансы на незаметное подкрадывание.
К вечеру акустики К-10 услышали в своих гидрофонах печально-протяжные замирающие звуки — это работали гидролокаторы «Энтерпрайза», зондировавшие ультразвуковыми посылками окрестные глубины.
К вечеру Иванов вышел на рубеж ракетной атаки. Можно было бы провести её условно, просчитать все нужные параметры, красиво нарисовать схемы маневрирования, а потом представить отчёты начальству. Но ведь реально она была неосуществима. Если бы Иванову пришла в голову такая дикая мысль — всплыть и привести ракеты в боевое положение, то «Диана» просто своротила бы поднятые контейнеры. А если бы и в самом деле — война? Так и уходить ни с чем, списав отказ от атаки на погоду?
И капитан 2-го ранга Иванов решает выйти на дистанцию торпедного залпа! А это значит, что нужно подойти к цели намного ближе, чем при ракетном пуске. И К-10 идёт на прорыв боевого охранения атомного авианосца, рискуя быть уничтоженной в случае обнаружения. И прорывает его под прикрытием тайфуна — обойдя корму ближайшего фрегата. А дальше, перейдя на режим минимальной шумности, ловко маневрируя по глубине и курсу, «десятка» выходит на рубеж атаки. В торпедный автомат введены все данные о цели: курс, скорость, осадка… В реальном морском бою торпеда с ядерным боезарядом уничтожила бы не только плавучий аэродром, но и все корабли его охранения. Капитан 2-го ранга Иванов выполнил своё боевое предназначение. Но на этом дело не кончилось.
— Мы находились внутри ордера, когда «Энтерпрайз» немного изменил курс и, можно сказать, накрыл нас своим днищем. Разумеется, мы находились на безопасной глубине, ни о каком столкновении не могло быть и речи. Я мгновенно оценил преимущество нашего нового положения — мы находимся в мёртвой зоне американских гидролокаторов, к тому же шум гребных винтов авианосца надёжно прикрывает наши шумы. Мы неслышимы для кораблей охранения и невидимы для них. И я принял решение идти под «Энтерпрайзом» до тех пор, пока это возможно. Было опасение, что мои люди устали после дикой гонки, после напряжённейшего перехода, но тут замполит капитан 3-го ранга Виктор Агеев объявил по трансляции: «Товарищи подводники, сейчас мы находимся под днищем самого крупного американского авианосца…» И тут слышу, в отсеках «Ура!» кричат. Ну, думаю — это наши матросы, с ними нигде не пропадёшь!
И они не пропали. Тринадцать часов кряду шла ракетная атомная подводная лодка под авианосцем «Энтерпрайз»! Это был высший подводницкий пилотаж. Экипаж К-10, этой воистину великолепной «десятки», чётко выдерживал безопасную глубину и курс. Несмотря на мощный шум авианосца — воду над лодкой молотили восемь гребных винтов и выли восемь турбинных установок, — акустики сумели взять пеленги на все корабли охранения, и Иванов провёл ещё серию торпедных атак — и по атомному крейсеру, и по атомным фрегатам, и по эсминцам — до полного «израсходования» торпед. Более того, акустики записали на магнитофон характерные шумы всех кораблей АУГ.
И лишь когда шторм пошёл на убыль, а авианосная эскадра прибавила оборотов, Иванов плавно увёл свою лодку из-под нависавшего над ней «футбольного поля». Оставаясь в кормовом секторе «Энтерпрайза», он столь же скрытно, как и проник в ордер походного охранения, вышел за пределы дальней зоны обнаружения. И только тогда всплыл и провёл ту самую ракетную атаку, которую сорвал тайфун «Диана». Да не одну, а по полной и сокращённой схемам.
Позже в боевом листке, вывешенном в центральном посту, появились стихотворные строки (Иванов и по сию пору помнит их наизусть):
Можно только догадываться, какого нервного напряжения, каких душевных и физических сил стоил тот невероятный командирский успех. Невероятный уже потому, что подводная лодка, насмешливо прозванная «ревущей коровой», сумела незамеченной поднырнуть под красу и гордость американского флота — новейший по тому времени и единственный в мире по своему техническому совершенству корабль, наречённый «королём океанов», блестяще провести серию условных атак и благополучно выйти из опаснейшей игры. Заметим также, что вся королевская рать, то есть атомный крейсер «Лонг-Бич», атомный фрегат УРО «Бейнбридж», были не просто случайным сборищем кораблей, а хорошо сплаванной эскадрой, которая в 1964 году сумела обогнуть земной шар в совместном кругосветном плавании. Именно «Энтерпрайз» был брошен в 1962 году в Карибское море как главный козырь в большой политической игре вокруг Кубы и советских ракет. Ко всему прочему экипаж «Энтерпрайза» обладал реальным боевым опытом войны против Вьетнама… И вдруг — «ревущая корова» под днищем «короля океанов»!
Это был позор и для командования авианосца, равно как и для флага новой владычицы морей — Америки. За этот позор должностные лица ВМС США отвечали перед комиссией Конгресса по безопасности. Была срочно изменена тактика действий АУГ, в частности, в состав кораблей охранения стали включать и атомную подводную лодку, которая должна была обеспечить прикрытие нижней полусферы авианосной эскадры, то есть обезопасить её от удара из-под воды.
Подводная лодка К-10 благополучно вернулась в родную базу на Камчатке — посёлок Рыбачий. Экипаж Иванова встретили, как положено после «автономки» — с оркестром. Потом начальство долго выясняло, не было ли со стороны командира лихачества и неоправданного риска. Карты и схемы маневрирования К-10 изучались последовательно — в штабах 29-й дивизии, потом в 15-й эскадре, потом во Владивостоке, в штабе Тихоокеанского флота, наконец дело дошло и до Главного штаба ВМФ в Москве. Никто не смог найти в маневрировании подводного ракетоносца ничего предосудительного. В Рыбачий пришёл вердикт: капитана 2-го ранга Иванова и других отличившихся подводников наградить. 36-летнего командира представили к званию Героя Советского Союза. Его подвиг оценили все, кроме политработников. Начальник политуправления наложил свою резолюцию: «Иванов — командир молодой, и все награды у него впереди». В чём-то он оказался прав, этот ценитель чужого мужества, Иванов потом получил и орден Красной Звезды, и орден «За службу Родине в ВС СССР». Но Золотая Звезда так больше и не просияла отважному подводнику. А за ту воистину звёздную свою атаку Иванов был награждён, по иронии судьбы и неуклюжести начальства, сразу тремя биноклями: от командира эскадры, командующего Тихоокеанским флотом и Главкома ВМФ СССР. Что называется, зри, командир, в корень… Хорошо ещё, что не тремя электробритвами. Тоже ведь — «ценные подарки» в родимой наградной системе.
Первым открыл России и миру подвиг командира К-10 и его экипажа бывший сослуживец Иванова капитан 1-го ранга Геннадий Дрожжин. В журнале «Капитан» он писал о той дерзкой атаке: «…Выполнить всё это стоило такой выдержки, мужества, хладнокровия и напряжения ума, что людям, далёким от всего этого, „не понять, на весах не взвесить“, как сказал поэт. Это теперь, когда уровень автоматизации достиг такой степени, что 90% расчётных работ берёт на себя электроника. А тогда, более тридцати лет назад, на лодках превалировала электромеханика, а электроники было относительно немного. Вместо неё приходилось „включать“ мозги… От умения наблюдать, анализировать, обобщать, принимать решения на основе сделанных выводов зависело всё. И, конечно же, надо было хорошо владеть вычислительной математикой, уметь считать и оценивать вероятности…»
Дрожжин же назвал ивановскую атаку последней «атакой века» двадцатого столетия, уподобив её деянию командира С-13 Александра Маринеско. И с ним нельзя не согласиться.
«И хотя атака эта („Ка-десятой“. — И.Ч.) была виртуальной, — справедливо утверждает Геннадий Георгиевич, — без фактического применения оружия, по своей неординарности, накалу нервного и физического напряжения экипажа подводной лодки, оперативно-тактическому мастерству командира её, по значению для Военно-морских сил СССР и США она вошла в мировую историю подводного флота, в частности, в период Холодной войны, как „атака века“. Это была последняя „атака века“ прошедшего»…
За долгие годы Холодной войны были и другие дерзкие прорывы советских подводных лодок к американским авианосцам — так, в 1966 году атомная подводная лодка К-181 под командованием капитана 2-го ранга В. Борисова свыше четырёх суток следила за американским авианосцем «Саратога», а в 1984 году атомная подводная лодка К-314 (командир капитан 1-го ранга А. Евсеенко) сумела подобраться под днище авианосца «Китти Хок», — но всё же пальму первенства следует отдать Николаю Иванову: по числу преодолённых форс-мажорных обстоятельств, по дерзости и скрытности, по красоте манёвра К-10 не имеет себе равных.
Мне довелось видеть этот самый «Энтерпрайз» в Аннаполисе у его родного причала. Он до сих пор находится в боевом строю, несмотря на свой 40-летний возраст (у нас же авианосные корабли списывали в утиль как устаревшие даже после 15 лет эксплуатации). А «Энтерпрайзу» срок службы продлён аж до 2013 года. Мне довелось увидеть и знаменитую К-10, увы, на корабельном кладбище близ Петропавловска в ожидании разделки на металл.
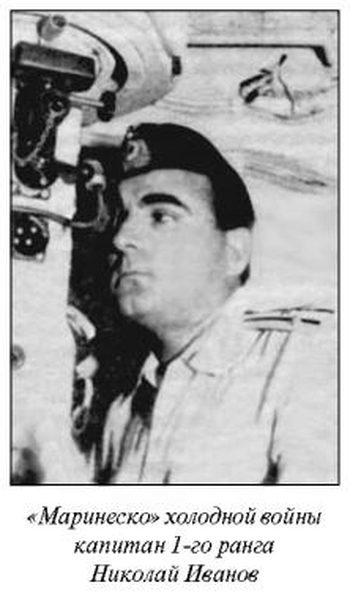
Адрес «Маринеско Холодной войны» я узнал от автора другой уникальной атаки — контр-адмирала Валентина Степановича Козлова, который ещё в 1959 году сумел подойти на дистанцию торпедного залпа к американскому крейсеру «Де-Мойн» с президентом США Эйзенхауэром на борту. Есть в том своя логика, что эти два моряка, люди одной легенды, дружат между собой.
Контр-адмирал в отставке Николай Тарасович Иванов живёт на новостроечной окраине Санкт-Петербурга. Когда я с трудом отыскал его дом, над ним вдруг прокричала чайка, прилетевшая с Финского залива…
Дверь открыл невысокий седой человек с палочкой, в котором ничего не выдавало аса подводной войны. Разве что глаза — серо-стальные, острые и… грустные. О делах минувших дней он рассказывал нехотя, ничуть не рисуясь и ничего не приукрашивая. Поверх книжных полок лежал старенький секстан. Достал Иванов и один из трёх наградных биноклей — от Главнокомандующего ВМФ Адмирала Флота Советского Союза С. Горшкова, развернул походные карты и фотографии. Мы невольно стали итожить прожитую жизнь. И состояла она из номеров подводных лодок, на которых довелось служить Иванову, из дат дальних и сверхдальних походов (один из них сразу вокруг пяти континентов на дизельной подлодке Б-71), имён командиров и друзей, как погибших, так и ныне здравствующих. Николай Иванов прослужил на Камчатке 27 лет. Когда кадровики, начисляя пенсию, подсчитали его выслугу, ахнули — 80 лет! Таких и пенсий-то никому не назначали. Стали мудрить, как бы срезать сумму — в интересах государственной казны, разумеется. Да так и не смогли этого сделать. И законы, и документы оказались на стороне необычного ветерана. Не было у него никаких покровителей и высокопоставленных родственников в столицах. Потому и служил, где Родина повелела. И океаны «пахал» честно, как отцы и деды поля в родной Ново-Константиновке, что и сейчас ещё стоит на берегу Азовского моря в Запорожской области. Адмиральские звёзды на погонах достались ему как никому другому — и выстраданно, и выслуженно…
На последнем жизненном рубеже донимают Николая Тарасовича болезни, а пуще того — горькие мысли о судьбе российского флота. А живёт он радостью, что доставляют ему правнуки (одного из них назвали в его честь — Николаем), да запечатлённой на фотоснимках памятью той поры, когда он вёл свою «Ка-десятую» в ту немыслимую и, как стало ясно теперь, легендарную атаку на «Энтерпрайз».
Голубое безоблачное небо над океаном перекрещено белыми самолётными следами наискось, точно Андреевский флаг.
Полётная палуба противолодочного крейсера «Киев». Самолёты вертикального старта. Вот один из них — ярко-синий иглоносый ракетоплан — выкатывается на площадку, обожжённую реактивным пламенем. Адская какофония вертикального взлёта начинается с тихого, быстро нарастающего воя, который затем заменяется пронзительным звенящим визгом, утопающим вскоре во вселенском рёве, от которого меркнет в глазах свет и начинает вибрировать грудная клетка.
За пилотской кабиной вздыбливается «загривок» воздухозаборника, и свирепый рёв подъёмно-маршевых двигателей вбуравливается в уши. Из разверзшегося зеленостворчатого брюха ударяет в палубу сноп пламени, и самолёт, расщеперившийся, словно взлетающий майский жук, приподнимается на трёх огнеструйных столпах. Миг надрывнейшего рёва — колёса отрываются от палубы; машина неуверенно — колёсам нужна твердь, — покачав, поболтав ими, порыскав, будто вынюхивая что-то, носом, медленно вздымается всё выше и выше и наконец зависает на высоте человеческого роста, оглашая всё вокруг ракетным грохотом.
Есть что-то бредовое, сюрреалистическое в этом зрелище: неподвижно висящий в воздухе самолёт, исторгающий чудовищный, рвущий барабанные перепонки рёв. Весь твой прошлый опыт протестует, возмущается: не верь глазам своим, что-то тут не так, ибо этого не может быть! Ну, просто как у Чуковского — «рыбы посуху гуляют, жабы по небу летают».
Но вот самолёт плывёт над палубой, уходит за её край и, быстро наращивая скорость, уносится, поджав закрылки и ноги-шасси…
После схлынувшего рёва рокот трактора покажется шёпотом ангела. Так они взлетают, и так они садятся. Но в жизни случается иногда такое, что потом долго не укладывается в сознании и чему не могут поверить даже специалисты…
Первые подробности этого беспрецедентного случая: в открытом океане самолёт с вертикальным стартом из-за каких-то технических неполадок не смог осуществить посадку на палубу корабля. Лётчик обязан, был катапультироваться, но решил спасти машину… Лётчик — майор Василий Петрович Глушко, 1951 года рождения, пилот 2-го класса.
К этим небогатым анкетным данным могу теперь добавить, что волосы у Глушко кучерявые, глаза карие, характер спокойный, общительный, а родом он из запорожских казаков…
Мы сидим с Глушко в кубрике дежурных экипажей, и, пока специалисты налаживают видеомагнитофон с записью посадки, Василий рассказывает:
— Летели группой. Нормально отстрелялись. На посадку заходил третьим. Вдруг на панели погасла лампочка, которая должна гореть. Доложил руководителю полётов. Был бы берег поближе, можно было бы сесть на запасной аэродром. А тут океан. Надо прыгать. В зоне корабля, как всегда, натовский самолёт-разведчик крутится. Такая злость меня взяла: кувыркаться на глазах супостата! Он же заснимет всё: как самолёт в воду падает, как лётчика вылавливают… Ну уж нет! Чувствую, что посажу. Не знаю как, но посажу! Уверенность такая была. Старые лётчики учили: принял решение — доводи до конца, начнёшь метаться — погибнешь. Решился, и сразу мысли, как на табло: «коснуться палубы ближе к корме», «сброс оборотов», «тормози!» Наши все сели. Самолёты вниз убрать не успели — оттащили их ближе к надстройке. Захожу на посадочную глиссаду. Корма всё ближе и ближе. Сгруппировался…
Тут заработал телевизор, и на экране возник звездообразный фас заходящего на посадку самолёта. Он мчится на оператора с огромной скоростью, кормовой срез пересекает на высоте человеческого роста. Резкий клевок. Самолёт, едва не ткнувшись носом в палубу, подскакивает, плюхается, и вдруг его резко бросает вправо, прямо на прижавшуюся к надстройке машину. Там под стеклянным фонарём ещё сидит не успевший выбраться из кабины лётчик…
Мгновение — и самолёт круто отворачивает в сторону. Задымились шины, мёртво схваченные тормозами. Машина пошла юзом, растирая о палубу свою смертельную скорость, и замерла в каком-то метре от крыла соседнего самолёта…
И на корабль упала тишина.
Первым подбежал к самолёту техник — старший лейтенант Сергей Глушаков. Это важно отметить, потому что машина слегка дымилась, в любую секунду она могла полыхнуть взрывом — мало ли как поведут себя после аварийной посадки двигатели?! Это уже потом выяснилось, что дымились шины, а тогда Сергей, не раздумывая — рванёт, не рванёт, — бросился к лётчику, взлетел по стремянке, откинул фонарь.
— Молодец! — только и крикнул он Глушко, помогая освободиться от ремней.
Пошатываясь, Василий прошёл в кубрик дежурных экипажей, куда уже спустился вице-адмирал, наблюдавший посадку.
— Товарищ вице-адмирал…
Старый моряк прервал доклад крепким объятием. Потом Глушко окружили со всех сторон, поздравляли, жали руки. Кто-то уже требовал писать объяснительную записку.
— Подождите, дайте пообедать! — отмахнулся Глушко. Но есть не стал, выпил лишь стакан компота…
Так уж получилось тогда, что всё внимание, все, как говорится, лавры достались лётчику, а фигура другого человека, разделившего с Глушко в известной мере и риск и успех операции, оказалась в тени. Я имею в виду руководителя полётов майора Колесниченко. Будь он офицером, мягко говоря, более осторожным, опротестуй решение лётчика, запрети дерзкий эксперимент — ничего бы не было, как не было бы ценной машины, а главное — осталась бы неизвестной причина отказа техники… Но Колесниченко недаром считается асом корабельной авиации. Сам не раз с честью выходил из трудных ситуаций, в этот раз вот поверил в земляка: «Глушко — посадит!»
Когда в воздухе много машин, руководителю полётов (РП) приходится работать с чёткостью жонглёра. Перед глазами — экран радара с россыпью отметок; в ушах — хор докладов и запросов. К тому же на рабочую волну то и дело прорывался чей-то джаз, и во всём этом орище надо было сразу же выделить доклад о погасшей лампочке, оценить технические последствия сигнала, произвести прикидочные расчёты, чтобы представить, как будет проходить посадка…
В эфире финал операции выглядел так.
РП: Четыреста двадцать третий, спокойно. Будем садиться… Удаление?
423-й (позывной Глушко): Удаление три километра.
РП: Проверь скорость… Поддерживай ножкой!
423-й: Поддерживаю.
РП: Четыреста двадцать третий, проверь скорость!
РП: Скорость, четыреста двадцать третий!!!
РП: Придержи вертикальную. Вертикальную!..
Глушко не отвечал. Он уже нёсся над палубой.
РП: Тормози! Тормози!.. Выключай двигатели!
Самолёт ударился передней стойкой шасси о палубу, стойка выдержала, немало погасив при ударе скорость. Второй подскок также приостановил машину. Вовремя наложенные тормоза — и реактивный самолёт, при посадке пробегающий по земле многие сотни метров, вместил свой бег в считанные десятки шагов. В этом-то и состояла уникальность посадки — не на авианосец, на противолодочный крейсер, полётная палуба которого — отнюдь не посадочная полоса, а площадка для подъёма вертолётов и машин вертикального старта. Никто ещё в мире так не садился. И, безусловно, в историю авиации посадка эта войдёт с именем лётчика, как и петля Нестерова, как штопор Арцеулова…
Потом удивлялись: «если бы он коснулся палубы чуть позже…», «если бы лётчик соседней машины не успел поднять консоли…», «если бы руководитель полётов не сумел понять, что за лампочка…». Но удивляться тут нечему: все эти случайности, из которых сложился успех невероятной посадки, пронизаны одной закономерностью — мастерством экипажа.
Нет такого знака зодиака, который предрекал бы рождение лётчика. В самой обыкновенной рабочей семье родился мальчик — меньшой из четырёх братьев, который вдруг страстно потянулся в небо. Для этого «вдруг» были свои причины. Старший брат Василия Глушко — Владимир — во время службы в армии первым из рода потомственных металлистов шагнул в небо. Шагнул в прямом смысле — с борта десантного самолёта — и раскрыл над головой парашютный купол.
Муж тётки, сестры отца, лётчик Погрибной бомбил во время войны Берлин. Погиб в воздухе.
Отец Василия, Пётр Тимофеевич Глушко, листопрокатчик «Запорожстали», служил на Тихоокеанском флоте, а до войны учился ремеслу у матроса с броненосца «Потёмкин» Пазюка, вернувшегося из эмиграции в родное Запорожье. Ветры морские и ветры небесные кружили над хатой, что на Типографской улице.
В аэроклуб Вася Глушко пришёл восьмиклассником. Сказали — подрасти, принимаем с восемнадцати лет. Его приняли семнадцати. Настоял. Добился. Работал помощником кузнеца — ковал заготовки для токарных резцов. Известно, работа с железом металлизирует и характер. Характер нужен был крепкий, чтобы твёрдо следовать избранному принципу: «Первым делом, первым делом самолёты…»
Ни одна запорожская дивчина не могла похвастаться тем, что завладела тогда сердцем широкоплечего кудрявого парня. Все свободные вечера, все выходные уходили у него на занятия в аэроклубе. Свою суженую нашёл лишь тогда, когда «встал на крыло», в одном приаэродромном городке…
Первый полёт Глушко совершил не через год после начала учёбы, как все курсанты, а через месяц. Случилось это так. Однажды увидел, как на краю поля сел «кукурузник». Подбежал. Никогда в жизни ещё не видел так близко настоящий самолёт.
— Дядя, а это у вас элерон? — неуверенно потрогал закрылок.
— Элерон, — усмехнулся пожилой лётчик. — А ты откуда знаешь?
— Я в аэроклубе учусь.
— Ну, тогда залезай.
Сел в кресло правого пилота. Дядя Саша — так звали лётчика — командует:
— Подбери ноги! Руки на грудь. Подальше от управления!
Взлетели. Первый полёт в жизни. До сих пор Василий сладко жмурит глаза: «Чую — лечу!»
Вдруг:
— Ну-ка, давай! Ноги на педали! Бери штурвал! Горизонт по капоту.
Знал бы тогда дядя Саша, кого он «вывез в небо»… Глушко считает его самым первым своим учителем.
Окончив полный курс обучения в системе ДОСААФ, младший лейтенант запаса Василий Глушко написал рапорт военкому: «Прошу призвать меня на службу в Военно-Воздушные Силы СССР. Готов служить в любой точке Родины». Потянули сверхзвуковые скорости, большие высоты, новые земли…
В казахстанские степи уезжал с молодой женой Людмилой, студенткой техникума. Люда защищала диплом, а Василий сдавал экзамены за курс военного авиационного училища — экстерном.
Полковник Харитенко. Вот второй наставник, которого Глушко вспоминает чаще всего. Именно Харитенко сделал из него не просто лётчика — воздушного бойца, именно Харитенко дал ему рекомендацию в партию. Принимали Василия по-фронтовому — на аэродроме, после сложных полётов.
В 1975 году Глушко вырезал из «Красной Звезды» фотоснимок необычного корабля — на его палубе стояли самолёты. Противолодочный крейсер «Киев». Самолёты, едва видные в газетном растре, Василий рассматривал с лупой, пытался определить тип машин, но не мог припомнить ничего похожего.
Людмила нечаянно нашла снимок в бумагах мужа. Поняла всё сразу.
— Учти, Вася, я выходила замуж за лётчика, а не за моряка.
Запоздалое предупреждение. Глушко бомбардировал письмами штаб морской авиации: «Прошу перевести меня на крейсер „Киев“. Готов выполнить любое задание Родины!»
Когда в их степном гарнизоне появился подполковник в чёрной флотской форме, у Глушко тревожно запрыгало сердце. На собеседование его пригласили в числе первых.
— А как семья? — спросил подполковник. — На край света поедет? Мы в море не на неделю выходим. И даже не на месяц. Жена ждать будет?
Глушко замялся с ответом, припомнив давний разговор с женой, и флотский авиатор поставил против его фамилии непонятную «галочку».
Вечером состоялся большой семейный совет. Людмила, умница, не стала перечить: «Служи там, где считаешь нужным. А если придётся разлучаться, мы со Стасиком тебя будем ждать». Стасику шёл третий год.
Василий расцеловал жену и с четырёх утра стал поджидать моряка у выхода из гостиницы.
— Товарищ подполковник, зачёркивайте «галочку». Жена согласна на все сто!
Собрали чемоданы и уехали «далеко, далеко, где кочуют туманы». Мечталось о голубой иглоносой машине, стартующей, подобно ракете, с места, а осваивать пришлось вертолёт. Надо было прежде всего привыкать к новым режимам полёта: зависанию, вертикальному подъёму…
Фуражку с голубым околышем сменил на чёрную «мичманку», армейские правила — на морские заповеди, главные из которых звучали так: «В океане запасных аэродромов нет», «В море — дома, на берегу — в гостях»…
На корабле в жизнь капитана Глушко вошёл новый учитель — майор Кондратьев. Он-то и поднял Василия на «спарке» в небо над океаном. Летели, будто зависли в голубом шаре: синь небес сливалась с синью моря. Первые впечатления — чертовски красиво и… ни одного ориентира.
Почти заново пришлось изучать и аэродинамику, и тактику, и даже морские лоции. В мае 1978-го первый самостоятельный старт с палубы. В который раз поразился, каким же маленьким выглядит корабль с воздуха и как коротка полётная палуба! Тогда жутковато было опускаться на неё даже по вертикали.
А теперь вот и пробежался по ней колёсами.
Долгое время Глушко удручало то, что по сухопутной привычке назвал адмирала флота «товарищ маршал», когда представлялся начальнику Главного штаба ВМФ.
— Ничего, ничего, — ободрил адмирал флота. — Привыкните. А за посадку спасибо! Какие планы на жизнь?
— Научиться взлетать и садиться с укороченным разбегом.
— А потом?
— Потом — в академию!
В каюте Глушко висит портрет «отца русской авиации» Жуковского, календарь «600 лет Куликовской битвы» и рисунок Стасика «Папа взлетает с корабля». Незадолго до похода родился второй сын — Василь Василич. В Новый год Людмила подарила (передала заранее замполиту) театральный бинокль и банку черничного варенья. Смысл первого подарка — что за моряк без бинокля?! И намёк: почаще бы нам в театр выбираться. Назначение второго — ешь чернику, она обостряет зрение, то есть смотри там в оба, будь осторожен.
Глушко совершил памятную посадку в день своего рождения — 14 января. Кто-то сказал: «Родился в рубашке».
— В тельняшке! — поправил Глушко.
Корабль был ещё в море, когда пришло сообщение о награждении майора Глушко орденом Красной Звезды. Радиограмма быстро превратилась в «молнию», листок которой вывесили в кубрике дежурных лётчиков: «За мужество и отвагу, проявленные при освоении новой техники, наш товарищ удостоен высокой государственной награды…»
Орден Василию вручали на палубе крейсера. Обмывали награду, как положено, опустив её на дно фужера. Только вместо шампанского — откуда его возьмёшь в океане? — налили яблочный сок. Потом, по морскому обычаю, Глушко кортиком проколол дырку на парадной тужурке и привинтил к ней тяжёлую тёмно-вишнёвую звезду. Если внимательно в неё вглядеться, то увидишь в лучах фас заходящего на посадку самолёта.
Индийский океан и аравийские пустыни, блок-посты и кордоны, выставленные охранкой Саддама Хусейна, все преграды преодолел на своём пути к любимой офицер советского флота в 1977 году.
В Индийском океане старший лейтенант Геннадий Нероба получил почти что убийственное сообщение: «Ваша жена находится в тяжёлом состоянии». И всё, и никаких пояснений, никаких подробностей — думай, что хочешь: то ли под машину попала, то ли скоропостижная болезнь… Старший лейтенант Нероба спал с лица. В глазах такая тоска застыла — хоть за борт бросайся и плыви к любимой подруге.
Всего три года, как они с Наташей сыграли в Житомире свадьбу. Статная черноокая дивчина, соседка по дому, расцвела в один год — в тот самый, когда курсант Высшего военно-морского училища радиоэлектроники прибыл на каникулы в родной Житомир. Гуляли они по берегу реки Тетерев, бродили по песку среди сосен Корбутовки, а потом он и сказал ей эти самые главные слова, которые мужчина, если он настоящий мужчина, дарит женщине лишь однажды…
Что с ней случилось? Жива ли? Выживет ли? И не перезвонить, и не уточнить, хотя под его, Геннадия Неробы, началом находилась самая мощная и современная аппаратура связи, включая ретрансляторы министра обороны. Но сапожник всегда без сапог, как связист — без личной связи. Нечего было и думать об уточнении ситуации по радио. Шла Холодная война, и на борт корабля управления «Даурия», на котором боевую часть связи (БЧ-4) возглавлял старший лейтенант Нероба, только что перебрался походный штаб 8-й оперативной эскадры Индийского океана во главе с контр-адмиралом Ясаковым.
Содержание шифровки, пришедшей из Москвы от оперативного дежурного ВМФ СССР насчёт жены Неробы, командиру эскадры доложили, разумеется, самому первому, и теперь адмирал ломал голову, как поступить. Обычно извещения о болезни и смерти близких родственников морякам на боевую службу не высылают. С войны, даже если она и «холодная», отпусков по семейным обстоятельствам не бывает. Ну как ты выберешься с Индийского океана в Житомир, если срок боевой службы определён на восемь месяцев? Два уже прошло, через полгода всё узнаешь и бросишь сам себе с горьким упрёком: «Эх, моряк, ты слишком долго плавал…»
Как прорвалась эта печальная весть из Донузлава, где служил Нероба, через штаб Черноморского флота в Москву — на узел связи оперативного дежурного по всему огромному — всеокеанскому — флоту СССР, а оттуда — в Индийский океан, оставалось только гадать. Ведь Нероба был самым обычным офицером, женатым вовсе не на адмиральской дочери и не состоявшим в родстве с членами Политбюро или хотя бы ЦК КПСС. Но не зря же говорят, что любовь творит чудеса, даже в таких немыслимых сферах, как система боевого управления флотами.
Командир 8-й эскадры контр-адмирал Ясаков, человек отнюдь не склонный к сентенциям подобного рода, здраво рассудил: от убитого горем офицера, у которого умирает жена, толку будет мало, и запросил Москву, может ли он отпустить старшего лейтенанта Неробу домой. Москва в лице ОД ВМФ (оперативного дежурного) ответила, что этот вопрос может решить только Главнокомандующий флотом или его первый заместитель. Ясаков попросил доложить кому-нибудь из них о ситуации с Неробой. В подтексте шифровки это звучало примерно так: «Вы зачем-то передали нам информацию о тяжёлом состоянии гражданки Неробы, вот вы и решайте проблему в Москве». Оперативный дежурный весьма оперативно вышел на первого заместителя Главнокомандующего адмирала флота Николая Ивановича Смирнова, тот дал «добро» на возвращение Неробы с боевой службы. Но как это осуществить, никто не знал. Прецедентов не было. Да и «Даурия», находившаяся в северной части Индийского океана, ни в какие иностранные порты заходить не собиралась.
По великому счастью, к её борту подошёл сторожевик, который отправлялся в Персидский залив для пополнения запасов пресной воды в иракском порту Ум-Касре. На сдачу дел и сборы Неробе отпустили не больше часа. Главное, что он успел сделать — это сфотографироваться на фоне простыни в гражданской одежде. Корабельный особист (офицер КГБ) посоветовал переодеться в гражданское платье, а удостоверение личности офицера держать подальше от чужих глаз и предъявлять его в крайних случаях. На сём туманный инструктаж был закончен, и Нероба, побросав в чемодан белую и чёрную тужурки, фуражку и кортик, наскоро попрощавшись с друзьями, перепрыгнул на борт сторожевика.
Через сутки сторожевик ошвартовался в Ум-Касре, где Геннадия встречал помощник военного атташе — капитан 3-го ранга, назвавшийся Альбертом. На своём служебном «фиате» он отвёз Неробу в Басру, ломая по пути голову над проблемой, как оформить иракскую визу иностранному, то бишь советскому гражданину, не имеющему не только заграничного, но и даже внутреннего паспорта.
Первым делом Альберт наведался к начальнику полиции города Басра. Их встретили с восточным радушием и даже подали ледяную «кока-колу», о которой Нероба только слышал, но никогда не пробовал.
— Пока пьём «колу», о делах ни слова, — предупредил Альберт своего спутника, хотя тот ни слова не знал по-арабски.
Начальник полиции, сидевший под большим портретом Саддама Хусейна, перешёл наконец к делу. Он долго листал удостоверение личности офицера, протянутое ему Неробой, потом удивлённо воскликнул
— Но ведь это же не паспорт!
— Не паспорт, — кротко согласился помощник военного атташе.
— О, если бы вы были гражданином Катара или Саудовской Аравии, — сокрушённо воскликнул начальник полиции, — не было бы никаких проблем! Но Советский Союз — это очень непросто… Увы, выдать вам визу не в моих силах.
С тем и вышли они под палящее аравийское солнце.
— Ничего, поедем в штаб иракских ВМС, — обнадёжил его Альберт, — и там возьмём разрешение на въезд в Ирак.
Он подрулил к красивому белому зданию, оставив машину, а в ней Неробу, перед шлагбаумом под сенью пальм. Вокруг текла неспешная и весьма экзотичная жизнь, из штаба флота выходили чиновники, и матросы в белой униформе кланялись им, сновали торговцы питьевой водой со своими диковинными кувшинами, заунывный вопль муэдзина нёсся с минарета… Мыслями Геннадий был далеко отсюда — что с Наташей? Жива ли? С ней оставался полуторагодовалый Павлик — с кем он сейчас?
Ждать пришлось очень долго. Наконец Альберт вернулся. По хмурому лицу легко можно было догадаться об исходе его переговоров с начальником штаба иракских ВМС.
— Он поставил совершенно неприемлемые условия, — сетовал помощник военного атташе, давя на газ, — просил, чтобы ему гарантировали трёхлетнее обучение в Ленинградской военно-морской академии и защиту кандидатской диссертации… Поедем в наше консульство.
Советский генеральный консул в Басре был немало озадачен возникшей проблемой. Визу старшему лейтенанту Неробе могли оформить только в Багдаде. Но до Багдада — шестьсот километров. Преодолеть их без документов даже на машине с дипломатическим номером было весьма непросто. Особенно после того, как Неробу засветили в полиции и штабе ВМС. Местная контрразведка уже насторожила уши. Поразмыслив, генеральный консул снабдил моряка диковинным документом, изготовленным на бланке советского консульства. Арабская вязь извещала, что предъявитель сей бумаги, гражданин СССР Геннадий Степанович Нероба, следует в Багдад для оформления визы и покупки авиабилета для возвращения на родину. Для пущей убедительности на бумажку была наклеена фотокарточка с унылой физиономией, снятой на фоне корабельной простыни.
Зелёный «фиат» Альберта с одиноким и очень грустным пассажиром рванул из Басры на север. Геннадия не радовали ни живописные берега реки Шатт-эль-Араб справа, ни водная гладь огромного озера Хор-эль-Хаммар — слева. Ничто не могло сравниться с рекой Тетерев, породнившей их с Наташей три года назад… На мосту через Евфрат их машину задержал первый контрольный пост. Рослый офицер, явно из «шестёрки» — Шестого управления иракской охранки, — даже не взглянув на диппаспорт Альберта, унёс в будку «аусвайс» Неробы, куда-то звонил и после согласования с начальством в Басре дал разрешение следовать дальше. Но через сто километров дорогу снова перекрыл шлагбаум, и вся процедура с проверкой странного пассажира повторилась заново.
— Какой у тебя допуск секретности? — спросил Альберт.
— Первый, — мрачно ответил Геннадий.
— Ни фига себе! — присвистнул помощник военного атташе. Ему стало не по себе при мысли, что его подопечного, имеющего доступ к высшим секретам Военно-морского флота СССР (по системам связи), могут высадить из машины и увезти в неизвестном направлении. Альберт очень остро ощутил, как близка к закату его звезда военного дипломата.
— А ведь они наверняка считают, что я вывожу разведчика-нелегала… — рассуждал он вслух. — И задержат тебя скорее всего перед самым въездом в Багдад…
От такой перспективы у Неробы, у которого и так кошки, на душе скребли, и вовсе белое солнце пустыни в глазах потемнело. Там Наташа умирает, а ему в иракской тюрьме коптиться! Хорошо было красноармейцу Сухову с чужими жёнами по пустыням скитаться. У него хоть пулемёт был. А тут к свой родной жене не прорваться, а под рукой даже перочинного ножа нет…
«Кортик!» — осенило его. Он придвинул к себе поближе чемодан, в котором лежал его кортик. «Если будут брать, живым не дамся!» — решил старлей.
Перед въездом в Багдад дежурный у шлагбаума сделал знак зелёному «фиату» остановиться. Но водитель шедшего впереди автофургона, разукрашенного балдахинными кистями и золочёными змеями, решил, что полицейский останавливает именно его, и затормозил, закрыв «фиат» на время от бдительного стража. Альберт мастерски объехал фуру справа и проскочил под неопущенный шлагбаум. Охранник отчаянно махал им вслед, но юркий «фиат» мгновенно затерялся в потоке разношёрстных машин. Альберт весело подмигнул своему пассажиру.
— Не грусти, старлей — проскочили!
Он привёз его в жилой квартал советского посольства и разместил у себя дома. А вечером сотрудники посольства устроили товарищеский ужин в честь бедового моряка. Дипломаты были рады свежему человеку в их тесном мирке и с удовольствием слушали рассказы о морях и океанах, о кораблях и капитанах… Единственное, что омрачало роскошь человеческого общения — это расписание «Аэрофлота». Ближайший самолёт в Москву улетал лишь через три дня — в субботу. Эти три дня в Багдаде показались Неробе горше трёх месяцев самой изнурительной «автономки». Правда, в посольстве ему обменяли его «деревянные рубли» на иракские динары, и он смог купить подарки для Наташи — верил, что застанет её живой! — и игрушки для сынишки. Дозвониться из Багдада в Житомир не удалось…
Утром отлётного дня Альберт отвёз его в аэропорт. Таможенник с удивлением копался в его чемодане, разглядывая флотские тужурки с незнакомыми погонами и морской кортик. Однако разрешили провезти холодное оружие в багаже. Заминка вышла позже, когда у стойки регистрации к Неробе подошёл араб «в штатском» и пригласил его в кабинет представителя контрразведки. Вместе с ними прошёл и Альберт. Геннадий долго и безучастно прислушивался к весьма эмоциональному диалогу сотрудника «шестёрки» и помощника военного атташе. Он мог лишь догадываться, что в вину им обоим ставилось бегство из-под последнего шлагбаума перед Багдадом, и что иракская «охранка» по-прежнему уверена, что у неё из-под носа вывозят агента-нелегала. А «нелегал» с тоской смотрел, как последний пассажир входил в аэродромный автобус. Регистрация уже давно закончилась…
— Без тебя не улетят! — обнадёжил его Альберт и продолжил свою отчаянную «пикировку» со сверхбдительным стражем госбезопасности. Он звонил в посольство, из посольства звонили в МИД… После долгих согласований Неробе разрешили вылет в Москву. Но и на финише его «трансаравийского броска» тернии не кончались. Самолёт должен был совершить посадку в Тегеране.
— Если к тебе подойдут тамошние «чекисты», требуй сотрудника из посольства! — наставлял его Альберт, ставший за эти тревожные дни настоящим другом. — В самолёте летит команда боксёров ЦСКА. Я предупредил тренера: ты — боксёр. Боксом занимался? Перчатки хоть раз надевал?
— Нет, — честно признался Геннадий.
— Ну, не бери в голову! Всё будет хорошо. Прикроем.
Поздним вечером крылатый лайнер приземлился в Москве.
В Шереметьево радиоголос предложил «гражданину Неробе» подойти к окошку справочного бюро, где его поджидал капитан-лейтенант из Главного штаба ВМФ, который отвёз его на служебном уазике к вратам Киевского вокзала. Поезд на Житомир уходил через час…
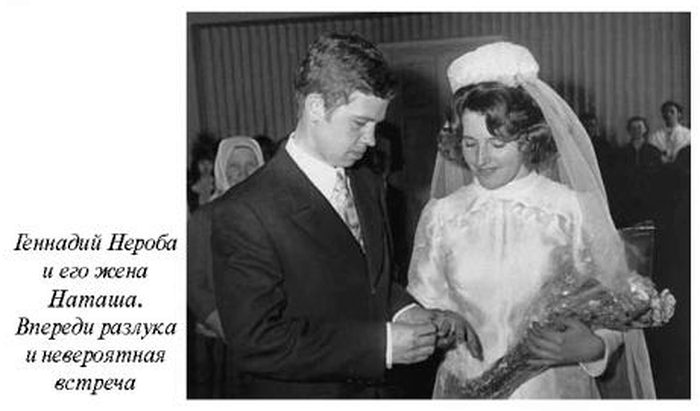
…Дома Геннадий узнал, что Наташе сделали тяжёлую операцию по удалению селезёнки. Но главное — жива! Утром он бросился к ней в больницу. Она не поверила, когда увидела его, а когда поверила — то прибыли угасающие силы, и дела её быстро пошли на поправку. Наташа рассказывала, что для переливания ей нужна была кровь довольно редкой группы. Она оказалась только у одного донора. У него взяли пятьсот «кубиков», а нужен был литр. По всем медицинским канонам у одного и того же донора нельзя было брать столько крови. Повторная дача возможна только через месяц. Но такого времени у врачей не было. Тогда бывшие Наташины одноклассники пошли к обладателю уникальной крови и упросили его спасти молодую женщину. Донор согласился ещё раз лечь под иглу…
Нероба разыскал этого человека и пришёл к нему с бутылкой коньяка. Выпили за всё — за спасение Наташи, за немыслимую одиссею по маршруту Индийский океан — Багдад — Житомир, за всех, кто помогал старшему лейтенанту на этом пути. За тех, кто остался в море нести свою долгую-долгую вахту…
А Наташа поправилась, насколько позволяла ей перенесённая операция, и даже родила ещё одного сына, которого принёс вовсе не аист, перелетевший на крыльях любви из Индийского океана…
Куда мы шли, вольноотпущенники на час, с наших кораблей, из наших казарм? Конечно же, в «Ягодку» — главный клуб холостых офицеров, работавший по вечерам в режиме ресторана, а днём — как военторговская столовая. Или же направлялись в «Космос», если подводные лодки стояли в доках Росты или Чалмпушки. А этот лейтенант, имея все данные — приглядный и рослый, — чтобы быть любимцем гарнизонных див, манкируя дружеские пирушки и прочие офицерские развлечения, корпел над учёными книжками и электронными плато, разъятых на части приборов. Знать бы тогда, что замышлял этот самый странный на Северном флоте лейтенант — Виктор Курышев!..
Зато сегодня я могу с гордостью сказать, что 4-я эскадра подводных лодок не только пахала моря, но и двигала науку. И дело не только в том, что на наших кораблях по ходу службы проводились всевозможные эксперименты самых разных ведомств, а в том, что некоторые офицеры, несмотря на чудовищную занятость по службе, несмотря на все соблазны береговой жизни, находили время, чтобы посидеть над схемой того или иного прибора, дабы улучшить его возможности; более того, они сами создавали уникальную аппаратуру, которую ещё только разрабатывали в столичных НИИ. Жизнь заставляла подводников изобретать то, без чего невозможно было надеяться на победы в дуэльных поединках под толщей воды. Формула успеха весьма очевидна: кто кого первым обнаружил, тот и выстрелил первым. У вероятного противника поисковая техника была намного эффективнее, чем та, которой были оснащены советские подлодки. Как ни обидно это было сознавать, ещё обиднее было ощущать это в море, на боевой службе. Исправить положение взялся молодой офицер, выпускник Высшего военно-морского училища радиоэлектроники имени А.С. Попова лейтенант Виктор Курышев. С самонадеянностью молодости он взялся за проблему немыслимой технической сложности и… добился ошеломительного результата. Впрочем, всё по порядку.
Всё началось с научно-технического кружка во ВВМУРЭ, где курсант Курышев, хорошо знавший английский язык, помогал преподавателю Юрию Григорьевичу Тарасюку переводить научный труд «Основы гидроакустики». Именно тогда Виктор Курышев и увлёкся идеей цифровой обработки сигналов. Смысл её был таков: очень слабый сигнал от цели, принятый гидрофонами подводной лодки, но неразличимый на экране штатной аппаратуры и неслышимый человеческим ухом, регистрировался компьютером, переводился на цифровой код, очищался от помех, прежде всего шумов своего корабля (адаптивное подавление помех), и классифицировался по образцам шумов (из базы данных, из шумовых «портретов» иностранных ПЛА). Таким образом определялся пеленг на цель, идущей за порогом чувствительности штатных ГАС — гидроакустических станций.
Важно было и то, что подлодки не надо было переоснащать новой гидроакустической аппаратурой, довольно было поставить к бортовым станциям весьма компактную приставку, названную автором БПР-ДВК, а впоследствии — «Рица».
Существенный недостаток Курышевского прибора — медленность обработки сигналов. На дальних дистанциях это было не столь важно, а вот ближние цели попадали в мёртвую зону и успевали выйти из сектора наблюдения. Но при доработке можно было бы избавиться и от этого изъяна. Главное то, что «Рица» позволяла обнаруживать подводные лодки на запредельной для советской гидроакустической аппаратуры дистанции.
Служить выпускник престижного ВВМУЗа лейтенант Курышев попал в медвежий угол Кольского полуострова — в далёкую заполярную базу подводных лодок — Гремиху, прозванную из-за частых шквальных ветров «городом летающих собак».
Есть такая флотская шутка о лейтенантах: младший лейтенант — ничего не знает и ничего не умеет; лейтенант — всё знает и ничего не умеет, старший лейтенант — что-то знает и что-то умеет; капитан-лейтенант — ничего не знает, но всё умеет… Лейтенант Курышев — статья особая!
Летом 1979 года лейтенант Курышев доложил флагманскому РТС капитану 1-го ранга Буреге о возможности обнаружения целей на более дальних дистанциях, чем нынешних. Бурега внимательно выслушал «умного лейтенанта» и доложил о нём командующему 11-й флотилии Герою Советского Союза вице-адмиралу Вадиму Коробову. Тот отнёсся к цифровой идее с большим интересом. Курышев начал разрабатывать математический аппарат цифровой обработки, создавая качественно новый метод поиска и обнаружения подводных целей. Это сегодня «цифрой» никого не удивишь, а тогда, в начале 1980-х, это был прорыв в XXI век.
В 1981 году старшего лейтенанта Курышева перевели в Полярный — на 4-ю эскадру дизельных подводных лодок. Ходил он на боевые службы на подлодке капитана 2-го ранга Геннадия Нужина в качестве командира гидроакустической группы. Проводил в море опыты по цифровой обработке сигналов. О результатах доложил командиру бригады капитану 1-го ранга А. Широченкову. Тот, не долго думая, послал «хитрого» старлея на три буквы. Без тебя-де учёные люди разберутся, твоё дело — служить, лелеять любимый личный состав да подбивать документацию, и нечего соваться поперёд батьки в пекло. Убитый таким отношением Курышев вышел из кабинета комбрига. Лица на нём не было, и света белого он не видел, пока не налетел на капитана 3-го ранга Евгения Сазанского, командира подводной лодки. Человек весёлый, известный на всю эскадру своими шутками, приколами и розыгрышами, за что снискал кличку Хулиган Сазанский.
— Витя, что стряслось?!
Курышев рассказал всё как было.
— Ну-ка, пойдём к начпо! Меня как раз к нему вызывают…
Начальника политотдела эскадры капитана 1-го ранга Василия Павловича Ткачёва, в отличие от своего предшественника, подводники любили и уважали — за человечность, отзывчивость, готовность помочь найти выход из трудных житейских и служебных ситуаций. Как ни странно, но именно политработник сразу же оценил труды молодого офицера и немедленно позвонил начальнику штаба Северного флота адмиралу Вадиму Коробову. Вадим Константинович вспомнил «умного лейтенанта» из Гремихи и пригласил его на приём. Вместе с Курышевым, дабы тот не робел перед большим начальством, Ткачёв направил в Североморск, столицу Северного флота, и Хулигана Сазанского.
Адмирал Коробов встретил их тепло, подвёл Курышева к карте Атлантики.
— Объясни, лейтенант, почему они берут нас на таких дистанциях, а мы их — нет?
Курышев чётко изложил техническую суть проблемы.
— И что нам делать?
— А делать надо то-то и то-то… — уверенно излагал старший лейтенант то, что было давно уже продумано и отчасти просчитано.
Тогда первый заместитель командующего флотом адмирал Коробов позвонил командиру 4-й эскадры контр-адмиралу Василию Парамонову и дал сначала устный, а потом и письменный секретный приказ: старшего лейтенанта Курышева освободить от всех вахт и служб, дабы тот «чертил свои иероглифы», то есть занимался наукой.
Курышева поселили в помещении отдела разведки эскадры (верхний этаж казармы «Помни войну!»). Выделили ему стол и стул. Назначили куратора — разведчика капитана 3-го ранга Виктора Михайловича Хламкова.
Тем временем адмирал Коробов доложил о работах Курышева в Москву — первому заместителю Главнокомандующего ВМФ СССР адмиралу флота Николаю Ивановичу Смирнову. Тот распорядился отдать расчёты лейтенанта на экспертизу в профильный НИИ. Что и было исполнено без промедления.
И тут ведомственная «наука» обиделась. Восемнадцать титулованных мужей науки подписали разгромный отзыв, где отмечалось, что «метод Курышева не только не повысит дальность обнаружения, но и уменьшит её на 30%». Резюме — надо бы наказать нахального лейтенанта.
И предстал Курышев на ковре перед начальником политотдела эскадры Ткачёвым.
— Вот приказали тебя наказать, — грустно вздохнул Василий Павлович. — Что делать будем? Ладно, не вешай носа, что-нибудь придумаем…
Неизвестно, успело или нет исполнительное начальство занести в служебную карточку старшего лейтенанта Курышева строгий выговор. Известно другое — адмирал Коробов, моряк от Бога и Герой Советского Союза — взял Курышева под свою личную защиту и снова позвонил в Москву адмиралу флота Смирнову. Тому тоже стало жаль «нахального» лейтенанта, и Николай Иванович принял соломоново решение: пусть Курышев соберёт свой аппарат и докажет на практике эффективность своих расчётов. А там видно будет — наказывать его или награждать.
Разговор с высоким начальством состоялся по «вертушке» в присутствии старшего лейтенанта Курышева.
— Ты всё понял? — спросил его Коробов. — Что тебе нужно?
Курышев назвал необходимые ему приборы и материалы.
Адмирал выдал ему 400 рублей на командировочные расходы и отправил по Советскому Союзу с рекомендательными письмами от военного совета Краснознамённого Северного флота.
— С Богом, лейтенант! Победишь, докажешь, сделаешь — флот тебе памятник поставит. При жизни. Только сделай — не ради диссертации, ради дела. И держи всё это в секрете…
И Курышев отправился в долгий путь в сопровождении трёх специалистов-акустиков: В.М. Хламкова, А.М. Сумачёва и Ю.В. Буковского…
Мы сидим с героем этих строк в прокуренном баре «Кукушка» на Лубянке, беседуем, косо поглядывая на двух типов за соседним столиком, которые внимательно прислушиваются к нашему разговору. Ну да пусть слушают, хотя речь идёт о некогда суперсекретных вещах.
— Я проехал весь Союз от Риги до Новосибирска, — рассказывал Курышев. — Встречался с академиками Колмогоровым и Глушковым, со специалистами в области цифровых технологий. Практика флотской гидроакустики теперь дополнилась математической теорией вероятности.
Академик Виктор Михайлович Глушков направил меня во Львов, где уже собрали первый отечественный малогабаритный цифровой анализатор спектра шумов — «БПР-214».
Адмирал Коробов дал мне семь рекомендательных писем на предъявителя с просьбой оказывать мне максимальное содействие. Письма с такой солидной подписью действовали безотказно.
В подмосковном Зеленограде, с закрытой выставки, мы получили благодаря усилиям адмирала флота Смирнова один из первых наших малогабаритных компьютеров.
Вскоре из двух первых цифровых анализаторов, созданных в СССР, оба уже были в Полярном, в неприметном домике возле нижнего КПП.
Начальник управления боевой подготовки ВМФ СССР адмирал Григорий Алексеевич Бондаренко всеми правдами и неправдами добывал и переправлял новейшее оборудование в Полярный. Надеялся, что именно там работа по острейшей флотской теме получит наибольшую скрытность от американской разведки, которая, разумеется, не оставляла без внимания закрытые военные НИИ. Какому джеймсу бонду придёт в голову выслеживать никому не известного старлея в его задрипанном сарае, гордо именованным «лабораторией шумности».
Быть может, по тем же соображениям адмирал Г. Бондаренко инкогнито (минуя командира эскадры — контр-адмирала В. Ларионова) наведывался в курышевскую «лабораторию шумности» без лишнего шума.
— Необходимо было наладить сопряжение цифрового анализатора с портативной ЭВМ, то есть персональным компьютером, — рассказывал Курышев, насторожённо поглядывая на наших задумчивых соседей. — У меня это получилось. И тут первая стычка с РТУ — Радиотехническим управлением ВМФ СССР. Дело в том, что академик Глушков получил ту же задачу, что и я. Но у него что-то там не заладилось. Потребовались немалые деньги на проведение работ в АН СССР. Суть скандала: Академия наук делает за 200 тысяч рублей то, что лейтенант Курышев делает для флота бесплатно.
Заместитель Главкома Смирнов вызвал адмирала Коробова и старшего лейтенанта Курышева в Москву (должно быть, ни один лейтенант ещё не переступал порога столь высокого кабинета), пригласил начальника РТУ ВМФ, контр-адмирала (имярек). Тот стал было защищать честь мундира, ссылаться на письмо академиков и постановление ЦК КПСС, но Смирнов его резко оборвал:
— Можешь засунуть всё это себе в ж…! Ты, п…, понял, что надо делать?
— Так точно!
— А теперь катись, п…, отсюда!
Отныне адмирал флота Смирнов взял всю ответственность за научно-практическую деятельность Курышева лично на себя.
Главнокомандующий Военно-морским флотом СССР Адмирал Флота Советского Союза С.Г. Горшков тоже благословил «умного лейтенанта»: «Коли Курышев уверен, пусть работает…» И подписал секретную директиву.
Воистину, действовать приходилось по принципу — нам не ждать милостей от науки, подводник, помоги себе сам!
Итак, была создана первая приставка «Рица». Её поставили на полярнинскую подводную лодку Б-443, которой командовал капитан 2-го ранга Чуканцов. Чуть позже, в декабре 1985 года, командир Б-517 капитан 2-го ранга Юрий Могильников вышел на официальные испытания «Рицы». Вместе с ним вышла и комиссия из Москвы — те самые офицеры из спецНИИ, которые подписали когда-то разгромный отзыв на работу Курышева.
— Койки заправили по-белому. Питание по первому разряду, — рассказывает Курышев. — Вышли мы в Баренцево море. Работали с атомоходом и дизельной подлодкой. По атомоходу — дистанция обнаружения составила 315 кабельтовых, по дизельной лодке — 147, что в пять раз перекрывало стандартные нормативы.
И тут полный триумф! Причём совершенно неожиданный. Когда Могильников отдал приказание всплывать на зарядку аккумуляторной батареи, «Рица» вдруг выдала пеленг на… американскую атомную подводную лодку, которая следила за нашим атомным подводным крейсером.
О том, как это было, я узнал из первых уст — от самого Юрия Могильникова. Мы знакомы с ним лет тридцать — ещё со времён первой встречи на боевой службе в египетской Александрии. Человек прямой и бескомпромиссный, Могильников никогда не кривил душой, как не кривил он, рассказывая и об этом эпизоде:
— Я взял её с дистанции почти в 400 кабельтовых! — Он и сейчас ещё не может спокойно вспоминать тот давний эпизод. — «Американка» шла в кормовом секторе нашей «Азухи» на расстоянии пяти-семи кабельтовых, то сокращая, то увеличивая дистанцию. Уверенный шумопеленг мы взяли на дистанции 40–50 кабельтовых. Супостат почувствовал слежение, засуетился и зашарахался. Я доложил командующему флотом, выдал координаты цели — «шапка»-«добро». Всё, берите её!
Комфлота выслал противолодочный самолёт, обвеховали американскую лодку буями. Контакт подтверждён… Я сам обалдел от той дистанции, на которой мы её взяли! Когда в Москву ушли наши кальки, никто не верил. Но я же сам бывший РТСовец! ВВМУРЭ кончал. Я же сам это всё видел! Однако московская наука была глуха. То ли тогда уже подыгрывали штатникам. Не хотели, чтобы мы брали америкосов на такой дистанции. А чем ещё это объяснить? Полный ноль интереса!
Зато к нам тут же приехал адмирал Волобуев, начальник ПЛО — Управления противолодочной обороны ВМФ. Изучал, расспрашивал… Всё подтвердилось. Мне потом орден дали — Красную Звезду. В штабах тоже орденов наполучали…
Виктор Курышев:
— Наутро мы получили телеграмму от командующего Северным флотом адмирала флота Ивана Матвеевича Капитанца: «Поздравляю командира и экипаж с обнаружением ПЛА. Контакт подтверждён самолётами ПЛО и двумя эсминцами».
И все мои враги от официальной науки, находившиеся на борту могильниковской подводной лодки, вынуждены были подписать акт о беспрецедентной дистанции обнаружения!
Да, это была победа! Которую, однако, РТУ ВМФ не спешило признавать: как это так — без участия науки, какой-то старлей…
Тем не менее адмирал флота Н. Смирнов даёт директиву: внедрить 100 комплектов «Рицы» на атомных подводных лодках.
К тому времени адмиралы Г. Бондаренко и Е. Волобуев задумали операцию «Атрина», активно поддержанную новым главнокомандующим ВМФ СССР адмиралом флота Владимиром Чернавиным. В 1985 году советские подводные силы провели операцию «Апорт» в районе Ньюфаундленда. Но не очень удачно. Теперь решили оснастить подводные лодки приставками «Рица».
— Но у меня нет столько комплектующих элементов! — заявил Курышев.
Тогда адмирал флота И. Капитанец, к тому времени член ЦК КПСС, убедил члена политбюро ЦК КПСС Л. Зайкова напрячь нашу электронную промышленность.
К лету 1986 года на Северном флоте уже было пять чудо-приставок. Их собирали в Полярном, в хибаре на берегу Екатерининской гавани — рядом с причалами подводных лодок.
Когда адмиралы Бондаренко и Волобуев, начальники Управлений главкомата ВМФ, минуя командира эскадры Ларионова, пришли в «лабораторию шумности» к капитан-лейтенанту Курышеву и спросили его, какую дистанцию может гарантировать его «Рица», тот ответил:
— Сто миль.
Не поверили. Показал расчёты… Потом Бондаренко хлопнул его по плечу:
— Ты, урод, где ж ты раньше-то был? У тебя коньяк есть?
Добыли бутылку коньяка и выпили за успех будущей операции. В катер комфлота садились с песнями…
В секретных документах эта операция носила кодовое название «Атрина» — абсолютно искусственный термин, придуманный так, чтоб даже смысловой оттенок слова не выдал суть дела. Тем не менее мне кажется, что автор этого «петушиного слова» сознательно, а скорее подсознательно, ввёл в него первый слог чудо-прибора «Рица».
Операция «Атрина» была настолько секретной, что о ней не знали даже «особые отделы», представляющие на флоте КГБ. Атомарины из Западной Лицы поодиночке заходили сначала в Североморск, там на них ставили «Рицу», и после этого они уходили в океан.
«Рица» позволяла контролировать предельную дистанцию между подводными лодками в завесе. Таким образом, все пять лодок, участвовавшие в операции «Атрина», могли образовать «гребёнку» для прочёсывания Атлантики длиной в 500 миль! А главное, что американские противолодочники, не веря в такую дистанцию между русскими подлодками, безрезультатно бы искали их по старым схемам построения в завесу! Так оно потом и вышло.
В чём состоял смысл «Атрины»? Спустя годы и годы об этом поведал тогдашний Главнокомандующий ВМФ СССР адмирал флота Владимир Чернавин:
— Дело в том, что американцы привыкли, что наши подводные крейсера выдвигаются в районы боевой службы — Северную Атлантику — по одному и тому же направлению с небольшими отклонениями: либо между Фарерскими и Шетландскими островами, либо в пролив между Исландией и Гренландией. Так вот, за годы наших многих боевых служб противолодочные силы НАТО научились перехватывать советские подводные лодки именно на этом главном маршруте развёртывания. Надо было слегка проучить зазнавшегося «вероятного противника» и показать, что при необходимости мы можем стать «неуловимыми мстителями», то есть действовать достаточно скрытно для нанесения ответного удара, «удара возмездия».
Капитан-лейтенант запаса В. Курышев:
— Была и ещё одна важная причина, по которой дивизия атомоходов направлялась в Атлантику. К тому времени американские ПЛАРБы, вооружённые баллистическими ракетами системы «Трайдент», перестали выходить в Атлантику. С увеличением дальности полёта ракет их стартовые позиции сдвинули поближе к берегам США. Они могли наносить удары по СССР даже из глубин Мексиканского залива. Надо было разведать позиционные районы «Трайдентов». И приставка «Рица» как нельзя лучше подходила для этой цели.
Выбор Главнокомандующего ВМФ СССР адмирала флота В. Чернавина пал на 33-ю противолодочную дивизию атомных подводных лодок Северного флота, оснащённую к тому времени наиболее современными кораблями и укомплектованную опытными офицерами-подводниками, а главное — приставками «Рица».
Адмирал флота В.Н. Чернавин:
— Итак, пять многоцелевых атомных подводных лодок, пять командиров, пять экипажей должны были быстро и скрытно подготовиться к небывалому совместному плаванию в Западном полушарии планеты. Чтобы оно и в самом деле стало неприятным сюрпризом нашим недругам, чтобы скрыть смысл операции от всех видов натовской разведки (а мы — я имею в виду подводные атомные силы Северного флота — находились в эпицентре внимания всех мыслимых и немыслимых разведывательных средств, начиная от древней как мир агентурной сети и кончая спутниками-шпионами), в 33-й дивизии было проведено мощное легендирование. Даже командиры лодок только в самый последний момент узнали, куда и зачем выходят их корабли.
Вместе с атомными подводными лодками в операции должны были участвовать два надводных корабля с гибкими буксируемыми антеннами типа «Колгуев» и дивизия морской авиации. Причём планировалось, что самолёты будут взлетать не только с аэродромов Кольского полуострова и центра России, но и с аэродромов Кубы.
В начале марта 1987 года из Западной Лицы вышла первая подводная лодка будущей завесы. Через условленное время от причала оторвалась вторая, затем третья, четвёртая, пятая… Операция «Атрина» началась…
Надо сказать, что атомоходы уходят на боевую службу обычно в одиночку. Реже — парами. Впервые за всю историю нашего подводного плавания в океан уходила целая дивизия атомных подводных лодок: К-299 (командир капитан 1-го ранга Клюев), К-244 (командир капитан 2 ранга Аликов), К-298 (командир капитан 2-го ранга Попков), К-255 (командир капитан 2-го ранга Муратов) и К-524, которой командовал капитан 2-го ранга Смелков. Возглавлял отряд контр-адмирал Анатолий Шевченко.
За «уголок» — как называют североморцы Скандинавский полуостров — дивизия выдвигалась обычным путём. Поэтому вероятный противник, для которого, конечно же, исчезновение из Западной Лицы пяти «единичек» не осталось тайной, поначалу не очень обеспокоился. Идут себе нахоженной, а значит, и хорошо отслеженной тропой — и ладно. Аналитики из Пентагона могли даже предсказать, куда — в какой район Атлантики — идут русские, полагаясь на старые шаблоны. Но в тот раз они здорово ошиблись.
В условленный день, в назначенный час атомные подводные крейсера дружно повернули и исчезли в глубинах Атлантики. Так из походной колонны — довольно растянутой во времени и в пространстве — образовалась завеса, быстро смещающаяся на запад.
Весьма обеспокоенные тем, что дивизия атомных подводных крейсеров СССР движется к берегам Америки с неизвестными целями, движется скрытно и бесконтрольно, Пентагон бросил на поиск завесы десятки патрульных самолётов, мощные противолодочные силы.
Много позже командиры докладывали мне, что порой невозможно было подвсплыть на сеанс связи или поднять шахту РКП (работа компрессора под водой) для подбивки воздуха в баллоны высокого давления. Это была самая настоящая охота с применением всех средств поиска и обнаружения подводных лодок. Работали радиопеленгаторы и радары, гидролокаторы надводных кораблей прощупывали ультразвуковыми лучами глубины Атлантики.
Самолёты базовой и палубной патрульной авиации кружили над океаном круглосуточно, выставляя барьеры радиогидроакустических буёв, используя во всех режимах бортовую поисковую аппаратуру: магнитометры, теплопеленгаторы, индикаторы биоследа… Работали гидрофоны системы СОСУС, размещённые на поднятиях океанического ложа, и космические средства разведки. Но проходили сутки, вторые, третьи, а исчезнувшая дивизия атомоходов не отмечалась ни на каких экранах и дисплеях. В течение восьми суток наши корабли были практически недосягаемы для американских противолодочных сил. Они вошли в Саргассово море — в пресловутый Бермудский треугольник, где год назад погибла наша атомная ракетная лодка К-219, и, не доходя несколько десятков миль до британской военно-морской базы Гамильтон (на ней, кстати говоря, с 1940 года базируются и американские корабли, и самолёты), круто изменили курс.
Вскоре начальник разведки ВМФ доложил мне, что из Норфолка вышли на поиск отряда Шевченко шесть атомных подводных лодок. Это не считая тех, которые уже находились на обычном боевом патрулировании в Атлантике. В противодействие нам были брошены три эскадрильи противолодочных самолётов, три корабельные поисково-ударные группы, причём одна из них английская во главе с крейсером типа «Инвенсибл», три корабля дальней гидроакустической разведки. Американские моряки не совсем верно классифицировали наши подводные лодки, определив их как чисто ракетные, — дивизия действовала в смешанном составе. Президенту США Рейгану доложили: русские подводные ракетоносцы находятся в опасной близости от берегов Америки. Вот почему против советских подводников направили столь крупные поисково-ударные силы. Они преследовали отряд капитана 1-го ранга А. Шевченко почти на всём обратном пути и прекратили работы только в Норвежском море.
Чтобы оторваться от этой армады, прикрыться от её средств активного поиска, я разрешил применять командирам приборы гидроакустического противодействия, которыми снабжены подводные лодки на случай реальных боевых действий. Они выстреливали имитаторы шумов атомохода, сбивая преследователей с истинного курса. Использовались и ЛДЦ — ложно-дезинформационные цели, маскирующие манёвренные действия подводных крейсеров, а также другие уловки.
Вот в такой обстановке детище Курышева — приставка «Рица» — и приняло боевое крещение.
День 11 апреля 1987 года — может по праву считаться праздником советской акустики, днём гидроакустического реванша. Именно в тот день мы встали вровень с американцами в области гидроакустических технологий. И вот почему.
11 апреля атомная подводная лодка под командованием капитана 2-го ранга Николая Попкова шла в глубинах Атлантики. Попков собирался прилечь в своей каюте после затянувшейся командирской вахты, но в этот момент оператор «Рицы» мичман Шильдяев доложил о цели, взятой приставкой на запредельной дальности. С Попкова мгновенно слетел сон. Веря в эффект «Рицы», командир 8 (!) часов шёл по «виртуальному» пеленгу, пока не вышел на акустический контакт с американским подводным ракетоносцем. Взял его за 40 миль и вёл слежение за ним в течение 11 часов.
А Курышев ничего об этом не знал. Его перевели из Полярного (возможно, подальше от лишних глаз) в Архангельск, преподавателем в школу младших специалистов ВМФ. Начальник школы был очень удивлён, когда в адрес капитан-лейтенанта Курышева пришла поздравительная, телеграмма от адмирала флота И. Капитанца.
А дальше судьба «Рицы» была печальной. В 1988 году умер адмирал Г. Бондаренко. Затем ушёл из жизни адмирал В. Коробов. Адмирал флота И. Капитанец перевёлся в Москву, став заместителем Главкома.
С большим трудом старшему лейтенанту Курышеву удалось получить очередное воинское звание. Командир бригады подводных лодок капитан 1-го ранга Геннадий Сучков, который тоже как мог покровительствовал «умному лейтенанту» Курышеву, назначил его на месяц командиром БЧ-3 — минно-торпедной боевой части, чтобы тот смог получить четвёртую звёздочку на погоны.
А потом грянуло ГКЧП! Тут и вовсе началось флотокрушение. Новый Главком ВМФ адмирал Громов приказал закрыть работы по теме «Рица». А новый командующий Северным флотом адмирал Олег Ерофеев пошёл ещё дальше — отдал капитан-лейтенанта Курышева под суд за «разбазаривание государственных средств в особо крупных размерах». В советские времена это была «расстрельная» статья. С большим трудом с Курышева сняли обвинение, но предложили уволиться в запас В 1991 году он ушёл с флота в чине капитан-лейтенанта.
Жизнь пришлось начинать заново. Курышев не сразу, но всё же нашёл себя в частном бизнесе. Лесковский Левша тоже не дождался признания. Нет в своём отечестве ни пророков, ни изобретателей… Вот только в Англии ружья кирпичом как не чистили, так и не чистят…
— А мои «Рицы» были использованы на сорока боевых службах, — с гордостью сообщил Курышев, принимая из рук официанта очередную кружку пива. И тут наши странные соседи, двое мужчин в штатском, пересели за наш столик.
— Ребята, — сказал тот, что постарше, — я так понимаю, что вы бывшие подводники? Разрешите представиться — капитан 1-го ранга Александр Дмитриевич Комаров, бывший командир камчатского ракетно-ядерного исполина.
Вот ведь какие люди заглядывают в бар «Кукушка»! Поговорили, конечно же, нашли общих знакомых и на прощание сфотографировались вместе с автором легендарной «Рицы» Виктором Курышевым. На память и для истории… Она дама строгая и справедливая — всем воздаст по заслугам.
В августе 2005 года председатель Морской секции Академии военных наук адмирал флота Иван Матвеевич Капитанец сделал по поводу «Рицы» такое заявление:
«Следует отметить, что практические результаты, достигнутые В.Е. Курышевым в области развития отечественных средств гидроакустического обнаружения малошумных подводных лодок, остаются одними из самых выдающихся достижений в истории ВМФ в конце XX столетия…»
Хочется надеяться, что эти слова не станут эпитафией «Рицы»…
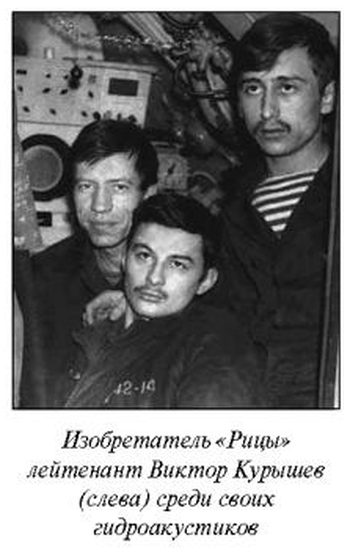
Вот те, кто верил в изобретение «умного лейтенанта» и всячески ему помогал:
Адмирал флота И.М. Капитанец, адмиралы В.К Коробов, Г.А. Бондаренко, Г.А. Сучков, вице-адмиралы А.И. Шевченко и В.И. Панин, контр-адмиралы В.П. Парамонов, В.П. Ларионов, В.Д. Ямков, В.П. Ткачёв, командиры подводных лодок капитаны 1-го ранга В.В. Гаврилов, Е.П. Сазанский и Ю.А. Могильников, Н.А. Попков.
Так прозвали моряки эту сверхскоростную атомную подводную лодку. Она и в самом деле чем-то похожа на фюзеляж воздушного лайнера — обтекаемая, с хорошо развитыми стабилизаторами, серебристая… Разве что сделана не из дюраля, а титана. А вот подводная скорость у К-162{8} и в самом деле авиационная.
Контр-адмирал в отставке Николай Григорьевич Мормуль — один из тех моряков-инженеров, которые стояли у истоков отечественного атомного флота. Крупнейший практик в области корабельной ядерной энергетики Мормуль принимал самое деятельное участие в испытании новейших подводных лодок, в том числе и головного ракетного подводного крейсера стратегического назначения как член Правительственной комиссии. Бывший Главный корабельный инженер Северного флота, затем начальник Технического управления КСФ Николай Мормуль сегодня выпустил ряд интереснейших книг по истории нашего атомного флота. Я не раз встречался с Николаем Григорьевичем и в Мурманске, и в Москве, и в Санк-Петербурге, где он теперь живёт. И, конечно же, речь не раз заходила об испытании самой скоростной в мире подводной лодки.
— К сожалению, от наших соотечественников скрывали не только подводные катастрофы, но и наши бесспорные победы в недрах океана. Ведь и о рекордном погружении на небывалую для подводных лодок глубину в 1000 метров страна узнала только после гибели уникальной подводной лодки К-278 (печально известного «Комсомольца»). Вот и об этом рекорде русские люди узнают только сейчас, когда рекордсмен скорости К-162 доживает свой век у последнего причала.
Но ведь это было! И было немного-немало тридцать пять лет назад. Впрочем, моряки об этой лодке хоть и понаслышке, но знают. Она известна им по кличке «Золотая рыбка».
Американцы называли её «Серебряный кит», английский справочник Джейн присвоил необычной лодке необычное наименование — «Папа», по одной из букв морского международного семафора. Испытатели называли её «подводным самолётом».
— С «Серебряным китом» всё понятно — это за цвет титана. Но почему «Золотая рыбка»?
— Да потому что создавалась и строилась ровно десять лет: с декабря 1959 года по декабрь 1969-го. За это время титан, из которого был создан её прочный корпус, воистину приближался по своей себестоимости к цене золота. Надо ещё учесть, что по ряду причин К-162 в серию не пошла и потому как головной опытовый корабль обошлась нашей промышленности и всем нам очень дорого.
Вспоминает один из первых членов экипажа рекордсменов командир электротехнического дивизиона капитан 2-го ранга Константин Поляков:
— Наконец настал день, когда открылись ворота цеха и наш «заказ» вывели на слип. Это был большой праздник для экипажа, конструкторов, корабелов-строителей. Корабль, ещё сухой, ни разу не «пробовавший вкуса» морской воды, возвышался громадой над заводским забором и был прекрасно виден в Северодвинске с улицы Первомайской. Тогда же нас посетил и Главком ВМФ С.Г. Горшков.
Спускали нашу подводную лодку на воду зимой. Лёд, сковывавший заводскую гавань, пришлось разогревать паром, а потом разгонять буксирами.
Когда раздался крик «Заказ коснулся воды!», из рук «крёстной матери» — местной красавицы — полетела бутылка шампанского, и носовой обтекатель корабля окрасился белой пеной. Но одной бутылкой дело не обошлось — слишком долго уж ждали мы этого момента. Наш минёр Степняков разбил свою бутылку о крышки торпедных аппаратов, штурман Лаурайтис — о перо руля, я — в районе отсека электрогенераторов, другие тоже вспенивали шампанское в местах своих «заведований».
Уже при свете прожекторов буксиры прижали лодку к дебаркадеру. А потом пошли: швартовые испытания, приёмка всех видов снабжения, отработка курсовых задач…
13 декабря наша «первая титановая» вышла на ходовые испытания, которые завершились через 13 суток. И сумма цифр номера нашего проекта была тоже равна 13. Но всё это нас не смущало. Главное, что лодка после испытаний была принята. Однако на этом дело не кончилось. К-162 ещё долгое время находилась в опытовой эксплуатации. Мы пересекали экватор и Гринвич, ходили подо льдами и в тёплых водах… Не всё было гладко: трещал металл, случались разрывы в третьем контуре и в системе гидравлики… Но люди были воистину прочнее титана. Выдержали всё.
Можно сказать, что «Серебряный кит» послужил испытательным полигоном для создания корабля XXI века — сверхглубоководной торпедной атомарины К-278, более известной как «Комсомолец». И всё же именно на нём была достигнута небывалая подводная скорость — 44,7 узла (82,78 км/час). Так что эпитет «золотая» надо понимать и как «счастливая рыбка», сорвавшая нам легендарную «голубую ленту».
Несколько слов о том, как возник этот весьма лестный для кораблей и их капитанов приз — голубая лента. В 1840 году малотоннажный пароход «Британия» открыл эру регулярного трансатлантического судоходства между Европой и Америкой. С той поры все судоводители стремились как можно быстрее пересечь Атлантику. Голубая лента сначала чисто символически, а затем в виде серебряного кубка вручалась капитану-победителю с не меньшими почестями, чем олимпийскому чемпиону. На протяжении без малого полутораста лет именно для Атлантики строились самые быстрые лайнеры и самые скоростные крейсера, способные их перехватывать в случае боевых действий. Злосчастный «Титаник» погиб именно в погоне за престижнейшим титулом.
Разумеется, К-162 сооружалась вовсе не для того, чтобы бить рекорды на трассе морского марафона Европа — Америка. Но строилась она прежде всего для Атлантического океана, как подводный рейдер, способный догонять самую быстроходную надводную цель, например авианосец, и столь же проворно оторваться потом от преследователей. И если Хрущёву не удалось догнать и перегнать Америку в мирном соревновании, то в скорости подводных крейсеров американские ВМС мы обогнали и довольно ощутимо.
Я не случайно упомянул Хрущёва, так как именно при нём и за его подписью вышло Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О создании скоростной подводной лодки, новых типов энергетических установок и научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ для подводных лодок».
А ведь ещё и двух лет не прошло, как в состав ВМФ была принята первая атомная подводная лодка. И вот сразу рывок в совершенно неведомые технические выси, точнее глубины.
— К-162 была ещё на стадии эскизного проектирования, — продолжает свой рассказ контр-адмирал Николай Мормуль, — а для неё создавалась принципиально новая отрасль металлургической промышленности: технология титановых сплавов, невиданная доселе в мире. Проектирование уникальной титановой лодки было поручено ленинградскому ЦКБ-16. Главным конструктором 661-го проекта назначили академика Н.Н. Исанина. Ему помогали его заместители, хорошо известные в кругу специалистов кораблестроители Н.Ф. Шульженко, В.В. Борисов, П.И. Семёнов, В.А. Положенцев, А.П. Антонович и Е.С. Корсуков.
От Главного управления кораблестроения ВМФ СССР за ходом работ наблюдал капитан 1-го ранга Ю.Г. Ильинский, а затем капитан 2-го ранга В.Н. Марков. Всё это уже история…
За несколько дней до начала нового, 1970 года все испытания, предусмотренные программой, были закончены. Все, кроме стрельбы ракетами. Подводный старт не позволял осуществить лёд, сковавший море. Однако все думали о другом: о скорости, какую скорость покажет наша «Золотая рыбка».
Пасмурным декабрьским днём мы, члены Госкомиссии, отдав честь кормовому флагу, вступили на борт К-162. Первым шёл председатель комиссии контр-адмирал Ф.И. Маслов, за ним его заместитель, он же командир бригады АПЛ контр-адмирал В.В. Горонцов, и ваш покорный слуга. Нас встретили командир лодки капитан 1-го ранга Ю.Ф. Голубков, командир БЧ-5 — капитан 2-го ранга В.Н. Самохин.
Все немного волновались. Шутка ли — на такое дело идём — на установление мирового рекорда. Но причина волнений была не только в спортивном ажиотаже. Испытание, тем более под водой, дело всегда рисковое.
Никто не мог сказать, как поведёт себя на глубине стометровый стальной снаряд весом в 6000 тонн, несущийся со скоростью без малого 90 километров в час. Тем более что глубина нашего полигона не превышала 200 метров. Наверху — лёд, внизу — грунт. Малейшая ошибка в управлении горизонтальными рулями или отказ авторулевого — и через 21 секунду нос атомохода врезается либо в лёд, либо в ил.
Погружались. Выбрали, разумеется, среднюю глубину — 100 метров. Дали ход. По мере увеличения оборотов все ощутили, что лодка движется с ускорением. Это было очень непривычно. Ведь обычно движение под водой замечаешь разве что по показаниям лага. А тут, как в электричке — всех назад повело. Дальше, как говорится, больше. Мы услышали шум обтекающей лодку воды. Он нарастал вместе со скоростью корабля, и, когда мы перевалили за 35 узлов, в ушах уже стоял гул самолёта.
Наконец вышли на рекордную — сорокадвухузловую скорость! Ещё ни один обитаемый подводный снаряд не разверзал морскую толщу столь стремительно. В центральном посту стоял уже не «гул самолёта», а грохот дизельного отсека. По нашим оценкам, уровень шума достигал 100 децибел.
Мы не сводили глаз с двух приборов — с лага и глубиномера. Автомат, слава богу, держал «златосрединную» стометровую глубину. Но вот подошли к первой поворотной точке. Авторулевой переложил вертикальный руль всего на три градуса, а палуба под ногами накренилась так, что мы чуть не посыпались на правый борт. Схватились кто за что, лишь бы удержаться на ногах. Это был не крен поворота, это был самый настоящий авиационный вираж, и если бы руль переложили чуть больше, К-162 могла бы сорваться в «подводный штопор» со всеми печальными последствиями такого манёвра. Ведь в запасе у нас на всё про всё, напомню, оставалась двадцать одна секунда!
Наверное, только лётчики могут представить всю опасность слепого полёта на сверхмалой высоте. В случае крайней нужды на него отваживаются на считанные минуты. Мы же шли в таком режиме двенадцать часов! А ведь запас безопасности нашей глубины не превышал длины самой лодки.
Почему испытания проводились в столь экстремальных условиях? Ведь можно было найти и более глубоководный район, к тому же свободный ото льда. Но на это требовалось время. А начальство торопилось преподнести свой подарок ко дню рождения Генсека ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. И какой подарок — голубую ленту Атлантики для подводных лодок! Впрочем, о том человеке, чей портрет висел в кают-компании нашей атомарины, мы думали тогда меньше всего.
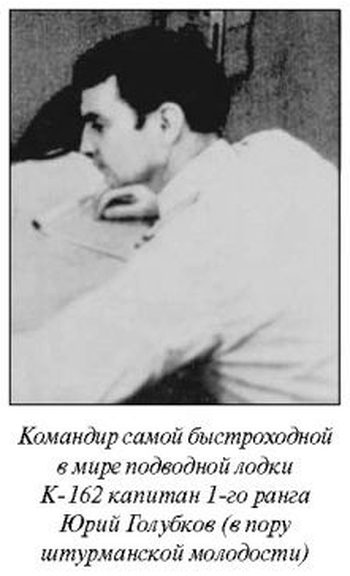
Командир корабля капитан 1-го ранга Юрий Голубков любовался точной работой прибора рулевой автоматики. Пояснял председателю госкомиссии смысл пляшущих кривых на экране дисплея.
— Это всё хорошо, — мудро заметил Маслов, — до первого отказа. Переходи-ка лучше на ручное управление. Так-то оно надёжнее будет.
И боцман сел за манипуляторы рулей глубины. Удивительное дело: сорокадвухузловую скорость мы достигли, задействовав мощность реактора всего лишь на 80 процентов. По проекту нам обещалось 38.
Даже сами проектанты недоучли рациональность найденной конструкции корпуса. А она была довольно оригинальной: носовая часть лодки была выполнена в форме «восьмёрки», то есть первый отсек располагался над вторым, в то время как на всех прочих субмаринах было принято классическое линейное расположение отсеков — «цугом», друг за другом… По бокам «восьмёрки» — в «пустотах» между верхним окружьем и нижним — размещались десять контейнеров с противокорабельными ракетами «Аметист». Такая мощная лобовая часть создавала обводы, близкие к форме тела кита. А если к этому прибавить и хорошо развитое оперение из стабилизаторов и рулей, как у самолёта, то станет ясно, что абсолютный рекорд скорости был достигнут не только за счёт мощи турбин и особой конструкции восьмилопастных гребных винтов. После двенадцатичасового хода на максимальных режимах всплыли, перевели дух. Поздравили экипаж с рекордным показателем, поблагодарили сдаточную команду, представителей науки, проектантов, ответственного строителя П.В. Гололобова. После чего послали шифровку в адрес Л.И. Брежнева за подписями председателя комиссии и комбрига: «Докладываем! Голубая лента скорости в руках у советских подводников».
Глубокой декабрьской ночью 1969 года, насыщенные небывалыми впечатлениями, мы вернулись в базу. Несмотря на поздний час, нас радостно встречало высокое начальство. Правда, вид у рекордсменки был скорее боевой, чем парадный. Потоки воды ободрали краску до голого титана. Во время циркуляций гидродинамическим сопротивлением вырвало массивную рубочную дверь, а также многие лючки лёгкого корпуса. Кое-где были вмятины. Но всё это ничуть не омрачало радость победы. После доклада о результатах испытаний сели за банкетный стол и пировали до утра.
Спустя несколько дней мы обновили свой рекорд: на мерной мили при развитии полной — стопроцентной — мощности энергоустановками обоих бортов мы достигли подводной скорости в 44,7 узла (82,8 км/час). Не знаю, вписан ли этот рекорд в Книгу Гиннесса, но в историю нашего подводного флота он занесён золотыми буквами.
Печально сложилась судьба обладательницы Голубой ленты. В серию лодка 661 проекта не пошла по ряду причин, и прежде всего из-за высокой шумности. На флот пошли подводные корабли второго и третьего поколения других проектов.
Немало поплавав, «Золотая рыбка» к концу 1970-х годов встала на ремонт. Её отвели на ту же судоверфь, где она и родилась. Помимо среднего ремонта предусматривалась и перезарядка обоих реакторов. И вот тут-то случилась большая неприятность. Из-за разгильдяйства одного из матросов во время перезарядки внутрь только что загруженного свежей активной зоной реактора уронили гаечный ключ. Поначалу этот факт попытались скрыть. Можно себе представить, что бы произошло, если бы ключ попал в урановые стержни! Авария грозила бы перегоранием каналов и распространением активности… В конце концов факт стал известен. Чтобы извлечь ключ и поставить защитные устройства для каждого канала, решили выгрузить свежую активную зону и после установки защитных устройств произвести повторную загрузку. Всё это затянуло время и без того куда как долгого ремонта. Торопились. Поэтому монтаж в системе управления и защиты реактора был произведён по старым чертежам, изготовленным ещё на стадии строительства лодки, а потом забракованным. В общем, комплект чертежей оказался неоткорректированным. В результате перепутали фазы электропитания в механизмах реактора. Произошёл, как говорят специалисты-атомщики, «неконтролируемый выход на мощность» ядерного котла. Несанкционированный пуск вовремя не заметили. В реакторе и в системе первого контура резко возросли температура и давление. До беды оставались считанные мгновения. По счастью, лопнул компенсатор главного насоса, который сработал как «нештатный» предохранительный клапан.
Авария обошлась малой кровью: локальной разгерметизацией первого контура и выбросом в необитаемое помещение нескольких тонн слабо радиоактивной воды. Никто из моряков не пострадал. Мне как начальнику Технического управления флота поступил невнятный, но успокаивающий доклад. Я послал в Северодвинск своего заместителя, а на следующий день вылетел сам.
Собралась межведомственная комиссия. Предложения комиссии по восстановлению были простейшими и кардинальными по смыслу, но нереальными по существу. Предлагалось заменить часть оборудования пострадавшей энергоустановки на новое. В природе запасного оборудования не существовало, оно было заказано при строительстве ПЛА, но не сделано. Для его изготовления требовалось несколько лет. Такое решение удовлетворило всех членов комиссии, представителей ВМФ, так как никто из присутствующих не нёс ответственности за боеготовность флота.
Осмотрев место аварии, посоветовавшись с технологами и сварщиками, установив аккордную плату, я как «хозяин» корабля и председатель комиссии принял другое решение. Предложил заварить трещину и провести в «холодную» и в «горячую» испытания атомной установки. Испытания и снятие параметров предложил производить с участием членов комиссии по своим направлениям. Большинство членов комиссии отказалось (кроме проектантов Н.Ф. Шульженко). Тем не менее мы взялись за дело. Трещину заварили. Главная энергоустановка выдержала все испытания. Был произведён доклад командующему Северным флотом адмиралу В.Н. Чернавину. Командующий одобрил наше решение и результаты испытаний. Подводная лодка К-162 снялась со швартовых и ушла в главную базу флота, а высокая межведомственная комиссия продолжала спорить, что и как делать.
«Золотая рыбка» с заваренной трещиной в первом контуре отплавала ещё десять лет — то есть до конца установленного срока службы.
Ныне уникальная подводная лодка доживает своей трудный и славный век на корабельном кладбище Северодвинска, среди других подводных исполинов, на чьих «китовых» спинах держались когда-то морская мощь и международный престиж нашего государства. Разве не заслуживает непревзойдённый, подчёркиваю — непревзойдённый в течение четверти века, а возможно, и ещё дольше, — чемпион мира по подводной скорости лучшей участи, чем гнить у причалов отстоя? Помимо всего прочего — это живой памятник и нашим морякам-подводникам, выбившим в упорной схватке за господство в глубинах Океана паритет с подводным флотом США, и свидетельство мастерства наших русских умельцев, чьими руками и чьим разумом были построены самые глубоководные и самые быстроходные подводные корабли XX века да и XXI пока тоже.
Запомните эту дату: 4 августа 1984 года. Именно в этот день атомная подводная лодка К-278, ставшая через пять лет печально известной как «Комсомолец», совершила небывалое в истории мирового военного мореплавания погружение — стрелки её глубиномеров сначала замерли на 1000-метровой отметке, а потом пересекли её! Ни одна из боевых подводных лодок мира не могла укрываться на такой глубине — её раздавило бы всмятку. Но экипаж К-278 находился под защитой сверхпрочного титанового панциря.
О том, что это был за корабль, рассказывает бывший начальник Технического управления Северного флота контр-адмирал-инженер Николай Мормуль:
— В 1983 году в состав ВМФ СССР вступила атомная подводная лодка К-278. Об этом корабле, единственном в серии, складывались потом мифы. Так, в западной прессе писали, что это — самая большая подводная лодка в мире: длина — 122 м, ширина — 11,5 м, водоизмещение — 9700 т. Её считали самой быстроходной. Ни то ни другое не соответствовало действительности. И тем не менее корабль был настоящим чудом. Его сверхпрочный титановый корпус позволял погружение на глубину, которой не достигала ни одна лодка в мире, — 1000 м.
Кстати говоря, только 15 августа 1936 года человечество смогло достичь глубины в один километр. Это достижение принадлежит французскому гидронавту — профессору Бибу — и его коллеге Бартону. Они погрузились в Атлантике близ Бермудских островов в батисфере, на каждый иллюминатор которого давила сила в 19 тонн… Но то был научный эксперимент. Мы же строили боевую лодку, которая должна была стать родоначальницей серии сверхглубоководных атомарин, нового подкласса подводных кораблей…
Строилась лодка необычайно долго, и на флоте её прозвали «Золотой рыбкой». Корпус был изготовлен из чистого титана, и в ходе освоения этого металла возникало множество трудностей. Он агрессивен к другим металлам, и сопряжение титановых конструкций с серийным оборудованием требовало новых технических решений. При насыщении титана водородом образовывались трещины, поэтому сварка производилась в особой газовой среде. Однако когда лодка прошла глубоководные испытания на столь ошеломляющей глубине, все усилия оказались оправданными.
Уникальный титановый корабль сравнивался с орбитальной космической станцией. Его основное назначение состояло в изучении комплекса научно-технических и океанологических проблем.
Он был одновременно лабораторией, испытательным стендом и прототипом будущего гражданского подводного флота — более скоростного, чем надводные торговые и пассажирские корабли, более надёжного, чем авиация, ибо эксплуатация подводных лодок не зависит от времени года и погоды.
На борту К-278 была одна ядерная установка и вооружение: ракеты и торпеды, две из которых имели ядерные головки. Однако лодка не предназначалась для нанесения ядерных ударов по берегу: её боевая задача заключалась в защите от подводных ракетоносцев противника — «убийц городов».
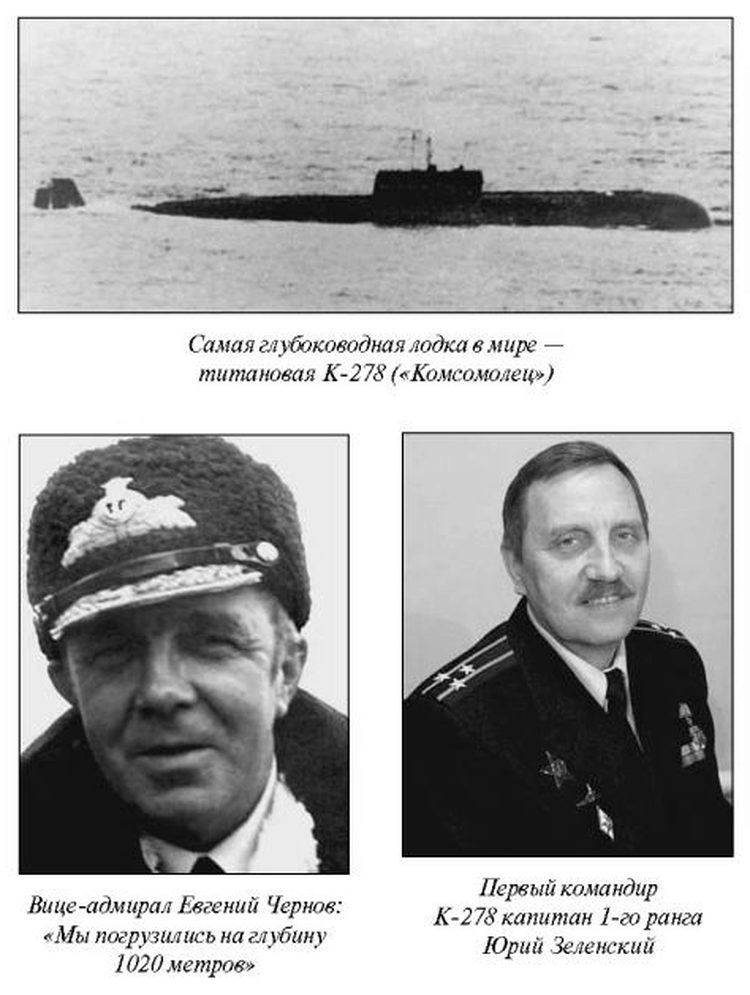
Итак, 5 августа 1985 года «Комсомолец» вышел в точку погружения, которая находилась в одной из глубоководных котловин Норвежского моря. Кораблём командовал капитан 1-го ранга Юрий Зеленский, старшим на борту был командующий 1-й флотилией атомных подводных лодок, он же председатель Государственной приёмной комиссии, Герой Советского Союза, контр-адмирал Евгений Чернов. В отсеках находились и главные конструкторы уникального корабля — Юрий Кормилицын и Дмитрий Романов.
— Перед погружением были тщательно проверены все системы, имеющие забортное сообщение, торпедные аппараты, оружие… — рассказывает о том памятном дне Евгений Дмитриевич Чернов. — Понимали, с такой глубины можно и не всплыть…
Уходили в пучину медленно — по невидимым стометровым ступеням, задерживаясь на каждой из них для осмотра отсеков. Программа испытаний была обширной. Проверяли не только герметичность прочного корпуса, но и возможности стрельбы с большой глубины торпедами, систему аварийного всплытия «Иридий», которая позволяла продувать балластные цистерны газами сгоревших пороховых шашек.
Погружение на километр заняло несколько томительнейших часов. Любая минута могла быть последней в жизни экипажа. Одно дело — когда лётчик-испытатель рискует собой и только собой, имея к тому же парашют, другое — когда ты ведёшь на смертный риск почти сотню людей и никаких парашютов за спиной…
Рассказывает старшина команды штурманских электриков К-278 мичман запаса Вениамин Матвеев:
— В тот день с глубиномера в Центральном посту была оторвана чёрная бумажка, закрывавшая на его шкале секретности ради цифры предельной глубины. Мы ахнули: 900, 1000, 1100 метров… Это ж вдвое больше, чем может погружаться обычная атомная подлодка!
Мы сидим с Матвеевым на главной улице Воронежа против кафе «Капитан Немо». Над входом поблёскивает морской бронзой макет фантастического «Наутилуса», придуманного Жюль Верном. Рядом со мной — реальный человек из фантастического действа — хождения за тысячу метров, за три предельных глубины для обычных атомарин. И рассказывает он об этом как об обычном флотском деле. Вернее, пытается так рассказывать, нет-нет да срываясь на восторженную скороговорку, хотя и прошло более четверти века. Такое не забывается…
— Когда на глубине 800 метров объявили торпедную стрельбу, — вспоминает Вениамин Матвеев, — мне позвонил из торпедного отсека мой приятель — мичман Соломин, торпедный техник:
— Веня, приходи к нам. Если что, так мы сразу вместе…
Пришёл в носовой отсек. Командир минно-торпедной боевой части старший лейтенант А. Трушин находился в центральном посту.
Встал рядом с другом…
Когда открыли передние крышки торпедных аппаратов, увидели, как дрогнули от напора глубины задние. Дрогнули, но чудовищное забортное давление удержали. Торпеда вышла нормально… А давление нарастало. Гребные валы — вдруг изогнулись, потом снова приняли свою форму. Дейдвудные сальники кувалдами подбивали. Линолеум на палубах вспучивался.
Штурман К-278 капитан 3-го ранга Александр Бородин:
— Гидроакустик, который обеспечивал наше погружение с надводного корабля, качал потом головой: «Я из-за вас чуть не поседел. Такой скрип стоял, такой скрежет…» Но наш прочный корпус выдержал. Обжатие его было таким, что мою железную койку выгнуло как лук…
На 700-метровой рабочей глубине вывели реактор на 100-процентную мощность. Наконец боцман, управлявший горизонтальными рулями, доложил:
— Глубина тысяча метров! Крен ноль, дифферент ноль.
Стрелка глубиномера остановилась у четырёхзначной цифры — 1000. Есть глубина в один километр!
Контр-адмирал Чернов вышел на связь с отсеками по боевой линии и, глядя на глубиномер, дрогнувшим голосом произнёс в микрофон внутрилодочной связи бессмертную фразу — «Остановись, мгновенье!..» Потом поздравил всех, и по отсекам пронесли флаг корабля. Чернов достал бутылку коньяка и разлил на десять стопок, все чокнулись с главными конструкторами. Выпили, обнялись.
Всплывать не торопились.
— Успех надо закрепить, — сказал Чернов и обратился к главным конструкторам лодки, которые находились в центральном посту, — Юрию Кормилицыну и Дмитрию Романову: — Если ещё на двадцать метров погрузимся, на возможный провал — выдержим?
— Должны выдержать… — сказали творцы титанового рекордсмена. Главный строитель корабля Михаил Чувакин тоже кивнул — не раздавит.
И они ушли на глубину 1027 метров, туда, где ещё никогда не вращались гребные винты подводных лодок.
По злой прихоти судьбы через пять лет подводный рекордсмен навсегда уйдёт именно в эту котловину на дне Норвежского моря. Но тогда они были на вершине победы…
Минуты сверхглубинного плавания тянулись невыносимо. Будто чудовищное давление обжало не только прочный корпус, но и спрессовало в нём само время. Добрый час можно было прожить в такую минуту… А из отсеков поступали тревожные доклады — там потёк фланец, там треснула от резкого уменьшения диаметра корпуса деревянная панель… Чернов медлил с командой на всплытие. Надо было испытать всё до конца. Потом как пули стали отлетать срезанные немыслимым обжатием титановые болты. Но в целом все механизмы работали без замечаний, корабль прекрасно управлялся как по глубине, так и по горизонту. А самое главное, он мог стрелять из этой бездны, оставаясь неуязвимым для глубинных бомб и торпед противника, которые были бы раздавлены на полпути к цели.
— Я не выдержал и крепко обнял корабелов по очереди, — вспоминает Чернов. — Спасибо, ребята… Подумать только, они замыслили это титановое чудо ещё 25 лет назад! В 1969 году… И будто по заказу мы погрузились как раз в день рождения «Плавника». (Это заводское имя К-278, и не надо было его менять в угоду нашим политикам.) Честно говоря, не хотелось уходить с такой глубины. Кто и когда на неё пришёл бы ещё? Никто больше и не пришёл…
На рулях глубины в тот исторический день сидел боцман атомарины мичман Вадим Полухин. Это подчиняясь его рукам, уходила атомарина на рекордную глубину. Он сидел в каске, чтобы не дай бог какой-нибудь срезанный давлением болт не угодил в голову. Вадим Полухин — человек отваги и таланта. Писал песни, которые потом пел под гитару весь экипаж, весь подплав.
За последний куплет получил тогда ещё матрос Полухин трое суток ареста — за «пропаганду против сверхсрочной службы». Тем не менее и Вадим Полухин, и Вениамин Матвеев остались на флоте надолго. Полухин ушёл на сверхсрочную в морскую авиацию, летал на Ту-16 командиром огневых установок — это в самом хвосте воздушного ракетоносца. Потом снова вернулся на подводные лодки, с голубыми авиационными погонами спустился в центральный пост — ещё переаттестовать не успели.
— Это что за летуны у нас тут объявились? — грозно встретил новый старпом старого боцмана. И только потом оценил «летуна» за преданность кораблю и флоту.
Мичман Вениамин Матвеев:
— Проверяли на том погружении всё, что можно было проверить. В том числе и систему порохового продувания балластных цистерн. С такой глубины никаким сжатым воздухом не продуешься — только силой пороховых газов. Всплыли, точнее вознеслись, с глубины 800 метров за 30 секунд.
Контр-адмирал Чернов поднял перископ и чертыхнулся — всё вокруг серое, непроглядное.
— Штурман, что у тебя с перископом? Поднять зенитный!
Подняли зенитный перископ — всё то же, кромешная мгла.
Отдраили верхний рубочный люк — зачихали. Всё в пороховом дыму. Лодка всплыла в облаке дыма. Но всплыла! С немыслимой до сей поры глубины. С помощью новейшей системы всплытия. Всё подтвердилось, всё оправдалось.
О выполнении важнейшего испытания было доложено Главнокомандующему ВМФ СССР Адмиралу Флота Советского Союза С.Г. Горшкову и членам правительства… О том небывалом и до сих пор непревзойдённом рекорде не трубили в газетах. О нём узнали лишь тогда, когда атомная подводная лодка К-278 навсегда скрылась в пучине Норвежского моря, быть может, в той самой, где и был поставлен главный мировой рекорд подводного судостроения в XX веке.
Ну ладно — секретность… Но то, что экипаж не наградили за такое свершение, — вот это в голове не укладывается. Почему?
Мичман Вениамин Матвеев:
— Перед погружением адмирал Чернов сказал: либо всех наградят, либо никого. Так оно и вышло — никого. А дело в том, что мы в Норвежском море получили радио — вернуться в базу и принять на борт московских адмиралов. Чернов возвращаться не захотел, записал в вахтенный журнал — «управление подводной лодкой беру на себя» — и велел погружаться. «Наездников нам не надо», — сказал он.
Правда, позднее командир наш, капитан 1-го ранга Зеленский, получил орден Красной Звезды, а Чернов — Октябрьской Революции. Но это было на степень ниже того, на что представляли. Командир-то шёл на Героя…
Полковник медицинской службы Евгений Никитин, автор книги «Холодные глубины», высказался на этот счёт более определённо:
— Вернувшийся с испытаний корабль посетил командующий Северным флотом адмирал И.М. Капитанец. Он поздравил всех с успешным проведением главных испытаний, назвал экипаж перед строем «экипажем героев» и приказал представить всех его членов к государственным наградам.
Наградные листы на членов экипажа были оформлены и переданы командующему флотом. Однако награждение героев-подводников не состоялось. Возразило политуправление флота, которое не увидело заслуги экипажа в покорении боевой подводной лодкой тысячеметровой глубины. Не увидело, возможно, потому, что, кроме политработника В. Кондрюкова (штатного замполита К-278. — Н.Ч.), в списке представленных к наградам не было ни одного политотдельца. Не поняли работники политуправления, что рождался качественно новый подкласс подводных кораблей…
А потом и вовсе никто не захотел говорить о наградах — К-278, «Комсомолец», навсегда ушёл в ту бездну, в которой и поставил некогда свой мировой рекорд…
Увы, о том уникальнейшем достижении ТАСС не сообщил. И фамилия командира, совершившего это немыслимое погружение, не стала достоянием широкой гласности. Назову её как архивное открытие в надежде, что однажды она войдёт во все учебники морской истории и монографии — капитан 1-го ранга Юрий Зеленский.
К стыду своему, при нашей единственной с ним встрече я не смог сказать ему слова, достойные его подвига. Мы спорили… Это было в первые дни после гибели «Комсомольца». В полном отчаянии от такой потери (там, в Норвежском море, погиб и мой добрый сотоварищ — капитан 1-го ранга Талант Буркулаков) подводники и инженеры, журналисты и спасатели сходились стенка на стенку. Спорили обо всём — виноват ли экипаж Ванина, надёжно ли была спроектирована и построена лодка, вовремя ли пришли рыбаки-спасатели, почему не сработала как надо спасательная служба ВМФ… Ломали копья точно так же, как спустя десять лет придётся ломать их во дни трагедии «Курска». Копья ли? Скорее старые грабли, наступать на которые уж до бешенства больно и обидно… На такой вот ноте мы и расстались. «Безлошадный» Зеленский отбыл вскоре в Северодвинск, на его карьере был поставлен крест, поскольку он стал перечить выводам Правительственной комиссии и посмел не только иметь своё особое мнение, но и публично его высказывать.
Где-то на Белом море, тихо и безрадостно закончил он свою флотскую службу капитаном-диспетчером заводской гавани в Северодвинске…
А имя его должно быть в Пантеоне подводного флота России. Национальный герой. Увы, не признанный и никому не известный, как и большинство героев нашего флота. Их постигла судьба героев Первой мировой войны. Тогда грянул октябрьский переворот и начался новый отсчёт времени, новый счёт заслугам и подвигам. Нечто подобное произошло и после августа 1991-го. До того — режим секретности, после того — режим ненужности…
И всё-таки капитан 1-го ранга Юрий Зеленский был первым в мире подводником, который увёл свой корабль за километровую отметку глубины. Запомним это навсегда.
По счастью, мне довелось снова встретиться с Юрием Зеленским. На сей раз не второпях, основательно — в петербургском клубе моряков-подводников. Бывшему командиру К-278 в признание его бесспорного подвига общественная организация — Академия проблем безопасности, обороны и правопорядка — вручала орден Петра Великого I степени. Это было в 2005 году. В кают-компании Клуба собрался весь цвет подводного флота России — боевые адмиралы и командиры подводных лодок. Они аплодировали пожилому скромному человеку в гражданском пиджаке. Это было очень похоже на то, как встречали когда-то в Кронштадте Александра Маринеско, вышедшего из глубокой житейской тени к своим боевым собратьям
27 лет провёл Зеленский в Северодвинске. В оные годы на такой срок ссылали в эти края за тяжкие преступления. А его — за подвиг. Впрочем, свою северодвинскую службу Зеленский наказанием не считал — он принимал и испытывал там новейшие атомные подводные лодки — целых восемь «корпусов», как говорят корабелы. С его лёгкой и опытной руки пошли бороздить они океанские глубины.
Вместо послесловия к этой истории приведу слова Героя Советского Союза вице-адмирала Евгения Чернова:
«По поводу ситуации, сложившейся с оценкой службы основного экипажа глубоководной подводной лодки К-278 Северного флота и его командира капитана 1-го ранга Ю.А. Зеленского, при испытаниях подводной лодки погружением и плаванием на предельной глубине 1000 метров».
Экипаж атомной подводной лодки К-278 («Комсомолец») был сформирован в 1981 году из лучших профессионалов-добровольцев 1-й флотилии атомных подводных лодок СФ, прошёл обучение по специально разработанной программе, принимал активное участие в достройке подводной лодки, её швартовных, заводских и государственных испытаниях.
На 1-й флотилии СФ экипаж К-278 был введён в первую линию кораблей постоянной боевой готовности, полностью выполнил «Программу опытной эксплуатации» и был подготовлен к испытанию погружением и плаванием на предельной глубине погружения.
4 августа 1985 года впервые в истории мирового подводного плавания боевая и боеготовая атомная подводная лодка К-278 водоизмещением 8500 тонн погрузилась на глубину 1020 метров в Норвежском море для испытания её на этой глубине и проверки работы энергетической установки, технических средств, систем, устройств и оружия корабля. На борту глубоководного атомохода находились 80 человек. Это был коллективный подвиг и мировой рекорд.
Лодкой управлял штатный экипаж — 57 человек. Результаты испытаний фиксировали представители конструкторских бюро и судостроители. Впервые подводной лодкой была достигнута ось океанского глубоководного звукового канала, испытана новая система аварийного всплытия с глубины 800 метров, на этой же глубине были проверены по назначению торпедные аппараты.
Командующий Северным флотом адмирал И. Капитанец приказал подготовить наградные документы на всех членов экипажа, что и было сделано немедленно…
Подводная лодка со штатным экипажем продолжала интенсивное плавание… Вопрос о награждении командира и экипажа глубоководной подводной лодки «За отвагу и мужество при испытаниях и освоении нового глубоководного корабля» был отложен. Главкома Чернавина сменили главнокомандующие Громов, затем Куроедов. Последний хотел найти наградные документы: «Найду — представлю», но не успел — погиб «Курск».
В конце 1980-х годов капитан 1-го ранга Зеленский был назначен на тупиковую должность в Северодвинск и там же уволен в запас. Его взял на работу диспетчером по части буксиров генеральный директор СМП Д.Г. Пашаев. Зеленский «виноват» в том, что не дал в обиду свой корабль при установлении причин его катастрофы. Главком Куроедов выделил ему квартиру во Всеволжском районе Ленинградской области…
Страница в истории советского подводного плавания «Освоение 1000-метровой глубины глубоководной многоцелевой подводной лодкой К-278 „Комсомолец“ 1980–1986 гг.» не должна быть перевёрнута без этих заключительных строк о делах экипажа, члены которого, чётко представляя реальную опасность поставленной им задачи, выполнили с честью требования Воинской присяги.
Об атомной подводной лодке 705-го проекта («Альфа») говорили, что она возникла, намного опередив своё время. В самом деле, это была единственная в мире атомная лодка, которую можно отнести к классу «малюток». Главная её особенность состояла в том, что её реактор работал с установкой жидкометаллического теплоносителя (ЖМТ). В этом было её преимущество перед водо-водяными теплоносителями (мгновенный почти ввод в режим движения), и в этом же — в непрерывном подогреве сплава, поддерживающем его в жидком состоянии, был главный её минус. До сих пор идут споры о балансе достоинств и недостатков «Альфы», которая предназначалась в первую очередь для уничтожения подводных лодок противника при выходе их из баз, а также в районах их развёртывания. Разумеется, эти подводные истребители могли с успехом действовать и против надводных кораблей на всех широтах и долготах Мирового океана, включая и Арктику.
Впервые в мире подводная лодка оснащалась всплывающей рубкой, куда мог вместиться весь её немногочисленный экипаж: 32 человека. Это был чисто офицерский экипаж, и только обязанности кока выполнял мичман. Благодаря высокой степени автоматизации (корабли 705-го проекта так и называли — «лодки-автоматы») предполагалось довести численность команды до экипажа стратегического бомбардировщика — 16 человек. Но этим планам не суждено было сбыться. В последующих модификациях численность экипажа на «Альфах» довели до 25 офицеров плюс 4 мичмана.
Атомные «малютки» могли погружаться на глубину до 400 метров и развивать под водой скорость, близкую к мировому рекорду — 41 узел (свыше 70 километров в час).
Один из командиров «Альф» (впоследствии контр-адмирал) А. Богатырёв вспоминал:
— Лодка могла развернуться практически на «пяточке». А это особенно важно при взаимном слежении своих и чужих подлодок. «Альфа» не позволяла неприятельской лодке зайти себе в корму, то есть в зону гидроакустической тени, откуда обычно наносится удар без промаха. Высокая скорость и невероятная манёвренность позволяли «Альфам» уклоняться от выпущенных вражеских торпед и тут же переходить в контратаку. Ведь уже через 42 секунды «малютка» могла развернуться на 180 градусов и двигаться в обратном направлении.
В начале 1980-х годов одна из «Альф», действовавших в Северной Атлантике, в течение 22 часов следила за атомоходом вероятного противника. Все попытки американского командира сбросить со своего «хвоста» насевшую «малютку» ни к чему не привели. «Альфа» прекратила преследование только по приказу из Центра.
Первым командиром атомной подводной лодки 705-го проекта был капитан 1-го ранга (впоследствии контр-адмирал) Александр Пушкин. Он оставил записки о том, как испытывали головную «Альфу» — К-64.
«Неслучайно наш первый выход на испытания был отмечен радиостанцией Би-би-си. Радио объявило о начале испытания в Советском Союзе уникальной подводной лодки „Голубой кит“ — под таким кодом она проходила в справочниках Джейна. В ходе испытаний радиостанция несколько раз отмечала, что пока испытания идут успешно.
Неслучайно эта лодка заинтересовала военно-морских специалистов Запада. Против такого корабля всё существующее оружие, кроме ядерного, было бесполезным. Благодаря своей манёвренности и скорости она могла уклониться от любой вражеской торпеды.
Жаль, что только ныне нам стало известно, какой переполох наделала наша подводная лодка 25 лет назад. К этому времени экипаж состоял из 23 человек. Костяком команды была группа офицеров в составе: В.И. Ткачёва, В.Д. Жизневского, Е.А. Тихонова, Л.В. Егоренко, И.Д. Марьяскина, В.Е. Клоцева. Традиции у нас закладывались, когда сколачивался экипаж. Каждый должен был не только знать и уметь, но и в условиях аварийных ситуаций действовать грамотно и решительно. Большую помощь в процессе строительства и испытаний ПЛ нам оказал второй экипаж (командир — капитан 1-го ранга В.В. Старков) и технический экипаж (командир — капитан 1-го ранга К.А. Сибиряков, офицеры командования экипажа — капитаны 2-го ранга А.Н. Ковалёв и В.А. Карпов).

Итак, в 1970-е годы работы на Ново-Адмиралтейском заводе над головной лодкой 3-го поколения были закончены, был произведён физический пуск реактора, и начались швартовные испытания.
Затем К-64 была погружена в док и переведена по Беломорско-Балтийскому каналу на Север. Здесь, в Беломорске, я впервые вывел её из дока и дал ход под электромоторами. На Беломорском рейде был осуществлён подъём мощности и затем был дан ход под турбиной. Осенью 1970 года лодка самостоятельно пришла в Северодвинск. Однако начать испытания в том году не удалось из-за неполадок в паропроизводительной установке.
Зато на следующий год всё было готово к испытаниям. К выполнению задач были приобщены все научные руководители проекта во главе с академиком А.П. Александровым. Всю группу академиков и учёных разместили на плавбазе „Аксай“. Из конструкторов была создана группа наблюдения за строительством корабля. Это давало возможность своевременно реагировать на замечания строителей и вносить конструкторские поправки.
Члены сдаточной команды, которая формируется из экипажа корабля и представителей завода, всегда становятся испытателями, и, как всяким испытателям, им, конечно же, приходится рисковать. Ведь порой возникают весьма сложные, непредвиденные ситуации, требующие не только тактической и технической эрудиции, но и смелости, мгновенной реакции, умения в считанные секунды принимать правильные решения.
Испытания лодки проводились на Белом море ненастной осенью. Перед моими глазами карточка, составленная штурманом Климовским: „Ходовых дней — 29, миль всего — 3481,9, в надводном положении — 1968,2, в подводном — 1513,7. Часы — надводные 349,3, подводные — 208,3. Число погружений — 21“.
Сложность испытаний заключалась и в том, что сдаточная команда была определена директором завода в 900 человек, а на К-64, с учётом коридоров 2-го этажа центрального поста (единственного обитаемого отсека), можно было вместить только 60. Приходилось постоянно пользоваться буксиром, который забирал с плавбазы одних и отправлял с ПЛ других. Причём для высадки и посадки команд приходилось заходить в бухты, так как осеннее море было очень неспокойным.
На первое пробное погружение прибыл главный конструктор Михаил Георгиевич Русанов. В этот период его почему-то заменили Роминым. Так было выгоднее начальникам. Русанов старался быть на корабле незаметным, хотя от его внимательного взгляда ничто не ускользало.
Первое впечатление, которое я получил при даче хода, незабываемо. Лодка вздрогнула, двинулась и… тишина. Тишина эта после обычного предотходного гвалта, шума, команд поражала своей внезапностью и торжественностью!
Длинным северодвинским фарватером лодка прошла под турбиной. Без замечаний! С выходом на чистую воду мы сделали несколько циркуляций, замерив их радиус, и подошли к району, где лодка должна была пройти вывеску. И наконец после всех приготовлений я впервые даю команду:
— По местам стоять к погружению!
Это погружение должно осуществляться без хода. После приёма балласта в носовые и кормовые цистерны наконец даю команду:
— Открыть клапана вентиляции средней!
Со свистом вырывается воздух из цистерн, уступая место воде. Лодка погружается, но верх рубки остаётся торчать на поверхности. Начинаем принимать воду порциями в уравнительную цистерну, затем во все дифферентовочные, но строптивую лодку даже на ходу загнать под воду не удаётся. Пришлось возвратиться в базу и принять твёрдый балласт из чугунных чушек, разместив их в местах, указанных конструкторами.
Зато во время следующего выхода в море мы без труда ушли под воду, осуществили вывеску, впервые дали ход и проверили управляемость лодки на ходу под электромоторами и под турбиной. Лодка вела себя очень послушно. Манёвренность, что все сразу заметили, была потрясающей! Затем, всплыв и идя вдоль низких берегов северодвинского побережья, мы начали определять свои манёвренные элементы на мерной миле.
Из одного полигона мы переходили в другой, выполняя отдельные пункты программы и периодически заменяя часть людей, которые приходили к нам на испытания новой техники. Экипаж выполнял пункты программы в основном по боевой тревоге. На борту постоянно находился председатель комиссии адмирал Г.М. Егоров. Вёл он себя деликатно, в управление кораблём не вмешивался. Это давало возможность даже при нахождении большого начальника на борту чувствовать себя полноценным командиром. Мне только приходилось с ним согласовывать пункты программы испытаний. Экипаж с каждым днём становился всё более сплочённым, сработанным. Жизнь входила в привычный ритм.
Всё управление лодкой 705-го проекта сосредоточено в центральном посту, что было удобно. Весь экипаж был перед глазами, и я всегда мог уловить даже тень растерянности у кого-либо из специалистов. Офицеру, обслуживающему новое оружие и технику, мало знать, где что находится на пульте и как делать различные переключения. Ему необходимо совершенно чётко и ясно представлять, какими механизмами он управляет. Но и этого мало. Хороший специалист должен знать основы высшей математики и физики, понимать процессы, протекающие в электронных приборах и ядерном реакторе, уметь предугадывать капризы техники.
Белое море в это время года ничем не радовало. От близости Ледовитого океана лицо сводило режущим холодом. Дни становились всё короче. Море всё чаще превращалось в грохочущую тьму. Но испытания продолжались. Подводная лодка носилась из одного полигона в другой, один вид испытания сменялся другим.
На одном из этапов проверки лодки на ходу в подводном положении прибыл на борт академик Вадим Александрович Трапезников. Он был радушно встречен. Наш кок, мичман Миронов, которому по штату нужно было кормить 23 человека, готовил ежедневно на 45–50 человек. Он не отходил от плиты, поскольку питание было организовано в 2–3 смены. И всё-таки он умудрился испечь ради такого случая торт.
Вадим Александрович по достоинству оценил приём, а главное — новизну подводного корабля, его глаза с восхищением скользили по мнемосхемам пультов, где фиксировалась работа систем и механизмов ПЛ. Не скрою, мне было приятно услышать от академика лестные отзывы о высоком профессионализме моего экипажа. Ведь мы были первыми.
Перед всплытием я приказал собраться всей команде в кают-компании. Здесь мы вручили Вадиму Александровичу скромный подарок — „разовую“, репсовую синюю униформу подводника, пилотку и тельняшку. Трапезников был растроган и в память о пребывании на лодке сделал запись в книге почётных гостей. Дважды выходил с нами в море заместитель министра судостроительной промышленности СССР И.С. Белоусов.
Освоение новой подводной лодки, разумеется, не было парадом побед. Ещё в ночь до первого выхода в море поршень устройства ДУК (система удаления мусора под водой) из-за неисправности в системе стопоров вылез в отсек, что грозило затоплением лодки. Пришлось по аварийной тревоге ставить отсек под давление и возвращать поршень на своё место.
При первом погружении на глубину 40 метров в резиновый кабель радиопеленгатора просочилась вода, и по мере нашего погружения кабель раздувался в резиновый шар, потом он лопнул на глубине, обдав нас ледяной водой Белого моря. Заводские мастера быстро зажали сальники, по которым просачивалась вода, и мы продолжили испытания.
Пожалуй, самым неприятным событием был выход из строя кондиционера в 3-м отсеке, обеспечивающего поддержание нормального температурного режима технических средств 1–3-го отсеков. Были приняты меры по доставке из Северодвинска вентилятора. Однако при перегрузке на катер вентилятор из-за штормовой погоды выпал за борт. Пребывание в море без кондиционера стало небезопасным: выход из строя вытяжного вентилятора привёл бы к необходимости расхолаживания реакторной установки. Посоветовавшись с командиром БЧ-5, я принял решение прервать испытания, о чём доложил председателю комиссии. Несмотря на настойчивые требования представителей промышленности продолжать испытания, моё предложение было поддержано адмиралом Г.М. Егоровым и мы в надводном положении вернулись в базу.
В базе пришлось задержаться надолго. За время плавания накопился довольно большой перечень неисправностей, которые нужно было устранить до выхода в море. Кое-кто из офицеров даже успел съездить в краткосрочные отпуска, повидать жён и детей».
И вновь слово А. Пушкину…
«Много лет спустя — в декабре 1995 года, когда в Санкт-Петербурге в очередной раз собрался наш экипаж, бывший командир электротехнического дивизиона Тихонов признался мне, как они втроём с капитан-лейтенантами Жизневским и Марьяскиным пришли перед глубоководном погружением в церковь (в Коле) и купили самую большую свечу. Они поставили её Николаю Чудотворцу, покровителю моряков, попросив у него благополучия в глубоководном погружении…
Глубоководное погружение — наиболее ответственная и опасная часть испытаний. Лодка погружается на свою рабочую глубину, которую для нас установили в 320 метров. На Белом море есть только одно такое место — впадина в Кандалакшской губе. Но нам нужно было не только погрузиться, но и выполнить стрельбы из торпедных аппаратов и проверить корабль на разных режимах хода.
Поэтому днём и ночью шло устранение замечаний, лодка готовилась к решающему выходу к морю. Тем временем усложнилась ледовая обстановка в бухте и на море. Суровые 20-градусные морозы сковали всё льдом. По выходному фарватеру сновали буксиры, не давая схватиться льду. На выручку к нам спешил из Мурманска ледокол „Добрыня Никитич“.
Пришёл в Северодвинск для обеспечения наших испытаний новейший спасатель подводных лодок „Карпаты“. Его командиром оказался мой однокашник по училищу — капитан 2-го ранга В. Драгунов. Наши шутники сразу же перефразировали популярную песенку: „А где же наша лодочка "Карпаты"?..“
21 декабря 1971 года мы снялись со швартовых и с помощью буксиров двинулись в ледяном крошеве фарватера на выход в море. Небо было ясным. Мороз около 20 градусов. Над полыньями курился парок. Мы выходили из Северодвинска, чтобы больше сюда не возвращаться, а следовать после глубоководного погружения на выход из Белого моря к берегам Кольского полуострова.
Фарватер закончился, но и открытое море встретило нас битым льдом. Мы медленно ползли среди льдин, толщина которых достигала 10 сантиметров. К вечеру подошли к точке погружения. Надежды примчаться в новую базу со скоростью курьерского поезда не оправдались.
Когда я задраил верхний рубочный люк и спустился в центральный пост, обстановка внутри корабля показалась сущим блаженством. Офицеры сидели за своими пультами в синей репсовой униформе, в сандалиях, а я стоял перед ними в обледеневшей меховой одежде.
Сбросив альпаковую куртку, даю команду на погружение. Через час мы уже мчались в подводном положении на скорости около 30 узлов к глубоководной впадине. Все свободные объёмы корабля были забиты вещами, продуктами, запасными частями.
Погружение на глубину мы планировали начать с рассветом. Утром всплыли. Рабочие завода установили на корме лодки вьюшку с тросиком, к которому прикрепили буй. Подошёл спасатель „Карпаты“ и сторожевик-конвоир. Море было пустынным, но чистым ото льда.
В 10 утра, получив квитанцию с берега на переданное радио, я начал погружение. Связь мы поддерживали по системе звукоподводной связи со сторожевым кораблём, который следовал за нами на правом траверзе.
До глубины 150 м дошли почти без замечаний. Но на двухстах метрах забортное давление выдавило резиновую прокладку у одного из клапанов. Вода под давлением 20 атмосфер, превращаясь в водяную пыль, ударила в центральный пост с диким свистом. Я не слышал своего голоса и объявил „аварийную тревогу“ скорее жестами, чем словами. Старпом меня понял — всплываем! Я толкнул оператора-рулевого — всплывай! И тут же дал команду продуть главный балласт.
Воздух высокого давления со свистом ворвался в ЦГБ. Я увеличил ход. Лодка слушалась горизонтальных рулей хорошо, дифферент стал отходить на корму. Поступающий воздух в цистерны при всплытии лодки расширялся. Всплытие ускорялось. В результате мы пробкой выскочили на поверхность. Крен при всплытии достиг 30 градусов на правый борт. Затем лодка закачалась и постепенно пришла на ровный киль при значительном крене на правый борт. В течение трёх часов мы пополняли воздух высокого давления, тем временем заводские специалисты заменили прокладку. Протёрли спиртом забрызганные солёной водой панели пультов, убедились в их нормальной изоляции, и мы снова пошли в глубину.
Погружение на 300 метров прошло благополучно. Правда, несколько раз пришлось подвсплывать 40 метров, чтобы подтянуть сальники. Осмотревшись в отсеке на глубине 320 метров, мы развили полную скорость хода. Правда, нам было разрешено давать не более 38 узлов.
На скорости 33–35 узлов прошли зону сильной вибрации. Корпус сотрясался в режиме пневматического молотка. Я уже начал подумывать, может быть, мы открыли своего рода подводный флаттер? Известно, что в авиации это явление заканчивается разрушением самолёта. А что будет у нас? Но на скорости 35,5 узла вибрация вдруг исчезла, и лодка со скоростью почти 70 километров в час помчалась по глубоководному жёлобу Белого моря. В таком режиме мы шли шесть часов. Учёные, представители сдаточной команды, замеряли различные параметры. Экипаж нёс вахту по боевой готовности № 1. Под килем было всего 20 метров. Одно неверное движение оператора и через пару секунд мы бы врезались в грунт. К счастью, всё обошлось благополучно. Выполнив программу испытаний, мы всплыли и дали радио. Мы поблагодарили всех, кто обеспечивал наше погружение, высадили на „Аксай“ членов сдаточной команды (на переход было оставлено пять человек) и двинулись в Баренцево море. Скоро за горизонтом скрылись спасатель и сторожевой корабль. К-64 полным ходом следовала в точку назначенной встречи. Здесь нас уже поджидал ледокол „Добрыня Никитич“.
Пришли мы в точку рандеву утром. Море было покрыто крупнобитым льдом, и нам пришлось перейти на ход под электромоторами, так легче маневрировать. Когда на горизонте показался ледокол, мы обменялись с ним позывными. С „Добрыни“ на борт лодки перешёл наш новый командир дивизии, к которой был приписан корабль. Это был контр-адмирал Ф.С. Воловик.
На лодке Фёдор Степанович сразу стал своим. Он внимательно знакомился с небывалой в его дивизии да и на всём флоте атомариной.
Тем временем мы прошли за кормой ледокола большую перемычку льда в горле Белого моря и на чистой воде, дав ход турбиной, понеслись к новой базе — Западной Лице. Баренцево море встретило нас неприветливо. Нос лодки всё чаще стал уходить под воду, а брызги от волн долетали мостика и окатывали стоявших там офицеров. Я приказал всем вахтенным прикрепиться штормовыми поясами к ограждению рубки. Вскоре волна и ветер усилились.
Волны перекатывались через мостик и обрушивались сквозь люк в центральный пост. Пришлось задраить верхний рубочный люк и в таком положении медленно двигаться к точке погружения.
Вскоре шестиметровые волны били по рубке. Стихию не зря называют слепой, она наносит удары наугад. „Волна-убийца“ (так определил её стоявший на мостике помощник командира Л.В. Егоренко), возникнув от сложения нескольких волн, нанесла мощный удар по ограждению рубки и вырвала титановую дверь.
Через три часа поступил наконец долгожданный доклад штурмана: „До точки погружения осталось 15 минут!“ Получив квитанцию на переданное радио, мы с трудом оторвались от бушующей поверхности и скрылись под водой. На глубине 60 метров ещё ощущалась качка. Лодка плавно двигалась вперёд, то и дело сильно кренясь. Мы увеличили ход до 25 узлов. Стало лучше… На следующий день мы подходили к Мотовскому заливу. При всплытии под перископ обнаружили сильный штормовой ветер, срывавший пену с барашков высоких волн. По всему горизонту были видны рыболовецкие суда. Недалеко от нас три сейнера, глубоко зарываясь носом, спешили укрыться за высоким берегом Кильдина.
Оператор на БИУС „Аккорд“ быстро определял элементы движения целей, радиолокатор давал точные дистанции до них, выдавал рекомендации по расхождению. На лодках предыдущего поколения всё это делалось вручную, с помощью планшетов.
Продули балласт, перешли в надводное положение. Лодку, как щепку, качало и швыряло, килевая и бортовая качка делала своё гадкое дело. Где-то зазвенел упавший на палубу стакан, где-то тяжело бился небрежно закреплённый аварийный брус. Мостик по-прежнему заливало водой. Ледяная вода попадала за шиворот моей меховой куртки, а затем по спине стекала ледяными струйками до сапог, в которых и без того уже хлюпало. И всё же К-64 медленно входила в знакомый мне Мотовский залив.
Почти десять лет прошло, как я увёл отсюда К-33 (проект 658), которой откомандовал два года. И вот наступил час возвращения. Слева и справа по курсу вырисовывались заснеженные сопки, было холодно и неуютно.
Ближе к заливу качка уменьшилась: мы входили в полосу затишья, которую создавал полуостров Рыбачий. Я позволил себе спуститься вниз и быстро переодеться в сухое. Через пять минут снова был на мостике.
Вход в базу был знаком до мелочей. Привычно обмениваемся опознавательными и позывными с постом на острове Кувшин. И вот наконец дирижаблеобразный нос лодки уже рассекает подёрнутую рябью гладь родной бухты. Последний разворот к пирсу. На его корне поблёскивает медью духовой оркестр. Гремит марш, под звуки которого лодка медленно подходит к причалу. Рапорт, объятия, добрые слова. Знакомые лица повсюду. Контр-адмирал В.С. Шаповалов (мой бывший командир дивизии) уже командует в Западной Лице первой флотилией.
В 17 часов в кают-компании плавбазы „Магомед Гаджиев“ состоялось подписание акта о передаче лодки 705-го проекта К-64 в опытную эксплуатацию. Акт подписали заместитель Главкома адмирал Г.М. Егоров, заместитель министра судостроительной промышленности И.С. Белоусов и я.
Всё это произошло 31 декабря 1971 года. Разумеется, вестовые принесли в кают-компании бокалы шампанского. Затем начальство село в машины и укатило в аэропорт, чтобы лететь в Москву и успеть к новогодним столам. Мы же остались в Западной Лице. Семьи наши были далеко. Нас ждали повседневные заботы и… большие дела!»
Запустить баллистическую ракету с земли — задача космической сложности. Но отправить её в полёт над землёй из океанской глубины — втрое сложнее. Профессиональный офицер-ракетчик капитан-лейтенант Николай Суворов описал свои ощущения и чувства при подводном старте так: «Кто хоть раз стрелял из охотничьего ружья 12 калибра, может себе представить, что такое — выстрелить 10-метровой „пулей“ из 2-метрового „калибра“. Дикий рёв, вибрация корпуса, перемешанные чувства страха и восторга, крики „Ура!“ в отсеках после выхода очередной ракеты и долгие часы ожидания радиограммы о результатах стрельбы».
Не забудем, что самый первый старт из-под воды состоялся на нашем флоте в ноябре 1960 года, когда командир ракетной дизельной подводной лодки Б-67 капитан 2-го ранга Вадим Коробов выпустил из глубин Белого моря баллистическую ракету. Этим пуском была доказана на практике возможность подводной ракетной стрельбы.
Но так, как стреляли наши подводные лодки К-140 (командир — капитан 2-го ранга Юрий Бекетов) и К-407 (командир — капитан 2-го ранга Сергей Егоров), не стрелял в мире никто: сначала 8 ракет в одном залпе, потом 16.

Рассказывает контр-адмирал в отставке Юрий Флавианович Бекетов:
— В начале октября 1969 года я был назначен командиром ракетной подводной лодки стратегического назначения К-140. Это была первая серийная подводная лодка проекта 667А. В дальнейшем — ракетный подводный крейсер стратегического назначения. Подводная лодка со вторым экипажем на борту готовилась к переходу в Северодвинск на модернизацию, а наш — первый — экипаж принял подводную лодку К-32 и начал подготовку к выходу в море на боевое патрулирование. Мне как командиру первого экипажа К-140 командованием эскадры была поставлена задача:
— подготовить экипаж и подводную лодку к выходу в море на боевое патрулирование;
— подготовить экипаж и подводную лодку к выполнению пуска 8 ракет в одном залпе.
Планируемые сроки были разными. На подготовку к боевой службе отводилось примерно пять месяцев, а на подготовку и выполнение стрельбы — не более трёх месяцев.
У многих возникает вопрос, почему необходимо было стрелять 8-ю баллистическими ракетами, а не 12-ю или 16-ю? Дело в том, что 8 ракет были „разампулизированы“ во время несения боевой службы другим экипажем, по этой причине срок их гарантированной службы был значительно снижен, и они по всем ракетным канонам подлежали пуску в трёхмесячный срок.
Задача упрощалась тем, что первый экипаж К-140 был хорошо подготовлен, и в этом нужно отдать должное первому командиру — капитану 1-го ранга (ныне вице-адмиралу) Анатолию Петровичу Матвееву. Хорошо знали своё дело штурман капитан 3-го ранга И.Ф. Величко, с которым я был знаком по службе на дизельных ракетных подводных лодках, младший штурман капитан-лейтенант В.С. Топчило, командир ракетной боевой части капитан 2-го ранга В.М. Сомкин.
Мне же приходилось, как говорится, дни и даже ночи проводить на корабле, поскольку кроме основных поставленных задач я должен получить допуск на самостоятельное управление подводной лодкой 667А проекта и подтвердить линейность первого экипажа К-140, т.е. его способность выполнять все задачи.
Выход на стрельбу планировался где-то в середине декабря 1969 года, а примерно за месяц стали прибывать на эскадру представители науки и промышленности, желающие принять участие в этом уникальном испытании. Причём желающих выйти в море было не менее 100 человек. Что делать? Столько пассажиров на подводную лодку я взять не мог. По инструкции разрешалось иметь в море превышение экипажа не более 10%, т.е. 13–14 человек. Ни я, ни командование дивизии и эскадры не могли решать, кого персонально брать. Все — заслуженные люди, учёные, руководители предприятий и т.д.
На одном из совещаний я предложил провести медицинское освидетельствование указанных лиц, а с признанными годными по медицинским показателям провести тренировки по легководолазной подготовке: использование водолазного снаряжения подводника, выход из торпедного аппарата и другие. Все согласились, понимая, что может случиться в случае аварийной ситуации — ведь в мире такого опыта по пуску ракет нет. В результате на выход в море были утверждены 16 человек, в число которых был включён и генеральный конструктор ракетного комплекса Макеев Виктор Петрович.
К середине декабря 1969 года всё было подготовлено к выходу в море и выполнению ракетной стрельбы. 18 декабря (в мой день рождения) выходим в море. Старший на борту командир 31-й дивизии атомных ракетных подводных лодок капитан 1-го ранга (ныне вице-адмирал, Герой Советского Союза) Лев Алексеевич Матушкин, который в историю нашего атомного ракетного подводного флота вписал немало страниц мужества и отваги.
Руководитель стрельбы — на надводном корабле командир 12-й эскадры подводных лодок, контр-адмирал (ныне вице-адмирал) Георгий Лукич Неволин. Трудно переоценить его вклад в обеспечении боеготовности и боеспособности нашей эскадры. Благодаря его настойчивости и профессионализму моряка-подводника была воспитана плеяда командиров ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. Мне не забыть никогда, да это и не забывается, когда он провожал меня, молодого командира К-19, в первый самостоятельный выход в море. Он приехал на причал без свиты, спросил, уверен ли я, как я буду доносить о своих действиях по плану выхода в море. Последние его слова были: „Не гарцуй!“ Пока я отходил от причала и разворачивался на выход из базы, он стоял на причале, провожая меня в глубины моря. При подготовке к стрельбе он лично занимался всеми возникающими вопросами.
Выходим, всё нормально. Погода хорошая: море 2–3 балла, ветер в пределах 5–6 м/сек, видимость полная, облачность не более 3-х баллов, полярная ночь.
Стрельба с оборудованной позиции (в видимости береговой черты и навигационных знаков). Заняли исходную точку маневрирования, погрузились на перископную глубину, на малом ходу начали проверку системы курсоуказания. Штурмана во главе с флагманским штурманом эскадры В.В. Владимировым начали определять поправку системы курсоуказания для точности пеленга стрельбы. От работы штурманов зависит отклонение ракеты по направлению от заданной цели.
Закончили работу на первом, тренировочном галсе. Возвращаемся в исходную точку и ложимся на боевой курс, приводим систему курсоуказания в норму для выполнения стрельбы. Запрашиваем у руководителя разрешения на стрельбу. Ждём Получаем «добро» на работу, держим звукоподводную связь с руководителем, погружаемся на стартовую глубину, дифферентуем лодку с дифферентом „ноль“. Скорость 3,5 узла. Всё готово.
— Боевая тревога, ракетная атака!
Напряжение нарастает и, видимо, наибольшее — у меня.
— Начать предстартовую подготовку!
Идёт предстартовая подготовка: предварительный наддув, кольцевые зазоры ракетных шахт заполняются водой, предстартовый наддув, готовы открыть крышки ракетных шахт первой четвёрки. Даю команду.
— Открыть крышки шахт!
Крышки открыты.
— Старт!
Пустили секундомер. Старт первой, затем с интервалом в 7 секунд стартуют вторая, третья и четвёртая ракеты. Старт ощущается по толчкам в прочный корпус подводной лодки. Даю команду.
— Задраить крышки ракетных шахт первой «четвёрки» и открыть крышки шахт второй «четвёрки»!
На эту операцию отводится полторы минуты. Операция выполнена, готов дать команду на старт второй «четвёрки» ракет, но лодка начинает проваливаться за коридор стартовой глубины. Что делать? Создающаяся ситуация чревата отменой старта ракет, так как выход за пределы, установленные инструкцией для глубин стартового коридора, приводит к автоматической отмене старта и возвращению технических средств в исходное положение. Понимаю, что возникает нештатная ситуация: положение Инструкции по управлению подводной лодкой при пуске ракет гласит, что после старта первой четвёрки ракет подводная лодка имеет тенденцию к всплытию, и её необходимо утяжелять, т.е. принимать балласт. Однако на практике — всё наоборот. Даю команду откачивать воду из уравнительной цистерны, но понимаю, что инерционность лодки (всё-таки водоизмещение около 10 тысяч тонн) большая и мы выйдем за стартовую глубину. Приказываю увеличить скорость хода плавным добавлением до 20 оборотов каждой турбине. При этом учитываю, что стартовая скорость не должна превышать 4,25 узла. Проходят секунды, смотрю на командира дивизии, он даёт знак, что всё правильно. Лодка держит стартовую глубину, сбрасываем по 10 оборотов, командую „Старт!“. Стартуют последние ракеты. Командир ракетной боевой части докладывает: „Старт прошёл нормально, замечаний нет“. По громкоговорящей связи обращаюсь к экипажу. Говорю, что впервые в мире выполнен пуск 8 ракет в одном залпе, благодарю за службу. В центральном посту и по отсекам раздаётся „Ура!“.
Всплываем в надводное положение, ложимся на курс в базу. Получаем благодарность от руководителя стрельбы и сообщение, что боевое поле приняло 8 ракет, отклонение (центр группирования головных частей) первой и второй четвёрки в пределах нормы.
Придя в базу, я узнал, что многие офицеры эскадры наблюдали результаты нашей работы. Время пуска — 8 часов 30 минут, когда офицерский состав и мичмана шли на службу из городка. Видимость была хорошая, и они видели, как передвигались по небосводу 4 светящихся объекта, а затем ещё 4 таких же объекта.
После выполнения стрельбы экипаж начал интенсивную подготовку к боевой службе. Думать о наградах и поощрениях за успешно выполненную задачу было некогда, да и не принято. Мы служили не за награды. Однако посещающие нашу базу представители промышленности интересовались, как нас отметили за эту стрельбу, поскольку они получили ордена и премии. Мы говорили, что, видимо, до нас очередь ещё не дошла.
В начале 1970 года Военно-морской флот готовился к участию в манёврах под названием „Океан“. Планами предусматривались комплексные учения на флотах и флотилиях с участием значительного числа сил флота.
Примерно в марте на флотилию (к этому времени наша эскадра стала флотилией ракетных подводных лодок) прибыл Главнокомандующий ВМФ Адмирал Флота Советского Союза С.Г. Горшков с комиссией Главного штаба ВМФ для проверки готовности флотилии к участию в манёврах. Помню, что подводной лодке под командованием капитана 2-го ранга Владимира Громова ставилась задача пуска ракет из северной части Атлантического океана по морскому району в Норвежском море. Принимали участие в манёврах и другие наши корабли. На разборе результатов проверки готовности к участию в этих глобальных учениях были приглашены и командиры подводных лодок, выполняющих задачи боевой службы в период проведения манёвров, в том числе и я.
Все участники совещания собрались в конференц-зале дома офицеров базы. Кроме нас, гаджиевцев, присутствовали представители и других объединений и соединений Северного флота, которым предстояло решать задачи на манёврах «Океан». Присутствовал и командующий Северным флотом адмирал С.М. Лобов.
После вступительного слова Главнокомандующий спросил, кто выполнял 8-ракетный залп? Я встал и представился. Главком сказал: „Расскажите, как вы выполнили эту стрельбу, какие ваши впечатления и ощущение?“
В течение 4–5 минут я доложил об особенностях выполнения стрельбы примерно так, как это изложено выше.
Главком спросил:
— Вы уверены в боевых возможностях ракетного комплекса? И если вам будет поручено, выполните пуск и 16 ракет?
Я ответил утвердительно.
— Это хорошо, — сказал Главком и добавил: — Вы идёте на боевую службу. Вам предстоит решать боевые задачи.
Я ответил, что экипаж готов выполнить поставленные задачи. В завершение беседы Главнокомандующий спросил:
— Товарищ Бекетов, как вас поощрили?
Я не мог быстро ответить. Ответил командующий флотилией вице-адмирал Г.Л. Неволин. Он сказал, что командир и экипаж не поощрены, так как против выступает начальник Управления ракетно-артиллерийского вооружения ВМФ (УРАВ ВМФ) вице-адмирал Сычёв.
— Сычёв, — сказал Главком, — в чём дело?
Сычёв ответил, что этот экипаж фактически вывел из строя 8 боевых ракет, разампулизировал их в результате неграмотного обслуживания, и нужно наказывать. Неволин сразу же ответил, что Сычёв не прав, стрелял другой экипаж, но Главком уже не слушал. Он сказал начальнику УРАВ, что тот не понимает важности такого пуска.
— Ведь мы утёрли нос американцам, вот это главное. Командира и экипаж поощрить и мне доложить, — заключил Главнокомандующий.
Я был представлен к награждению и награждён орденом Красного Знамени.
За десять дней до гибели советской державы из глубин Баренцева моря вдруг вырвались одна за другой шестнадцать баллистических ракет и унеслись в сторону берега. Это уникальное зрелище наблюдали лишь несколько человек с борта сторожевого корабля, дрейфовавшего в пустынном море… Только они знали, что этот день — 8 августа 1991 года — войдёт в историю советского флота, да и российского в целом как день великого ратного свершения.
…Когда академику Королёву предложили разработать ракеты для старта из-под воды, он посчитал затею абсурдной и именно поэтому взялся осуществить идею на практике. Ракета, стартующая из глубины моря, всё равно что паровоз, взлетающий с аэродрома. Тем не менее генеральный конструктор и его бюро такие ракеты создали.

Бывший Главнокомандующий ВМФ СССР Герой Советского Союза адмирал флота Владимир Чернавин:
— Ракеты подводного базирования были признаны самым надёжном компонентом стратегических ядерных сил и в СССР, и в США. Возможно, именно поэтому под шумок переговоров о необходимости ограничений стратегических вооружений стали подбираться к атомным подводным крейсерам стратегического назначения. Во всяком случае, в последние годы печально знаменитой «перестройки» в Министерстве обороны СССР всё чаще и чаще раздавались голоса — де подводные ракетоносцы весьма ненадёжные носители баллистических ракет, мол, они способны сделать не более двух-трёх пусков, и потому нужно избавляться от них в первую очередь. Так возникла необходимость демонстрации полноракетного подводного старта. Дело это весьма дорогостоящее и непростое, но надо было отстаивать честь оружия, и я поручил эту миссию экипажу атомного подводного ракетоносца «Новомосковск» (тогда это была номерная лодка), которым командовал капитан 2-го ранга Сергей Егоров.

С Сергеем Владимировичем Егоровым, ныне капитаном 1-го ранга, я встретился в его служебном кабинете. Высокий моложавый моряк, коренной петербуржец, вспоминал эпопею семилетней давности, как мне показалось, без особого энтузиазма. Возможно, он просто устал от безрадостной штабной службы и хронического безденежья. Однако слово за слово, и бывший командир легендарного подводного крейсера К-407, который славен и другими подвигами — об этом чуть позже, — слегка оживился.
— Одно дело — запускать ракету из наземной шахты, глядя на старт за километр из бетонного бункера. Другое — запускать её, как мы: вот отсюда! — Егоров постучал себя по шее. — С загривка.
Да, случись что с ракетой, заправленной высокотоксичным топливом, — и экипажу несдобровать. Авария в ракетной шахте № 6 на злополучной атомарине К-219 закончилась гибелью нескольких моряков, да и самого корабля. Менее трагично, но с огромным ущербом для окружающей среды завершилась попытка первого полноракетного залпа в 1989 году.
— Тогда, — невесело усмехается Егоров, — на борту было свыше полусотни человек всевозможного начальства. Только одних политработников пять душ. Многие ведь пошли за орденами. Но когда лодка провалилась на глубину и раздавили ракету, кое-кто очень быстро перебрался на спасательный буксир. Нам в этом плане было легче: со мной вышли только два начальника: контр-адмиралы Сальников и Макеев. Ну и ещё генеральный конструктор корабля Ковалёв вместе с замом генерального по ракетному оружию Величко, что обоим делает честь. Так в старину инженеры доказывали прочность своих сооружений: стояли под мостом, пока по нему не пройдёт поезд… В общем, чужих на борту не было.
Контр-адмирал Сальников предупредил Макеева, нашего комдива: «Хоть одно слово скажешь — выгоню из центрального поста!» Чтоб никто не вклинивался в цепь моих команд. У нас и так всё было отработано до полного автоматизма. Любое лишнее слово — совет или распоряжение — могло сбить темп и без того пренапряжённейшей работы всего экипажа. Судите сами: на залповой глубине открываются крышки шахт, они встают торчком, и сразу же возрастает гидродинамическое сопротивление корпуса, снижается скорость; турбинисты должны немедленно прибавить обороты, чтобы выдержать заданные параметры хода. Все 16 шахт перед пуском заполняются водой, вес лодки резко увеличивается на многие тонны, она начинает погружаться, но её надо удержать точно в стартовом коридоре. Значит, трюмные должны вовремя продуть излишек балласта, иначе лодка раскачается, корма пойдёт вниз, а нос вверх, пусть не намного, но при длине корабля в полтораста метров разница в глубине для ракеты скажется губительно, и она уйдёт, как мы говорим, «в отмену». Ведь за несколько секунд до старта некоторые её агрегаты включаются в необратимом режиме. И в случае отмены старта они подлежат заводской замене, а это немалые деньги.
Даже в самых общих чертах ясно, что ракетный залп из-под воды требует сверхслаженной работы всего экипажа. Это посложнее, чем стрельба по-македонски — с двух рук, навскидку. Тут оплошность одного из ста может стоить общего успеха. И потому Егоров больше года гонял своих людей на тренажёрах, пять раз выходил в моря отрабатывать с экипажем главную задачу. Из разрозненных воль, душ, интеллектов, сноровок Егоров сплёл, создал, смонтировал отлаженный человеческий механизм, который позволял разрядить громадный подводный ракетодром столь же лихо и безотказно, как выпустить очередь из автомата Калашникова. В этом был его великий командирский труд, в этом был его подвиг, к которому он готовил себя беспощаднее иного олимпийца.
И день настал… Но сначала они пережили множество проверок и комиссий, которые, перекрывая друг друга, дотошно изучали готовность корабля к выходу на небывалое дело. Последним прибыл из Москвы начальник отдела боевой подготовки подводных сил ВМФ контр-адмирал Юрий Фёдоров. Он прибыл с негласной установкой — «проверить и не допустить». Так его напутствовал ВРИО Главнокомандующего, который остался в августе вместо Главкома, ушедшего в отпуск. ВРИО не хотелось брать на себя ответственность за исход операции «Бегемот» — как назвали стрельбу «Новомосковска». Слишком памятна была неудача первой попытки. Но Юрий Петрович Фёдоров, убедившись, что экипаж безупречно готов к выполнению задания, дал в Москву честную шифровку: «проверил и допускаю». Сам же, чтобы его не достали гневные телефонограммы, срочно отбыл в другой гарнизон.
Итак, путь в море был открыт.
— Представляю, как вы волновались…
— Не помню. Все эмоции ушли куда-то в подкорку. В голове прокручивал только схему стрельбы. Можно сказать, шёл на автомате. Хотя, конечно же, в моей судьбе от исхода операции «Бегемот» решалось многое. Мне даже очередное звание слегка придержали. Мол, по результату… И академия светила только по итогу стрельбы. Да и вся жизнь была поставлена на карту. Карту Баренцева моря…
За полчаса до старта — загвоздка. Вдруг пропала звукоподводная связь с надводным кораблём, который фиксировал результаты нашей стрельбы. Мы их слышим, а они нас — нет. Сторожевик — старенький, на нём приёмный тракт барахлил. Инструкция запрещала стрельбу без двусторонней связи. Но ведь столько готовились! И контр-адмирал Сальников, старший на борту, взял всю ответственность на себя: «Стреляй, командир!»
Я верил в свой корабль, я ж его на заводе принимал, плавать учил, в линию вводил. Верил в своих людей, особенно в старпома, ракетчика и механика. Верил в опыт своего предшественника — капитана 1-го ранга Юрия Бекетова. Правда, тот стрелял только восемью ракетами, но все вышли без сучка и задоринки. Мне же сказали, что даже если тринадцать выпустим, то и это успех. А мы все шестнадцать шарахнули. Без единого сбоя. Как очередь из автомата выпустили. Но ведь «пуля» дура. А что говорить про многотонные баллистические ракеты? Капризная «дура»? Нет, ракета большая умница, с ней надо только по-умному.
Погоны с тремя большими звёздами Сальников вручил мне прямо в центральном посту. В родной базе нас встречали с оркестром. Поднесли по традиции жареных поросят. Но прожарить как следует не успели. Мы их потом на собственном камбузе до кондиции довели и на сто тридцать кусочков порезали — чтоб каждому члену экипажа досталось. Представили нас к наградам: меня к Герою Советского Союза, старпома — к ордену Ленина, механика — к Красному Знамени… Но через неделю — ГКЧП, Советский Союз упразднили, советские ордена тоже. Дали всем по «звёздочке» — и делу конец.
Когда-то, в пору офицерской молодости лодочные остряки сочинили двустишие: «Самый длинный из минёров старший лейтенант Егоров». Капитан 1-го ранга Егоров высок не только ростом. Высок моряцкой судьбой, высок командирским духом, высок отвагой. Словом, ростом своим под стать мостику подводного крейсера стратегического назначения.
…Я видел эту историческую видеозапись. На хронометре 21 час 09 минут 6 августа 1991 года. Вот, проклюнувшись из воды, оставив на поверхности моря облако пара, взмыла ввысь и скрылась в полярном небе первая ракета; через несколько секунд за ней устремилась с воем вторая, третья- пятая… восьмая… двенадцатая… шестнадцатая! Облако пара тянулось по ходу подводного крейсера. Раскатистый грозный гул стоял над пасмурным нелюдимым морем. Вдруг подумалось: вот так бы выглядел мир за несколько минут до конца света. Кто-то назвал эту стрельбу «генеральной репетицией ядерного апокалипсиса». Но нет, то был прощальный салют, который отдавала Великая подводная армада своей обречённой великой державе. СССР уже погружался в пучину времени, как подраненный айсбергом «Титаник».
В историю надо уходить красиво.
Несколько слов о наградах командиру и его экипажу. Конечно же, подводники заслужили больше, чем получили. Но любой канцелярист скажет, что за один подвиг дважды не награждают, и потому Золотая Звезда Героя России капитану 1-го ранга Егорову и не просияла, хотя Героя Советского Союза давали и за восемь последовательных пусков. Но ведь Егоров принимал от промышленности, вводил в строй, отрабатывал во всех режимах новейший атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения. БДРМ «Новомосковск» даже в беспоходные и бесславные для флота 1990-е годы несколько раз сумел прогреметь на всю страну. В 1997 году этот корабль совершил то, что не удавалось никому в мире — запустить ракету в цель с Северного полюса, с макушки планеты. В 1998 году ракета, запущенная с крейсера, вывела в космос искусственный спутник Земли. Дела воистину глобального масштаба. Право же, пора отдать должное первому командиру этого исторического корабля, офицеру, который и сегодня служит по завету поэта-фронтовика: «Не до ордена, была бы Родина».
ПДУ — портативная дыхательная установка. Футляр с ПДУ подводники носят в отсеках постоянно, как противогаз — на боку.
(обратно)Сокращённое название фреонной системы пожаротушения — Лодочная, Объёмная, Химическая.
(обратно)ВПЛ — воздушная пенная лодочная система пожаротушения.
(обратно)ТОФ — Тихоокеанский флот.
(обратно)СМПЛ — сверхмалые подводные лодки.
(обратно)Возглавлял ЦРУ при президенте Дж. Картере.
(обратно)Директор ЦРУ Уильям Кейси.
(обратно)Первоначальный номер этой подводной лодки был К-222.
(обратно)