


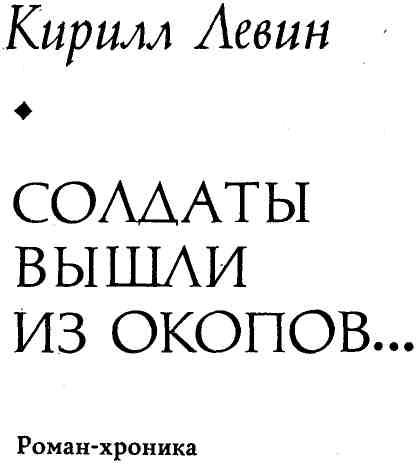

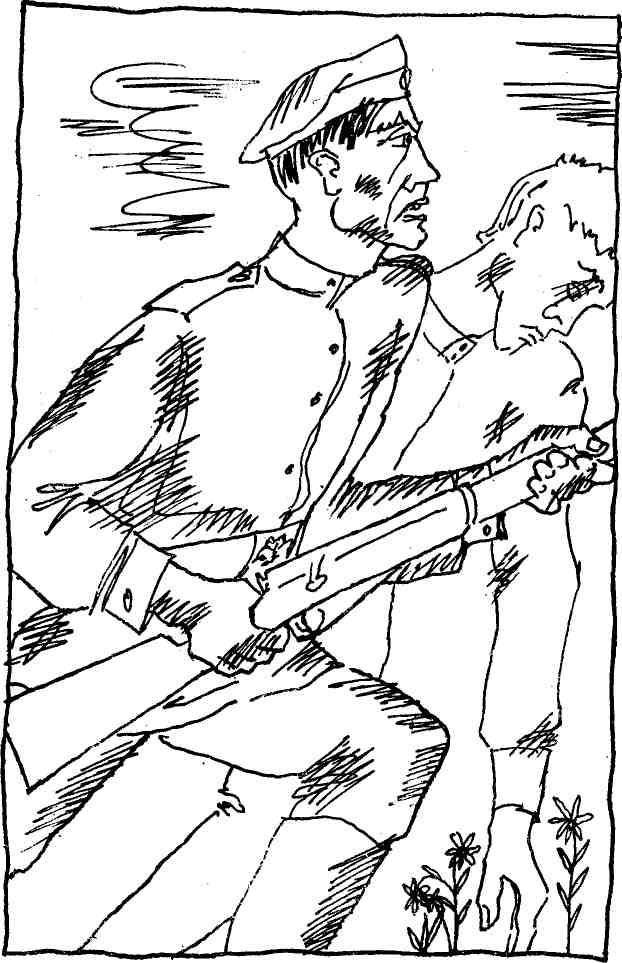
Музыканты — пятнадцать солдат в мокрых сапогах — маршировали по грязной, немощеной улице. За ними с сундучками на плечах и спинах торопливо шли новобранцы, окруженные солдатами. Коренастый фельдфебель, шагая по деревянным мосткам тротуара, все время подозрительно поглядывал — не сбежал ли кто-нибудь?
У пригнанных со всех концов России молодых людей были встревоженные, напряженные лица. Лишь немногие ухарски посматривали кругом. Трое шли обнявшись — их сундучки вез старик на ручной тележке — и пели «Лучинушку». Но песня не получалась. И рослый новобранец в желтом, как масло, полушубке насмешливо говорил, косясь на певцов:
— Вот поют! Вот поют! На каторге так поют…
На повороте, возле зеленого одноэтажного домика, у парня, шагавшего в первом ряду, вдруг сорвался с плеча сундучок, и вещи вывалились прямо в лужу.
Фельдфебель скосил на него недовольный взгляд. Ефрейтор подошел и, сердито качая головой, сказал:
— Эх, сопля! Всю команду портишь!
Новобранец неловко и поспешно запрятал вещи в сундучок и, так как крышка плотно не захлопывалась, понес его, держа на груди, как охапку дров. Ему было трудно нести, руки не сходились на сундучке, затекли, но остановиться он не решался и шел, тяжело дыша.
Во дворе казармы фельдфебель, вынув из-за обшлага шинели бумагу, начал вызывать каждого по списку. В его голосе слышались низкие, властные ноты, тусклые глаза отсвечивали железом.
— Карцев! — выкрикнул он, и новобранец, который обронил на улице сундучок, вышел вперед.
— Что же ты, братец, неаккуратный такой? — спросил фельдфебель. — Сегодня барахло рассыпал, завтра винтовку уронишь. А?
— Скользко было, — ответил Карцев.
— Молчи, когда с тобой начальство говорит, тянись да слушай, — пригрозил фельдфебель.
Кривоногий ефрейтор с прижатыми, словно приклеенными к голове, ушами подошел сзади.
— Говори: «Слушаю, господин фельдфебель!» — сказал он. — Понял?
Карцев молчал.
— Понял? — настойчиво повторил ефрейтор. — Отвечай, когда начальство спрашивает.
— Понял.
— Тошно с вами, серыми чертями, возиться, — пробурчал ефрейтор и вдруг заорал: — Повторяй за мною: «Точно так, понял, господин ефрейтор!»
Карцев внятно повторил всю фразу. Лицо у него сжалось, стало угрюмым.
Карцев призывался в Одессе. Ему хорошо запомнилось воинское присутствие с вонючими коридорами, набитыми полураздетыми людьми, со шмыгающими писарями, наглыми и, как сразу было видно, продажными — они торговали чем только можно: и протекцией к врачу, и правом освидетельствования вне очереди, и назначением в хороший полк, обещанием льготы, освобождением от службы и многим другим. Он провел там несколько дней, дожидаясь, пока его вызвали, измерили рост и объем груди; врач со скучным лицом спросил его, не болел ли он гонореей, потом постукал крючковатыми пальцами по его груди и объявил годным. Ему выдали записку на сборный пункт к воинскому начальнику, и Карцев вышел, довольный, что избавился наконец от утомительного ожидания. Через два дня он явился к воинскому начальнику. Писарь с лаковыми глазами принял его вежливо. Щурясь и улыбаясь, расспросил, есть ли у него жена или девочка и не желает ли он до отправки в полк ночевать дома.
— А разве можно? — недоверчиво спросил Карцев.
— Все можно-с, — хихикая, ответил писарь и так ловко пошевелил пальцами, что Карцев сразу понял.
— Денег нет, — резко ответил он.
Писарь, сделав вид, будто не расслышал или вообще ни о чем не разговаривал с ним, закричал на новобранцев, чтобы те не торчали у него перед глазами, затем сложил стопкой бумаги, подравнял их и, мусоля пальцы, начал считать документы, как кассир деньги.
— А ты чего тут маячишь? — грубо сказал он Карцеву. — Марш отсюда во двор, в казарму!
Казарма у воинского начальника оказалась огромным помещением, с нарами в два этажа, как в бараках. Воздух был терпкий, прогорклый, воняло карболкой, всюду, куда ни глянешь, — грязь, оконные стекла так запылились, что почти не пропускали света. Видно было, что это временный этапный пункт и никто не хочет заботиться, чтобы он выглядел чище. Карцев, угрюмо оглядевшись, опустил на нары свои вещи.
Рядом с ним сидел с безнадежным видом маленький, худой человек с высоким лбом и странными глазами: большие, сиреневые, они смотрели так живо и тепло, что казались чужими на этом бледном, невеселом лице. Соседа звали Орлинский. Они разговорились с Карцевым.
— Какая тут грязища, — с отвращением сказал Орлинский. — Как надо не уважать человека, чтобы держать его в такой дыре!
— А за что нас уважать? — шутливо заметил Карцев. — Разве мы купцы или домовладельцы?
— Мне очень трудно, — тихо сказал Орлинский. — Если хотите, я боюсь. Да, боюсь. Не могу побороть себя… — Губы у него сморщились. — Понимаете, это не обычный страх. Это совсем другое… — Он оглянулся и прошептал, задыхаясь: — Я боюсь чужой, грубой власти. Ведь они могут заставить меня делать все, что захотят… Грабить и даже убивать… Понимаете?
Карцев взглянул на него с недоумением.
…На второй день явился воинский начальник — толстый полковник с лицом, исчерченным извилистыми кровяными жилками. Он обошел выстроившихся во дворе новобранцев и произнес речь.
— Теперь, ребята, вы будете служить царю и отечеству, — говорил он. — Вы все отныне родные братья, воины белого царя, защитники России. Вас все уважают, вам завидуют, и вы должны гордиться высокой честью, которая вам оказана.
Полковник помолчал и закончил:
— В полках, куда вас назначат, вы будете одинаково пользоваться отеческой заботой ваших начальников, и поэтому я не стану принимать никаких просьб о назначении в те или иные города. Везде служить хорошо, если честно выполнять свой воинский долг.
Одни смотрели покорно, другие насупились. Кто-то буркнул:
— Хорошо служить в солдатах, да что-то охотников мало!
Полковник, выставив грудь, закричал:
— Орлами, орлами смотреть! На царскую службу идете!
Оркестр заиграл веселый марш, писаря и унтер-офицеры стали кричать «ура». Новобранцев распустили, и к вечеру многие перепились. Водку покупали тут же у каптенармусов по повышенной цене. В казарме зажгли керосиновые лампы. Тусклый свет с трудом пробивался сквозь густой махорочный дым. Будущие солдаты сидели и лежали в обнимку на нарах, жаловались друг другу на злосчастную судьбу, целовались, плакали, пели…
Так провели всю ночь. Начальство не входило в казарму, зная по опыту, что лучше сейчас не трогать новобранцев: пусть погуляют напоследок — в частях все равно их обломают как полагается.
На третий день происходила разбивка по частям. Новобранцев по одному вызывали в канцелярию и давали назначение. Одни уезжали в Московский округ, другие в Сибирь, Туркестан, на персидскую границу. Мало кого оставляли на месте призыва: подальше от дома — спокойнее.
Сформированные под начальством ефрейторов и унтер-офицеров команды отправляли на вокзалы и там грузили их в товарные вагоны.
Партия, в которой ехали Карцев и Орлинский, попала в вагон четвертого класса, что для новобранцев считалось роскошью. Пассажиры охотно заговаривали с ними, давали советы, бывалые люди рассказывали, как им раньше служилось в солдатах.
На маленькой станции в вагон вошел старый рабочий с бородкой конусом и в очках с железной оправой. Он тут же включился в беседу, говорил ласково и насмешливо:
— Вот гляжу я на вас, пареньки: люди вы как люди, жили себе, работали, никому ничего плохого не делали, а теперь натаскают вас, как борзых, и станете вы, пареньки мои милые, вроде гладиаторами.
— Это кто же такие гла-ди-а-то-ры? — спросили у него.
Старик спокойно ответил:
— Гладиаторами, ребятки вы мои, назывались в древнем Риме рабы, плененные… Их специально обучали выступать в цирках и на потеху римской знати убивать друг друга.
К разговаривающим подошел ефрейтор и сердито взял старого рабочего за плечо.
— Ты что это слова всякие нехорошие тут говоришь? — грозно спросил он. — Смотри, сдам тебя куда надо. П-шел отсюда!
Старик улыбнулся.
— Я что же, я уйду, — ответил он, вставая. — Только я нехорошего им ничего не говорил.
— Слышал, слышал, что ты говорил!
— А разве неправда? — смеясь глазами, спросил старик. — Вот, к примеру, посмотри на себя. Тоже ведь заводной машиной сделали: сам тянешься и других тянешь. А, по всему видно, был, как и они, молочным когда-то…
Ефрейтор не нашелся что ответить.
— Иди, иди, — толкал он рабочего, — не к чему здесь языком трепать. Очки надел и задается. Тоже мне — лебедь-птица!
Ефрейтор был худощавый, узкоплечий парень с рыжими усами, неловко торчавшими над фиолетовыми губами. Лицо у него было бездумное, глаза цвета серой, засохшей земли. Двигался он размеренно, каким-то заученным шагом. И только когда спал или сидел в стороне, что-нибудь делая, его лицо и движения менялись, становились более простыми. И тогда можно было разглядеть в этой обезличенной фигуре неуклюжесть и застенчивость деревенского парня, а в глазах — невеселость и нетерпеливое ожидание чего-то.
Широкая деревянная лестница вела в просторные сени казармы, заставленные умывальниками и баками с кипяченой водой. Комнаты были светлые, с побеленными стенами и потолками, с вымытыми до блеска стеклами на окнах, с железными койками, одинаково заправленными одеялами из шинельного сукна. У стен стояли пирамиды для винтовок, а выше, вместо бордюра, черной краской были написаны изречения военной мудрости: «Пуля дура, а штык молодец», «Промедление смерти подобно есть», «Солдат — слуга царю и отечеству» и тому подобные.
Карцева в числе других назначили в первый взвод десятой роты. Взводный, старший унтер-офицер Машков, полный, ленивый в движениях, внимательно оглядел присланных к нему на выучку парней.
— Ну вот, ребята, — внушительно начал он, став против новобранцев и оттопырив пояс двумя пальцами. — Я уклонений не люблю. Тут вам не вольная жизнь. Хотя, конечно, и не каторга. Но военная служба, запомните, не тещин дом. Приказ — святая вещь. Избави бог его не выполнить. Иначе никакой пощады не будет. Портянка, добавлю, первая вещь для солдата. Без правильной завертки сотрешь ногу, а солдатская нога — казенное имущество. Тогда тебя, сволочь, накажут, и будет правильно. Тут и нарядов не жалко и под винтовкой сгниешь. Вообще. Еще скажу о высоком воинском звании. Сам государь император изволит носить военную форму, и вас того же удостаивают. Кто этого не поймет, тот пускай лучше просится в дисциплинарный батальон. Вникли? Начальство должны знать в лицо и по походке, и по звуку голоса, и по присвоенным ему отличиям. Называть начальство надо по чину и званию, и слушать его как господа бога. Без того никакой службы нет. К примеру, я — непосредственное ваше начальство: зовусь господин взводный, старший унтер-офицер Иван Николаевич Машков. Вот кто я! Запомните. Чтобы ко мне обратиться, должны раньше на то испросить разрешение у вашего отделенного командира. Вникли?
Он стоял перед ними в непоколебимом сознании своей власти, и они молча смотрели на него. Карцеву взводный казался похожим на каменного идола, которого он видел в музее.
Машков назначил к новобранцам старших, и те развели их по местам. Шестеро, направленные в первый взвод, пошли в цейхгауз за койками и постельными принадлежностями. Возле Карцева обосновался приехавший одновременно с ним Самохин — белокурый парень с плоским лицом, вялыми движениями и непомерно большими ногами. Карцев прилаживал койку. Сбитые доски с изголовьем клались на железные козлы. Все это сооружение было неустойчивым и качалось при малейшем движении лежащего на нем. К Самохину, распластавшемуся на койке, подошел рябой солдат мелкого сложения и, моргая глазами, спросил, не хочет ли тот поехать в отпуск. Самохин, усмехнувшись, ответил:
— Известно…
— Так ехай, — добродушно предложил солдат и, ухватив койку за край, потянул ее к себе и отпустил. Козлы качнулись, повалились, и койка с Самохиным рухнула на пол. Весь взвод хохотал.
— Ну вот и поехал в отпуск, — тоненько смеясь, проговорил солдат. Он суетился, заглядывая всем в глаза, и не трудно было понять, что историю с койкой он проделал, чтобы угодить другим, а не для собственного удовольствия.
Самохин встал сконфуженный и принялся неловко поднимать койку. Солдат с готовностью помогал ему. Карцев не удивился этой выходке. Он живал в бараках и знал, что в таких общежитиях существуют свои обычаи и нравы, часто жестокие, и надо по возможности мириться с ними, не давая все же себя в обиду: слабых нигде не любят.
Вскоре Карцеву выдали обмундирование и белье. Сапоги попались не по ноге. Он попросил обменять их.
— Меньших нету, — заявил каптенармус.
Карцев машинально опустил руку в карман, и тогда каптенармус, оживившись, сбросил с полки другие сапоги. Они были впору, и Карцев, поблагодарив, пошел к дверям. Каптенармус озадаченно посмотрел ему вслед и проворчал:
— Ну и фрукт. Погоди ты у меня! Научишься, как руку в карман совать… Задаром у нас не проживешь…
Первый день прошел без особых событий. Перед вечером пришел фельдфебель, зауряд-прапорщик Смирнов. Он осмотрел новобранцев, как осматривают поступивший товар, подергал за гимнастерки, потыкал пальцем в животы.
— Свеженькие! — выкрикивал он, глотая слова. — Рады, уж как рады мы вам!..
Полное лицо его казалось добродушным от плотной, седеющей бородки и от сощуренных глаз. На груди висел Георгиевский крест.
— Машков, — похрюкивая, продолжал он, закладывая пальцы обеих рук за пояс, — ты уж хорошо позаботься о молодых. Пригрей их, научи солдатскому обиходу. Они ведь серенькие, пушком еще покрыты…
— Слушаю, господин прапорщик, — отвечал Машков.
Звание зауряд-прапорщика Смирнов получил на японской войне, но он любил, когда его называли прапорщиком, и вся десятая рота отлично это знала. Он занимал среднее место между офицером и нижним чином, и тем ревнивее берег все то, что по крайней мере внешне приближало его к офицерам: офицерские погоны (но с желтой фельдфебельской нашивкой), офицерскую кокарду и пуговицы с накладными орлами.
— Так, так, — нараспев сказал Смирнов, — пришел к нам четырнадцатый годок. Просим, просим до нашего шалашу.
И покатился по коридору — маленький, круглый, — махая короткой рукой.
Вечером во дворе казармы Карцев встретил Орлинского и обрадованно пожал ему руку. Орлинский выглядел неуклюже в своей плохо пригнанной солдатской одежде, гимнастерка топорщилась, пояс спускался на живот.
— Милый друг, — улыбнулся Орлинский, — я рад, очень рад видеть вас. Вы такой здоровый и спокойный, что и я чувствую себя увереннее оттого, что вы здесь, со мной. Значит, не пропадем, правда?
— Зачем же пропадать? — Карцев дружески положил руку на плечо Орлинского. — Сперва всегда тяжело. Обживемся, и не плохо будет. Главное — не терять духа.
— Спасибо, — как всегда тихо, сказал Орлинский.
Беседуя, они шли по огромному, почти квадратному двору. Одноэтажные деревянные казармы замыкали его со всех сторон. В заднем, левом углу находились солдатская лавочка и библиотека. Там же помещалась музыкантская команда полка, и оттуда постоянно слышалось разрозненное гудение труб. Тромбон густо выводил веселый марш, флейта по-детски тоненько пела «Коль славен наш господь в Сионе», а баритон осторожно наигрывал трепака. Между лавочкой и казармой восьмой роты образовался уголок, вроде узенького коридора с навесом в глубине. Там часто собирались солдаты, устроив себе подобие клуба. До слуха Карцева доносились сдержанные голоса: кто-то с нерусским выговором произнес длинную фразу, ему ответил другой голос — низкий и возбужденный. Карцев шагнул под навес. Орлинский последовал за вновь обретенным другом, неловко подымая ноги в тяжелых сапогах (он до военной службы никогда не носил сапог).
Под навесом сидел на корчаге широкоплечий белобрысый солдат с печальными голубыми глазами, держа на коленях руки с туго сцепленными пальцами. Возле него стоял другой, с черными как уголь глазами, черными были и его волосы, усы и плохо выбритое лицо. Кадык, как сломанная кость, остро выпирал из-под кожи. Это был Гилель Черницкий — старый солдат десятой роты, с которым уже успел познакомиться Карцев. Черницкий говорил белобрысому:
— Еще раз повторяю, Мишканис: не следует торопиться, пропадешь ни за понюх табака.
Мишканис упрямо покачал головой:
— А мне все равно. Так скучаю, так скучаю, что больше невмоготу.
— Ну ладно, еще потолкуем, — сказал Черницкий, — а пока что идем в лавку.
Мишканис спокойно встал и пошел не к лавке, а в другую сторону.
Черницкий заговорил с Карцевым:
— Ну, как себя чувствуешь?
— Очень хорошо. Так понравилось, что думаю на три года здесь остаться, — ответил Карцев.
— Боевой парень! Нигде не пропадешь! — Черницкий хлопнул Карцева по спине.
И покосился на Орлинского:
— А вы, я вижу, тяжело разочарованы. Но знайте, что солнце и тут светит, и никто, даже сам господин фельдфебель, не в силах его потушить.
…Они вошли в лавку, полную махорочного дыма. Продавец — ефрейтор в смятой бескозырке — резал ситный широким, как топор, ножом, клал на стойку пачки махорки, взвешивал баранки, колбасу, ловко бросал медяки в ящик. Многие солдаты стояли, ничего не покупая. Три копейки на ситный, две на махорку имелись далеко не у всех. На подоконнике сидел солдат в собственном обмундировании, в хороших хромовых сапогах и ел колбасу с белым хлебом.
— Купцам везде сладко, — сказал Комаров, тот мелкого сложения солдат, что опрокинул койку Самохина. — Им даже на военной службе — жизнь, а мы и на воле дохнем.
Солдат доел колбасу, достал пачку папирос и закурил. Комаров подскочил к нему, угодливо хихикая, протянул руку к пачке, но тот, словно не замечая его, вышел из лавки.
Черницкий купил папирос, предложил Комарову закурить. Комаров быстро схватил папиросу, стукнул мундштуком о ноготь, чиркнул спичкой.
— Покорнейше благодарим, господин старослужащий! — ухарски выкрикнул он и подмигнул Карцеву. — Старослужащий — это тебе не серый, — важно объяснил он. — Для такого звания надо двое шаровар сносить да дерьма сто пудов вычистить, вот так-то…
И вдруг сразу как-то сник, мгновенно исчез. В лавку входил офицер — грузный, с черными рожками усов над красными, спелыми губами. Продавец оглушительно крикнул:
— Встать! Смирно!
И вытянулся за стойкой, опустив руки по швам. Головы солдат повернулись к вошедшему, как подсолнухи к солнцу.
— Вольно, — скомандовал офицер и, не повышая голоса, обратился к Орлинскому: — Как стоишь? Почему ноги расставил, когда командуют «смирно»?
Орлинский растерялся.
— Видите ли… — начал он.
Офицер грубо прервал:
— Дурак! Как обращаешься? В гости ко мне, что ли, пришел?
Черницкий с рукой у козырька шагнул вперед:
— Разрешите доложить, ваше благородие? Это новобранец. Два дня назад прибыл в роту.
— Так не выпускайте его из помещения, пока не научится обращаться к начальству.
Офицер прошел к шкафу, стоявшему в углу.
— Кто в библиотеку, подходи, — приказал он и опустился на стул.
Солдат-библиотекарь выдавал книги, записывая фамилии. Солдаты робко брали потрепанные томики и, повернувшись через левое плечо, выходили уставным шагом.
Карцев попросил что-нибудь из произведений Горького. Офицер быстро повернулся к нему:
— Что? Кого ты просишь?
— Горького, — повторил Карцев, — Максима Горького, ваше благородие.
— Мак-си-ма, — по складам повторил офицер. — Ты даже имя знаешь? Хм!.. А Белинского не желаешь? Или, может, Чернышевского?
Приподнявшись, он вылез из-за стойки и с удивлением рассматривал Карцева.
— Откуда ты взялся? Какой роты? Фамилия?.. Новобранец? Так, так… Вот что, голубчик… возьми-ка, почитай «Битву русских с кабардинцами». Это полезнее Горького. Ступай!
Карцева и Самохина обучал Филиппов — солдат, у которого через два месяца кончался срок службы. Филиппов был неспокоен (уж очень долго тянулись последние дни!), рассеянно занимался со своими учениками и подтягивался лишь при появлении начальства. Тогда он весь будто деревенел, грубо кричал, ругался, так как другого метода обучения не знал за все время своей солдатчины.
Ему дали третьего ученика — грузина Чухрукидзе, прибывшего в полк позже других. В косматой бараньего меха шапке, смуглый и горбоносый, он сидел у стены коридора на своем сундучке, похожий на дикую птицу, нечаянно залетевшую в чужие места. Утром его остригли, переодели. И теперь, сразу похудевший, с запавшими глазами, он стоял перед Филипповым, ничего не понимая из его объяснений. И Филиппов зверел, подносил кулак к лицу новобранца:
— Как же тебя, сволочь, не бить? Ну, повторяй за мной, дьявол, повторяй!
Чухрукидзе молчал.
Тогда Филиппов попросил разрешения взять на помощь другого грузина — Махарадзе, служившего почти два года.
— Ты что выдумываешь? — наскочил Смирнов на Филиппова. — Хочешь здесь грузинскую армию создать? Не знаешь разве, что русского солдата можно обучать только по-русски? Возьмешь два наряда не в очередь!
Филиппов не понимал, почему нельзя обучать Чухрукидзе по-грузински, но знал, что возражать зауряд-прапорщику нельзя. Он все же уговорил старого солдата Махарадзе подучить своего земляка, да так, чтобы никто об этом не пронюхал. И Махарадзе занимался с ним в сарайчике, за уборной, куда не заходила ни одна душа.
Карцеву военная наука давалась легко. Сильный и хорошо приспособленный к работе, привыкший на заводе к дисциплине, он быстро усваивал уроки Филиппова, купил книжку Березовского «Первый год обучения солдата» и знакомился по ней с главными положениями солдатской премудрости.
Самохину же приходилось труднее. Он плохо запоминал то, чему учил его Филиппов, выправка у него была плохая, да и весь он, хилый, неказистый, мучительно переносил солдатскую службу, всегда со страхом шел на занятия. К Филиппову он мало-помалу привыкал, но взводный унтер-офицер Машков возбуждал в нем ужас и смятение. Когда тот проходил с медным, злым лицом и смотрел на Самохина, бедный парень ничего не соображал, все путал. Офицеры вообще казались ему существами, в которых не было ничего человеческого. В его представлении они управляли той грозной и страшной машиной, что засосала и его, Самохина.
Однажды занятия проводил младший офицер роты подпоручик Руткевич — высокий, молодой, с едва пробивавшимся на верхней губе пушком; Самохин же видел только его офицерский мундир, пуговицы с накладными орлами и твердые блестящие погоны. Руткевич поздоровался с ним, а он молча шевельнул губами и, как рыба, вытащенная из воды, раскрыл рот.
— Почему не отвечаешь? — спросил Руткевич.
Самохин заплакал, судорожно всхлипывая.
— Отпусти его полегче, — сказал Руткевич Филиппову. — Дай привыкнуть.
Филиппов сочувственно посмотрел на Самохина, на его несчастное лицо, на согнутую фигуру.
— Чего ты плачешь? — спросил он. — Ведь я тебе плохого не делаю… Ну, ну, не распускай соплей…
Во время занятий ротный писарь ефрейтор Шпунт вызвал Карцева к ротному командиру.
И когда они отошли, спросил, не поворачивая головы:
— У тебя в сундучке нет ничего т а к о г о?
— Ничего… А что?
Перед ними неожиданно выросла фигура зауряд-прапорщика Смирнова.
— На носках, на носках, марш, марш! — скомандовал он.
В ротной канцелярии за столом, читая бумаги, сидел капитан Васильев — небольшого роста, худощавый.
— Молодой солдат Карцев явился по приказу вашего высокоблагородия! — вытянувшись и держа руку у козырька, четко произнес Карцев.
Васильев уставился на него синими спокойными глазами, потом встал, подошел к нему и, подкручивая свои соломенные усики, негромко сказал:
— Здравствуй.
Карцев выкрикнул ответное приветствие.
— Откуда? Чем занимался до службы?
Карцев ответил.
— Был под судом?
— Был. По делу о забастовке на заводе, ваше высокоблагородие.
Васильев шагнул к столу, вынул из конверта, носившего следы сургуча, бумагу, стал ее читать.
— Ты политически неблагонадежный?
— Не знаю… — Карцев почувствовал, как злой холодок подступает к сердцу. — Мне ничего об этом не известно.
— Помни: если хоть ниточку замечу, хоть волосочек, не пощажу. Прямо под суд!
Васильев заходил взад и вперед по комнате, крутя усики. Писарь Шпунт работал у стола с безучастным видом.
Карцев с удивлением отметил, что капитан волнуется.
— Прошу тебя, братец, не порть мне роту, — внушительно сказал Васильев, снова подойдя к Карцеву. — Я за тебя отвечаю, понял?
— Так точно, понял.
— Ты меня подведешь, а к чему тебе это? Веди себя честно, как и подобает русскому солдату.
Дверь скрипнула, и на пороге появился Смирнов.
— Егор Иванович, — обратился к нему Васильев, — распорядитесь, чтобы принесли его сундучок. Впрочем, пусть он сам принесет.
— Слушаю, господин капитан! Карцев, за мною, марш!
Через несколько минут сундучок новобранца был в канцелярии. Васильев посмотрел на аккуратно сложенные вещи, ни к чему не притронулся. А Смирнов, став на колени, начал шнырять руками в сундучке, вытащил тоненькую книжку, прочел заглавие.
— Похвально! — сказал он, передавая книгу Васильеву. — Учебник для рядового первого года службы. А больше, господин капитан, ничего такого нет…
Васильев улыбнулся:
— Ну, вот и прекрасно.
И написал на обложке учебника:
«Разрешаю. Командир 10-й роты кап. Васильев».
— Только не держи у себя книг без моей подписи, — предупредил он.
— Слушаю, ваше высокоблагородие!
С полковых работ вернулся второй взвод. Солдаты весело вбегали в казарму, стучали сапогами, перекликались с товарищами. В сенях им оставили два ведра с супом и кашей. Взводный, старший унтер-офицер Колесников, первый налил себе густого супа, положил самой жирной каши, затем взяли себе отделенные командиры, а уже после этого ведра понесли в коридор и поставили там на длинный стол, за которым обычно солдаты пили чай и чистили винтовки. Голодные люди, не разливая суп в баки, хватали его прямо из ведра ложками и вычерпали все до дна. Принесли заваренный кипяток в огромном медном чайнике. Те, у кого не было сахара, пили чай с черным, посоленным хлебом.
Керосиновые лампы, подвешенные к потолку, лили желтый скупой свет. Солдаты сидели за столами, расхаживали маленькими группами, разговаривали. Это был лучший час, когда все трудности дня оставались позади и можно было отдохнуть, заняться своими делами. В это время писались солдатские письма, осторожные и сдержанные, так как было известно, что конверты вскрываются. Самое заветное и нужное старались переслать с оказией, с верным человеком.
Кобылкин, получивший от взводного наряд, чистил винтовку. За высокий рост и худобу его прозвали в роте «цаплей». Уперев винтовку прикладом в пол, он водил шомполом с намотанной на конце промасленной тряпочкой. Костистое лицо Кобылкина было печально. Его мучило письмо, полученное из дому: жена писала, что всю собранную рожь взял лавочник за старый долг, и спрашивала, нельзя ли продать тулуп, иначе она не обернется.
Шомпол со свистом и шипением входил в канал ствола, вытесняя грязные, пенистые пузырьки масла, а Кобылкин видел перед собою свою избу, низенькую жену Симу и ситцевую занавеску, отделявшую угол, за которым он спал с Симой и ребенком. Домой Кобылкина не тянуло, но и тут было плохо. А какому солдату хорошо? Наверно, у каждого своя боль, свое несчастье… И Кобылкин длинно и тяжело вздохнул, поднял винтовку, заглянул прищуренным глазом в дуло — блестят ли как положено винтовые нарезы канала?
Открылась дверь, ведущая в квартиру Смирнова, и вышел он сам — в войлочных туфлях и старой шинели, служившей ему халатом. Двигался зауряд-прапорщик медленно, локтями подтягивал сползающие штаны. Осмотрел винтовку Кобылкина, вслух прочитал ее номер, год выпуска.
— Еще на японской была, — задумчиво произнес он и пошел дальше. Толстый, кругловатый, Смирнов напоминал крестовика, осматривающего свою паутину: крепка ли она, не прорвалась ли где-нибудь хитрая петля? За ним настороженно наблюдали солдаты. Он хорошо это видел. У него верный, волчий нюх, и, потолкавшись по казарме, Смирнов вернулся к себе. Все мирно и спокойно, но какая всему этому спокойствию цена?
В казарме рассказывали о том, как били зауряд-прапорщика. «Учили» его за страшную, изводящую солдат нудность, за то, что он и ночью не оставлял их в покое, выходил в шинели, накинутой на белье, — тесемки кальсон волочились за ним, — засматривал в лица солдат, проверял, правильно ли сложены вещи, уличал заснувшего дневального и говорил:
— Возьми, сукин сын, три наряда.
Его накрыли в одну из таких ночей и, укутав одеялами, мяли, били, тискали, и все это — молча, без единого звука. Он не кричал, зная, что убить его не рискнут, и только поджимал голову к груди. Его покатили по коридору до дверей квартиры и, ударив напоследок, втолкнули туда. Он не жаловался, никому не рассказал, что с ним случилось. Только запомнил ефрейтора со странной фамилией — Защима, дежурившего в ту ночь. Защима не выходил у него из дисциплинарных взысканий, получал самые тяжелые назначения, и в конце концов Смирнов сумел допечь его.
…Взводный Машков поднялся со своей койки и скомандовал становиться на песни. В роте знали, что он остается на сверхсрочную службу и скоро поступит в школу подпрапорщиков. Машков прекрасно усвоил железное правило начальства: ни на одну минуту не оставлять солдата праздным, дабы ему не лезли в голову «вольные» мысли. Песни — другое дело, — верные, хорошо подобранные, они настраивают солдата на боевой лад, придают бодрость, а если и позволяют грустить, то тихо, мечтательно, безвредно для начальства.
Солдаты построились кру?гом. Машков стал в центре, расправил плечи, сложил руки на груди.
— Руки на грудь! Слева направо качаться! — покрикивал он. — Раз-два! Раз-два!.. Запевай «Кари глазки»!
Расставив для равновесия ноги, скрестив на груди руки, все ритмично раскачивались, точно убаюкивали себя. Солдат с тонкой шеей откашлялся и начал чисто и мягко, задушевным тенором:
Остальные дружно подхватили:
Многие забывались в песне. Обмякали лица, туманились глаза, затихала на время солдатская тоска, на душе делалось легче. Песни следовали одна за другой и закончились разудалой «Взвейтесь, соколы, орлами». На дворе горнист заиграл вечернюю зорю. Дежурный, придерживая у пояса штык, пробежал по казарме, торопил:
— Становись на поверку!
Солдаты, подтягивая пояса, выстроились во всю длину коридора. Взводные и отделенные стали перед вздвоенной шеренгой. Началась перекличка. Голос откликавшегося выскакивал, точно клавиша на рояле, когда ее ударяют. Но одна клавиша промолчала: не отозвался Мишканис…
— Если сегодня не явится, доложить ротному командиру, — проворчал Смирнов.
Но Мишканис не явился и на следующий день. Его сначала считали в самовольной отлучке, а потом приказом по полку объявили находящимся в бегах.
Поезд подошел к низкому деревянному вокзалу. Петров вышел на платформу, опустил сундучок и взглянул на своего спутника. Сергеев, длинный, узкий, с продолговатым белым лицом, стоял на площадке вагона и брезгливо водил глазами по сторонам.
— Идемте! — предложил Петров. — Чего ждете?
— Носильщик! — сердито позвал Сергеев, запахнул ловко сшитую, с перехватом в талии шинель, натянул коричневые лайковые перчатки и медленно сошел на платформу.
На площади Сергеев, обутый в шевровые сапоги, тщательно обходил лужи.
— Боже мой, какая кругом мерзость! — говорил он при виде убогих домишек. — Не понимаю, как мог я согласиться поехать в этакую дыру!
Носильщик нес кожаный чемодан. Подъехал извозчик. Петров поставил свой сундучок под ноги, чемодан Сергеева извозчик взял на козлы. Проваливаясь в ухабах, пролетка двинулась в город. Сергеев гордо выпрямился. На его шинели были синие твердые погоны с номером полка и шнурками вольноопределяющегося. Новенькая кокарда блестела на фуражке.
— Совсем не видно порядочных людей на улицах, — брюзжал Сергеев, — одни чуйки и зипуны… — И вдруг, толкнув Петрова, показал глазами на тротуар. Там, подобрав юбку и приоткрывая стройные ноги, шла девушка в шляпке и черной кофточке, отороченной мехом.
— Навозну кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно, — с довольным видом продекламировал Сергеев.
Но тут произошел неожиданный случай. Из-за угла вышел офицер — толстоногий, с курчавыми, как у барашка, светлыми волосами, выбивавшимися из-под фуражки. Он важно ступал, помахивая короткой рукой, как под музыку марша. Увидев медленно проезжающую пролетку с вольноопределяющимися, офицер остановился и, заметив, что один из них не поднес руку к козырьку, крикнул остреньким фальцетом:
— Ну, ну! А честь кто будет отдавать?
Извозчик, желая оградить своих пассажиров от неприятности и на этом, быть может, подработать, взмахнул кнутом.
— Стой, стой, кому говорят!
Пролетка остановилась. Офицер сделал Сергееву приглашающий жест:
— Пожалуй-ка, дорогой, ко мне.
Сергеев, хмурясь и пожимая плечами, слез на мостовую.
— Почему чести не отдаешь?
— Прошу прощения… Я только что еду на военную службу… еще не знаком с правилами…
— Руки, руки как держишь? — завопил офицер так, что прохожие начали останавливаться. — Зачем руками разговариваешь? Я тебя проучу! Узнаешь у меня!..
И, вынув записную книжку, занес в нее фамилию Сергеева.
— Под юнкера играет, — издевательски добавил он, взглядом с головы до ног измеряя Сергеева. — Мы тебе спесь подрежем, юнкер-пункер!
Он победоносно проследовал дальше. Сергеев, зеленый от унижения и злости, забрался в пролетку.
— Не обращайте внимания на всякую дрянь, — посоветовал Петров.
Но Сергеев с ужасом думал, что все это позорное происшествие видели посторонние, может быть даже и та девушка, что прошла по тротуару.
— Возмутительное хамство! — негодовал он. — Нет, я этого так не оставлю!
Они прибыли в канцелярию полка, и тут их с изысканной вежливостью принял полковой адъютант, штабс-капитан Денисов — щеголеватый офицер с напомаженными волосами. Он предложил им сесть, обращался на «вы» и спросил Сергеева, которому явно отдавал предпочтение перед плохо одетым Петровым, откуда он и кто его родители. Сергеев, расцветая, сообщил о служебном положении своего отца, видного московского инженера. Затем, краснея и запинаясь, рассказал о встрече с офицером.
Денисов улыбнулся.
— Толстенький, белокурый? — переспросил он. — Знаю, знаю, поручик Жогин. Любит ловить солдат. Можете не беспокоиться, все устрою.
И, сразу став официальным, заявил, что назначает прибывших в десятую роту.
— Нельзя ли… на частной квартире? — спросил Сергеев.
— Устроим, — пообещал Денисов.
В десятой роте их встретил дежурный и, покосившись на изящный чемодан Сергеева, вызвал Смирнова.
— В прекрасную роту попали, господа вольноопределяющиеся, — сказал Смирнов, сладко жмуря глаза. — Прошу, прошу в нашу тесную семью.
Когда же Сергеев заявил о своем желании жить на частной квартире, зауряд-прапорщик одобрительно кивнул головой:
— Будет, все будет. Денька три поживете в казарме — и все сделаем. Я упрошу ротного командира.
Солдаты несколько настороженно осматривали вольноопределяющихся: обычно это были барчуки, будущие офицеры. И Петрову в первые дни было не по себе. Вскоре его вызвали в канцелярию, к Васильеву.
— Здравствуйте, вольноопределяющийся, — приветливо встретил Петрова капитан. — Прибыли на службу к нам?
— Да, ваше высокоблагородие, — ответил Петров, опасаясь, что его руки или ноги вдруг сделают запрещенное военным уставом движение.
— Ну что же: надеюсь, вам будет у нас хорошо. Служите, служите.
— Я с удовольствием! — подхватил с готовностью Петров и осекся: «Можно ли говорить офицеру «с удовольствием»?» Но Васильев был спокоен, и Петров продолжал: — Хочу заниматься, если разрешите. У меня склонность… к математике.
— Превосходная наука. Точная. Не буду препятствовать. Занимайтесь, пожалуйста.
«Почему я сболтнул о математике? — думал Петров, уходя. — У меня никогда не было к ней склонности. Ну, все равно. Надо скорее привыкать здесь. Во всяком случае, тут будет не хуже, чем в семинарии. А солдаты — народ простецкий, хороший…»
Он легко, без всяких усилий над собой вошел в казарменную жизнь. Обмундирование носил казенное, неперешитое, курил махорку, питался из общего котла и ел так же, как и все солдаты: черпал из миски, в которую совали ложки пять-шесть человек.
А Васильев подумал, что Петров гораздо приятнее Сергеева, который показался ему прожженным хлыщом.
Утро было дождливое, холодное. Тучи низко двигались над городом. Галки стаями опускались на двор казармы.
— Хорошие птицы к нам не залетают, — жаловался Самохин, уныло пожимаясь. — Голубь вот — птица радостная, легкая. А галки — они только скуку нагоняют.
Молодым солдатам выдали оружие. Чухрукидзе, оживившись, рассматривал винтовку, ощупывая острие штыка, прицеливался. Но веселье его скоро прошло. Упражнения с винтовкой никак не давались ему. Правда, помогал Карцев, учил показом, и каким-то инстинктом тот понимал его. Они крепко сдружились. Чухрукидзе сильно похудел, осунулся. Бритая голова казалась совсем маленькой, широкий мысок носа резко выделялся. Ночью Карцев не раз слышал, как Чухрукидзе стонал, всхлипывал и что-то говорил на родном языке.
Ученья с солдатами десятой роты проводил штабс-капитан Бредов — лобастый, лет тридцати человек, с неспокойными движениями и недоверчивым взглядом. Несколько лет он готовился в академию генерального штаба. В прошлом году держал экзамен и провалился. Был убежден, что к нему, захудалому армейскому офицеру, придирались профессора, и одно время даже хотел бросить занятия, потом подумал, что академия, пожалуй, единственный путь выбраться из болота провинциальной армейской жизни, не дававшей ему никаких перспектив, и решил не отступать.
Бредов обходил группы солдат, обучающихся ружейным приемам, рассеянно делал замечания и с тревогой думал, что в час дня ему предстоит беседа с командиром полка: допустит ли тот его к новым испытаниям при академии? Это последняя попытка: если провалится, надо уходить в отставку; у жены в Варшаве влиятельные родственники, можно будет там устроиться.
Его поразили нелепые движения Чухрукидзе. Он подошел к нему.
— Возьми к ноге! — приказал Бредов.
Чухрукидзе отупело смотрел на него.
— Одурел, что ли? Как твоя фамилия?
Тот молчал.
— Как фамилия? — раздраженно повторил Бредов.
— Разрешите доложить, ваше благородие? — выступил вперед Филиппов. — Молодой солдат Чухрукидзе по-русски не понимает.
— Как же ты его обучаешь?
— С показу, ваше благородие.
— Угу… Любопытно! Стоп, стоп! Да ведь я его видел, — вспомнил Бредов. — Он еще в бурке был, орлом выглядел. Что же с ним стало?
Ему ясно представилось смуглое молодое лицо, смелые, яркие глаза, свободная осанка горца.
— У нас же есть его земляки, — с участием проговорил Бредов. — Пускай обучают его, он их поймет.
— Не разрешено, ваше благородие, — понизив голос, ответил Филиппов. — Обучать разрешено только по-русски. Я уже просил. Нельзя.
Секунду Бредов и Филиппов молча смотрели друг другу в глаза. Потом штабс-капитан отошел, продолжая с возрастающим беспокойством думать об одном: что скажет ему полковник Максимов? И прозевал приход Васильева. Машков скомандовал «смирно», когда уже капитан был среди солдат. Морщась от чувства неловкости, Бредов повторил команду, подошел с рапортом. Васильев будто и не заметил упущения, пожал ему руку и протяжно поздоровался с ротой:
— Здравствуйте, ребята!
Он был в прекрасном настроении. Недавно произведенный в капитаны, Васильев чувствовал себя полным хозяином отдельной боевой единицы. Бредов сумрачно смотрел на него. Он любил капитана, ценил его военные знания, горько сожалея, что ему самому не скоро еще дадут роту и очередное звание. Размышлял, как трудно служить без связей даже талантливому и энергичному офицеру. Кто использует его любовь к военному делу, его боевой опыт? Нет, только академия может его спасти!
Он с трудом дождался конца утренних занятий. Беглым шагом несся по грязным, немощеным улицам и, задыхаясь от волнения и быстрой ходьбы, поднялся в штаб полка. Денисов, вместе с которым он окончил Московское юнкерское училище, протянул ему белую, холодную руку. Здороваясь, Бредов спросил прерывающимся голосом:
— Ну, что, примет меня командир полка?
— Полковник здесь, сейчас доложу, — сдержанно сказал Денисов.
Нервно оправляя портупею, Бредов вошел в кабинет командира полка. Максимов пригласил сесть. Это был крупный брюнет в золотых очках, с легкой сединой, толстым лицом и массивной, красной шеей. Наклонив голову, он слушал Бредова, морщил лоб, курил. И когда тот замолчал, он крепкими пальцами притиснул окурок папиросы к пепельнице, потрогал выбритый подбородок, сказал негромко и густо:
— Я бы все-таки воздержался от новой попытки, капитан Бредов… Воздержался бы, ей-богу!
Он отвел взгляд от растерянных глаз Бредова и мягко закончил:
— Я, конечно, не приказываю, не предписываю… просто советую, как старший товарищ. Шансов, знаете ли, маловато. Один раз вам уже не удалось, к чему опять рисковать?
«Прячется, — тоскливо подумал Бредов, — что-то ему известно, и не говорит. Неужели все пропало? Нет, я так не могу, не могу!»
Он не выдержал и заговорил, сам не узнавая своего голоса — ломкого, повизгивающего:
— Господин полковник, осмелюсь доложить. Для меня это вопрос жизни и смерти… Я потратил на подготовку к испытаниям в академии несколько лет, и неужели все бросить? Как это можно?..
Максимов нетерпеливо задвигался в кресле, сердито засопел. Он не мог ответить Бредову, почему именно нельзя допустить штабс-капитана к новым испытаниям, и раздражался, что тот ставит его, командира полка, в неловкое положение, не желает принять недомолвок, высказанных в виде дружеского совета.
Он тяжело поднялся — вскочил и Бредов — и грубо сказал:
— Кончим, штабс-капитан! Не могу разрешить вам новых испытаний при академии, если вы так ставите вопрос. А засим — до свиданья!
Бредов вышел. Комок подступил у него к горлу. Денисова в канцелярии не было. Он разыскал его в маленькой комнате, где помещалась секретная часть, плотно закрыл за собой двери.
— Слушай, Денисов: мы ведь с тобой однокашники! Скажи, умоляю тебя, скажи, почему мне не разрешают экзаменоваться в академию?
Денисов покосился на дверь.
— Уверяю тебя: ничего не знаю.
Бредов схватил его за руки…
— Андрей Иванович! — воскликнул он в отчаянии, весь дрожа и все крепче и крепче стискивая руки Денисова. — Помоги мне, ради бога! Клянусь, что никто не узнает!.. Но я это не могу так оставить. По лицу Максимова я заметил, да и по твоему вижу, что здесь есть какая-то причина. Мне надо знать, в чем дело, или я погибну!
Бредов так решительно это сказал, что Денисов испугался.
— Так слушай, — прошептал он, — даешь честное слово офицера, что никогда никому не расскажешь?
— Да, да. Клянусь!
— Помни: я очень рискую — выдаю служебную тайну.
— Денисов, я клялся!
— Дело в том, что Зоя Генриховна — полька. Ну, одним словом, получен секретный приказ, чтобы офицеров римско-католического вероисповедания или женатых на католичках не принимать, по возможности, в академию. Ясно? И помни свою клятву.
Бредов пошатнулся, рассеянно провел рукой по лбу и выскочил из комнаты, не слыша, что вслед ему говорил Денисов. По улице он шел широким, размашистым шагом, словно убегал от чего-то, миновал Воскресенскую улицу и выбрался на окраину города. Потянулись военные склады — низкие, длинные здания с зелеными, недавно покрашенными крышами. Часовой, стоявший у будки, сделал винтовкой «на караул», и Бредов отметил про себя, что солдат плохо выполнил прием. Разводящий вел смену и оглушительно крикнул:
— Смирно, равнение направо!
Кончились склады, вдали шумел лес, золотые и красные осенние листья, кружась, неслись по воздуху и мягко ложились на землю. Бредов остановился.
— В сущности, ничего не произошло, — громко сказал он, снимая фуражку. И вдруг неистово закричал, топая ногами: — Молчи, дурак, суслик! Не унижайся хоть наедине с самим собою!
«Нет, нет… — думал он. — Меня никто не оскорбил. Это все из-за нее… Я тут ни при чем. Я — русский офицер, участник японской войны, получил за храбрость Владимира с мечами… Зоя — полька! Господи, как глупо, как страшно! Кто придумал такое?»
Ему стало холодно. Ворона,-каркая, села на ветку в нескольких шагах от него и хитро смотрела черным глазом. Он надел фуражку, запахнул шинель и, согнувшись, побрел в город.
Ефрейтор Защима был пьян.
— Зембриовский, иди ко мне, — позвал он.
Наступил вечер, отошла поверка, солдаты готовились ложиться. Молодой солдат Зембриовский остановился перед Защимой, вытянув по швам руки.
— Здравствуй, Зембриовский, — икая, сказал Защима.
— Здравия желаю, пан ефрейтор!
— Не пан!.. Паны у вас в Польше, а я господин… Повтори!
Зембриовский повторил.
— Так… А скажи, кем я тебе прихожусь, полячок?
— Господин ефрейтор Степан Федорович Защима, командир второго отделения, третьего взвода десятой роты Моршанского полка.
— Так, полячок, а самого главного не сказал. Кто я тебе? Не знаешь? У, болван! Ближайший…
— Ближайший, непосредственный начальник, — с трудом выговаривая слова, ответил Зембриовский, не спуская с Защимы испуганных глаз.
Защима покачнулся, поискал руками опору и опустился на койку.
— Ближайший, непосредственный, — пробормотал он, — терзаю я тебя, Зембриовский, притесняю? Конечно, притесняю. Нельзя у нас не притеснять. Все начальники такие… Вот меня фельдфебель тоже и в хвост, и в гриву… Начальник, ничего не поделаешь.
Он повернулся на бок. К нему подошел дежурный по роте:
— Защима, пойдешь завтра старшим к мишеням на стрельбище.
— Иди ты, — сонно промямлил Защима, — не моя очередь.
— Фельдфебель назначил.
Он положил листок на койку, Защима, ругаясь, взял листок.
— «Карцев, Комаров, Рогожин, Кобылкин…» — прочел он — Быть вам к подъему готовыми, а то смотрите… И-эх…
Он повернулся так, что чуть не развалилась койка, и захрапел.
Еще затемно дежурный разбудил солдат, назначенных к мишеням. Карцев, быстро одевшись, вышел во двор, закурил папиросу, задумался. Темные тучи, гонимые ветром, медленно плыли на север. Они были тяжелые, словно каменные. Верхние края их клонились вперед. Казалось, вся земля перемещается вместе с ними. Звезды испуганно вспыхивали в черных провалах неба и исчезали, будто давили их обвалы туч. Грустные мысли одолели Карцева. Он вернулся в казарму. Терпкий, густой воздух ударил ему в нос. Защима, расставив ноги, застегивал пояс. Рогожин, остролицый, с розовыми пятнами на щеках, торопливо обувался, разглаживая на ноге почерневшую портянку.
Оделись, вышли, строем двинулись к полковой канцелярии. Там уже собрались все назначенные к мишеням солдаты. Командовал подпрапорщик из восьмой роты. Отряд направился через город. Вдоль улиц тянулись глухие заборы, опутанные колючей проволокой. Шагавший возле Карцева рослый солдат с худощавым лицом и широким лбом внимательно посмотрел на него серыми спокойными глазами и дружелюбно улыбнулся. Дорога была плохая, сапоги вязли в грязи. За крепко слаженным забором басовито лаял пес, лязгал цепью, видимо, в бешенстве куда-то рвался.
— Вот живут, — ухмыльнулся Рогожин, — запираются на сто замков, страшенных собак держат. Страшно, выходит, братцы, богатым быть, а?
— Мирное житие, — негромко отозвался рослый солдат, по фамилии Мазурин, как узнал Карцев.
— Места знакомые, — продолжал Рогожин, — плотничали мы тут однова с отцом. Вон купца Грязнова дом! — Он показал на низкое здание. — Склады как сундуки: двери кованым железом обиты, окна в решетках. А собак сырым мясом кормит, чтоб злее были, честное слово!
Город кончался. Рассветало, можно было различить окрестности. Скоро вошли в лес. Опавшие с сосен иглы мягко ложились под ногами. За деревьями показалась широкая поляна стрельбища. В конце ее были блиндажи, над которыми ставились мишени. Туда пришла команда показчиков. Из деревянной сторожки доставали щиты всех видов, укрепляли их на земляных насыпях. Из лесу перекатами доносились песни. Роты выходили на поляну, занимали назначенные места. Между деревьями блестели офицерские погоны. Командир третьего батальона подал команду. Звонко сыграл горнист боевую тревогу. Подпрапорщик из восьмой роты прыгнул в блиндаж.
— Лезь скорее в укрытия! — приказал он, но солдаты и без него торопливо прятались.
Карцев сидел в блиндаже рядом с Рогожиным. Над ними ясно виднелись установленные в длинный ряд мишени. Опять резко и тревожно заиграл горнист, и сейчас же первые выстрелы хлестнули осенний воздух. Слышался протяжный свист пуль, шелест сыпавшейся земли. Черные дырочки от пуль появлялись на щитах.
— Мажут, мажут, — сердито говорил подпрапорщик, следя за мишенями.
Горнист заиграл отбой. Выстрелы затихли. Солдаты вылезли из блиндажей, длинными указками обводили попадания, мелом накрест отмечали дырочки.
— Каждая дырка — гадючья смерть, — бормотал Защима, уже неведомо как успевший выпить. — Я такие дырки кое-кому в головах провертел бы…
Рогожин что-то тихо ему шепнул, тревожно поглядев на подпрапорщика.
— Не принимает натура, — горько ответил Защима. — Бунта мне хочется! Другой жизни!
И, увидев подходящего к ним подпрапорщика, грубо толкнул Комарова:
— Ну, не ленись. Знай показывай.
Опять полезли в прикрытие. С линии донеслись выстрелы. И вдруг одна мишень под ударами пуль накренилась, и видно было, что она сейчас упадет. Ставивший ее солдат с растерянным лицом полез вверх по земляным ступеням, чтобы поправить щит. Снизу виднелись сбитые каблуки его сапог. Отбоя не было, стрельба продолжалась.
— Куда, дурень? — закричал снизу сердитый голос. — Убьют…
— Да ведь моя мишень, — сказал солдат, — я же в ответе. Вздуют.
Он ухватился за низ мишени и проворно отдернул руку. Пуля ударила в щит возле самой руки, и когда солдат хотел повторить свою попытку, Мазурин схватил его за ноги, стащил вниз, а сам взял указку, подцепил мишень, поставил ее на место и засмеялся, показывая конец указки, пробитый пулей.
— Ты что прыгаешь, черт тебя возьми! — выругался подпрапорщик. — Марш вниз!
Мазурин легко соскочил в блиндаж. Карцеву понравилась сообразительность Мазурина и та уверенность и спокойствие, которые были видны во всем, что делал этот человек.
Показчики стреляли в последнюю очередь. Мазурин и Карцев оказались рядом. Карцев видел, как ловко лег Мазурин на левый бок, одним движением открыл затвор, вставил обойму и толстым пальцем вдавил патроны в магазинную коробку. Приклад прочно вошел в выемку плеча, и Мазурин хладнокровно выпустил свои пять пуль. И когда белая указка пять раз отметила попадания, он радостно усмехнулся.
— Хорошо стреляешь, — с уважением сказал Карцев.
— Пригодится… — Мазурин заботливо собрал отстрелянные гильзы. — Не знаешь, где свое найдешь. — Достав масленку, налил немного масла в канал ствола. — Потом легче счищать нагар, — пояснил он. — Раз протер — и готово!.. Карцев, а ты заходи к нам, в восьмую роту, у нас весело.
— Спасибо, непременно приду.
Мазурин дружески кивнул и побежал в свою роту.
На обратном пути проходили мимо фабрики купца Бардыгина. Несколько городовых в черных шинелях, с толстыми красными шнурами, тянувшимися от шеи к револьверной кобуре, выводили из чугунных ворот арестованных. Парень в русском картузике шел первым. За ним, прихрамывая, плелся небольшого роста пожилой рабочий. Третьей была женщина лет тридцати пяти, в коричневом платке, круглолицая, со свежим кровоподтеком на правой щеке. Она ступала свободно, с поднятой головой. Городовые остановились, пропуская солдат. Тем временем вокруг арестованных выросла толпа. Работница в телогрейке всплеснула руками:
— Царица небесная! Да ведь это ж Манюшку взяли из нашего цеху!.. Мужики, что же вы смотрите? Не давайте ее!
Толпа надвинулась теснее, и городовые вынули револьверы. Подпоручик Руткевич, проходивший мимо ворот со своей ротой, бросился к рабочим.
— Марш отсюда, хамье! — крикнул он и ножнами шашки толкнул одного фабричного. — Стрелять прикажу!
Люди неохотно отступили. Городовые быстро уводили арестованных. Солдаты, опустив глаза, проходили с мрачными лицами. Разговоры в их рядах затихли. День был пасмурный. Стал накрапывать скучный, осенний дождь.
Казармы помещались на краю города и выходили на большой пустырь, где часто проводились военные занятия. Дальше тянулись холмистые поля, вдали темнел лес. Случалось, что солдаты забирались далеко — к лесным полянкам, таким диким и нетронутым, что не хотелось даже думать, что в трех-четырех верстах отсюда лежит грязный, запущенный город с немощеными улицами, без водопровода, с лучшим зданием — тюрьмой.
Карцев сделался хорошим солдатом. Он метко стрелял, научился работать на брусьях и турнике, усвоил правила строя. Поглядывая на его складную, крепкую фигуру, Васильев говорил зауряд-прапорщику Смирнову:
— Как жаль, Егор Иванович, что Карцев политически неблагонадежный. Какой бы из него толковый унтер-офицер вышел!
Но вряд ли хотелось Карцеву стать унтер-офицером. Ему было тринадцать лет, когда в Одессе разыгрались события тысяча девятьсот пятого года. Митя бегал вместе с товарищами в порт смотреть на грозные орудия «Потемкина» и даже пытался пробраться на славный броненосец, видел тело убитого матроса Вакулинчука, лежавшее на набережной в открытой палатке, с зажженными у головы свечами, читал надпись, что Вакулинчук убит за то, что не хотел есть борщ с червями. Затем ходил на Бугаевку и Нежинскую улицу, где два дома носили следы снарядов, выпущенных революционным броненосцем. Как-то Мите все-таки удалось вместе с рыбаками пробраться к борту «Потемкина», и он с восторгом глядел на дула двенадцатидюймовых орудий. Плакал от злости и обиды, когда броненосец ушел из Одессы, не перебив городовых и околоточных. А Митя и боялся и ненавидел их. Тогда же у ребят появилась игра, изображавшая, как «Потемкин» разрушает снарядами полицейские участки и оттуда, словно черные тараканы, расползаются в страхе полицейские. Игру придумал Митя и был самым заядлым ее участником. Но он не только играл «в революцию», а с большим гневом в сердце помогал рабочим строить на улицах баррикады, таскал туда в карманах коробки с револьверными патронами. Когда однажды к их квартиранту пришли с обыском, тот успел передать мальчику револьвер и пачку листовок. Митя хорошо знал, что, если все это у него найдут, беда будет. И, не решаясь на глазах городовых выйти из дому, сидел, затаившись, в кухне, пока длился обыск. Квартиранта увели, но к утру отпустили, и Митя, гордый от счастья, вернул ему боевое оружие. Вскоре Митя поступил на завод, участвовал в демонстрациях, подпольных собраниях, забастовках…
Друживший с Карцевым солдат Самохин был полной ему противоположностью. Царь для него как икона: он не смел размышлять, плох иль хорош царь, а просто принимал его как нечто незыблемое и священное. Шел Самохин по жизни узенькой тропинкой, не думая, что могут быть иные, лучшие пути, безропотно переносил солдатские невзгоды и только старался как можно реже попадаться на глаза начальству. Его то и дело пинали, бивал его под злую руку и взводный, а он, моргая, тянулся и не возмущался, считал все это обычным явлением. И когда Карцев ругал его за такую собачью покорность, он только тяжело вздыхал.
Ходили на занятия и новые вольноопределяющиеся — Петров и Сергеев. Офицеры говорили с ними на «вы», дежурить на кухню их не посылали. Петров по-прежнему жил в казарме и с каждым днем все больше и больше сближался с солдатами, а Сергеев носил гимнастерку из японского хаки, роскошные сапоги, жил на вольной квартире, с нижними чинами разговаривал высокомерно, и солдаты не любили его, считали чужаком. Юла Комаров попытался было подмазаться к Сергееву, предложил ему чистить сапоги, следить за его винтовкой. Филиппов, узнав об этом, рассердился.
— Шпана! — с презрением сказал он. — В денщики ладишься?
— А ты не лезь, — озлился Комаров. — Он не такой, как мы. Он барин. Почему не услужить? Он заплатит.
— Да ты любому готов зад лизать! За сколько подрядился, июда? Говори!
Комаров обиженно промолчал. Почему придирается к нему Филиппов? Солдаты бывают разные. Вот Павлов, например, из их роты: получает пятнадцать рублей в месяц из дому и, кроме того, посылки; куда ему деньги девать? Взводный здоровается с ним за руку, по воскресеньям они вместе выпивают, всякая ему поблажка от начальства. А вот его, Комарова, суют во все дырки, помыкают им как хотят, потому что у него, кроме казенного полтинника, нет ни копейки. А с деньгами, известно, везде хорошо, даже на царской службе. Сколько раз он видел, как Павлов жрал сало, копченую колбасу и хоть бы кого-нибудь угостил!.. Нет, разные бывают солдаты. Нельзя их всех мерять одним аршином!
Он побежал в первый взвод к Черницкому раздобыть курева. Закурил, пошел по казарме. Все чем-то заняты. Одни чинят одежду, другие играют в шашки, третьи строчат письма домой. Только ему, Комарову, некому писать. Он — бобыль. Земли у него нет, нет и дома. Был пастухом, батрачил, служил половым в рязанском трактире. Там хозяин смертным боем избил его за разбитый графин с водкой, вытолкнул с крыльца, сломал ребро. Он пять дней шел в Москву, не мог там устроиться и два месяца прожил на Хитровке. Что и говорить: не везло в жизни! И солдатчина ничего не изменила. Никто его тут не уважает, отделенный, как бы шутя, дает ему затрещины. А попробуй обидеться на начальство!.. Да, собачья жизнь… Он с завистью смотрит на Загибина — сытого, хорошо одетого в собственную одежду и сапоги, белолицего солдата с низкими «николаевскими» височками. Загибин — солидный человек, бывший лакей из «Метрополя», знаменитого московского ресторана. Он запросто заходит к Смирнову, ухаживает за его дочкой Сонечкой. Смирнов благосклонно относится к Загибину, знает, что у того есть деньги, дорогие вещи. Вот они какие дела…
В воскресенье многих солдат отпускали в город. Отправились погулять и Карцев с Черницким. Вид у них был опрятный, хотя и не щеголеватый: казенная, хорошо заправленная одежда, кургузые бескозырки. Прошлись по широкой Московской улице — главной в городе, на ней магазины с зеркальными окнами, несколько каменных домов. Завернули на Соборную площадь. Перед собором торчал городовой, похожий на Тараса Бульбу, с длинными усами. Только что закончилась служба, и на соборную паперть начали выползать купцы, чиновники, расфуфыренные дамочки; выходил из церкви, крестясь, и мелкий люд, убаюканный молитвенными песнопениями. Нищие протягивали руки, просили подаяние. Им бросали копейки. Появился поручик Жогин — «самоварчик», как его прозвали в полку за округлую фигуру на коротких ножках. Солдаты, да и все в городе знали, что он ищет в купеческих домах богатую невесту и поэтому каждое воскресенье непременно шествует в собор, надев парадный мундир с орденом Станислава в петлице. Карцев и Черницкий козырнули Жогину. Тот, не ответив на приветствие, прошел мимо. Черницкий усмехнулся, вздохнул:
— О-хо-хо!.. Как трудно иногда человеку быть человеком!
Они вышли к речке Гуслянке. На поляне шла торговля, завывала шарманка, толпились люди. Навстречу попалась девушка с тяжелой корзинкой.
— Тоня, здравствуй! — весело поздоровался Черницкий и протянул руку.
Девушка улыбнулась, поставила корзинку на землю. Прядь светлых, вьющихся волос упала на лоб.
— Познакомься: это Карцев, мой товарищ, хороший парень. Люби его, как меня.
— Мало ему тогда достанется, — засмеялась Тоня. — Ну, прощайте, некогда мне.
Черницкий поднял ее корзинку.
— Мы проводим тебя, — сказал он.
Они шли рядом — два солдата и девушка. Тоня задумалась и не слушала веселой болтовни Черницкого.
— О чем вы грустите? — участливо спросил Карцев.
Она испуганно посмотрела на него:
— Так… Ничего.
И вдруг чему-то улыбнулась. Карцев отметил, какие у нее живые глаза, хорошая улыбка.
Когда прощались, он крепко сжал ее руку:
— Всего вам доброго. Буду рад встретиться с вами.
— Спасибо.
Тоня, подхватив корзину, скрылась в калитке.
— Кто она? — спросил Карцев.
— Горничная у командира полка. Хорошая, серьезная девушка, и должен тебе сказать…
Черницкий запнулся, толкнул Карцева в бок, и они, вытянувшись, отдали честь поручику — заведующему солдатской библиотекой. Поручик внимательно посмотрел на Карцева:
— Читатель Горького? — И, внушительно подняв палец, добавил: — Помню, помню тебя…
В зимнюю ночь безудержный, колючий ветер заметал дневального у ворот казармы. Он прятался в будку, но там было еще хуже: ветер бил в открытую сторону будки, и твердый снег, ударяясь о стены, напоминал шрапнельные разрывы. На колокольне женского монастыря пробили часы. Пробегавшая усталой рысью бездомная собака с поджатым хвостом ткнулась в будку, вскинула морду и, жалобно взвизгнув, бросилась прочь. Дневальный выскочил, ласково позвал ее (он в такую ночь был рад и собаке), но она привыкла не верить людям и скрылась в ночи. Тогда солдат начал ходить вдоль ворот, увязая в снегу. Ночная метель захватила его своей страшной красотой, и он запел:
— Чего орешь? — вдруг послышался сквозь вьюгу чей-то голос. — Ведь ты на посту.
Солдат, жмурясь от снега, залепившего лицо, повернулся. Как незаметно подошел офицер! Мощная фигура, грудь перекрещена ремнями, шашка, кобура револьвера, поднятый башлык, белая от снега лопатка бороды. Узнал: командир третьей роты капитан Вернер, дежурный по полку.
— Какой роты, как фамилия? — спросил капитан низким басом.
— Карцев, десятой роты, ваше высокоблагородие!
— Доложишь ротному командиру, что недостойно вел себя на посту. А ну-ка дыхни, не пьян?.. Дурак!
Капитан удалился, а через полчаса Карцева сменили.
Он прибежал в казарму, в сенях отряхнулся от снега, потер замерзшее лицо. Дежурный Защима дремал, сидя за столом.
— Вернер дежурит! — Карцев затормошил спящего.
Защима вскочил, налил из чайника на руку холодной воды, брызнул себе в лицо. В полку хорошо знали, что с Вернером плохие шутки: чуть что — под суд.
Карцев кинулся к своей койке. Ох, как славно он сейчас отогреется! Рядом, укрывшись с головой, спал Самохин. А почему на койке Чухрукидзе откинуто одеяло и грузина нет? Карцев вспомнил, что в последние дни Чухрукидзе был очень печален, и смутное беспокойство за товарища охватило его. Он прошел по казарме, свернул в дальний угол коридора, отгороженный широким шкафом, где свалены щетки, метлы, ведра. Это, пожалуй, единственное место, где можно спрятаться в роте. Там что-то скреблось, слышался заглушенный стон. Серая, скорчившаяся фигура извивалась на полу. Карцев бросился туда, оторвал закостеневшие руки от концов платка, туго впившихся в шею Чухрукидзе, увидел его посиневшее лицо, вывалившийся язык. Бритая, угловатая голова, падая, ударила Карцева в живот.
— Эх, ты!.. Эх, милый!.. Что же ты делаешь?
Он обнял Чухрукидзе и услышал булькающее и шипящее дыхание, погладил грузина по голове.
— Нельзя сдаваться, брат, нельзя!
В полутьме смутно проступало лицо Чухрукидзе — сероватые пятна щек, черные провалы глаз, оскаленный рот.
Карцев поднял грузина.
— Идем, милый. Дойдешь?
Чухрукидзе пошел, шатаясь. Карцев довел его до койки, стащил с него сапоги, уложил, накрыл шинелью. Потом лег сам, но долго не мог уснуть.
В семинарии Петров был на плохом счету. За чтение Писарева, Добролюбова и Чернышевского сидел в карцере на хлебе и воде, за Чехова и Толстого — должен был отбивать две тысячи поклонов и под конец учения прочно возненавидел все, что было связано с богом, церковью и ее служителями. В университет его не приняли из-за плохой аттестации, выданной в семинарии, и его взяли на военную службу.
Через Карцева Петров сдружился с Мазуриным. Они часто беседовали друг с другом, спорили. Участвовал в этих встречах и Орлинский, заходивший иногда в десятую роту. Ему служилось очень плохо. Он попал к капитану Вернеру, самому жестокому офицеру в полку. Вернер невзлюбил его, донимал при каждом удобном случае, издевался: заставлял перед всей ротой снимать сапог и правильно завертывать портянку.
— Не так, отставить, — спокойно говорил он. — Еще раз.
Однажды, доведенный до отчаянья, Орлинский доложил капитану, что иначе завертывать портянку не может и просит показать ему, как надо это правильно делать.
Вернер побледнел.
— А еще тебе не показать, свиная харя, как шаровары застегивать? На четыре часа под винтовку! Восемь нарядов в кухню вне очереди!
— Придется что-нибудь сделать, — рассказывал Орлинский товарищам. — Иногда думаю: не пырнуть ли его штыком?
— А что толку? — заметил Мазурин. — Разве дело в одном Вернере?
Карцев негромко сказал:
— Вчера и сегодня никого не увольняли в город.
— Правда! — подтвердил Петров. — Меня с увольнительной запиской тоже не пустили. В чем дело?
— На фабрике Бардыгина волнения, — объяснил Мазурин. — Арестовано несколько рабочих. Говорят, два цеха бастуют. Двор полон полиции.
— Эх, поднялись бы по-настоящему! — стиснув руки, сказал Карцев. — Как в девятьсот пятом…
— И ничего не вышло бы! — раздраженно перебил Орлинский. — Ни к чему хорошему восстание привести не может. Наш народ еще не подготовлен к революции!
— Лучше, по-твоему, «медленным шагом, робким зигзагом, марш, марш вперед, рабочий народ»? Так, что ли? — усмехнулся Петров.
Подошел Черницкий.
— Поймали Мишканиса, — сурово сказал он. — Будут судить за побег. Сейчас поведут мимо казармы. Пойдем!
Они поднялись, подошли к решетчатым воротам. Здесь уже собралось много солдат, неизвестно как узнавших, что ведут беглеца.
Шло трое: седоусый жандарм с серебряными шевронами на рукавах, другой жандарм, еще молодой, с крупным мясистым лицом, бычьей шеей, и между ними плелся Мишканис — похудевший, заросший бородой, в вольной одежде.
— Здорово, Мишканис! — крикнул Черницкий. — Зря вернулся, на воле лучше!
Седоусый жандарм сердито посмотрел на Черницкого и подтолкнул Мишканиса.
— Ну, ты, шкура, полегче! — послышался голос Карцева, и столько холодной ненависти прозвучало в нем, что жандарм потрогал кобуру и беспокойно оглянулся на солдат.
— Не робей, товарищ! Мы свое еще возьмем!
Это выкрикнул Мазурин. Жандармы торопливо уводили арестованного.
Долго не расходились солдаты, возбужденно разговаривая о злосчастной судьбе Мишканиса.
Темнело. С запада шли тучи.
…На другой день к директору бардыгинской фабрики Левшину, известному в городе весельчаку и «душе общества», пришла делегация рабочих с требованием отменить жестокую систему штрафов и ввести страхование рабочих от несчастных случаев.
Левшин радушно принял делегатов в своем роскошном кабинете, усадил их в глубокие кожаные кресла и, выслушав, мягко сказал:
— Собственно говоря, ребята, штрафов у нас нет. Есть только вычеты за брак. Стало быть, все зависит от вас самих. Работайте как следует, и не будет никаких вычетов. Вот так-с!
— Веселый вы человек, Дмитрий Николаевич, — сказал пожилой машинист Семен Иванович. — Только ваша веселость нам боком выходит. Вы лучше прекратили бы штрафовать да рабочие казармы подремонтировали, а то крыши протекают, потолки обваливаются, теснота… Как народу жить? Разве так можно?
— Можно, все можно, Семен Иванович, — шутливо ответил Левшин. — Воровать да бунтовать только нельзя.
На этом и кончился разговор.
А спустя несколько часов фабрика стала. Пробравшиеся в цехи шпики пытались арестовать Семена Ивановича, но рабочие отбили его, а шпиков прогнали.
Ночью старика забрали жандармы. В рабочих квартирах и общежитиях начались повальные обыски. Из Москвы примчался разъяренный Бардыгин и приказал уволить всех «смутьянов и бунтовщиков».
На второй день забастовки рабочие собрались во дворе и потребовали хозяина. Но он не вышел к ним и призвал на помощь полицию. Узнав об этом, рабочие соседней фабрики побросали станки и пошли на выручку к своим товарищам. Городовые отступили, испугавшись огромной, возбужденной толпы. Пристав виновато доложил фабриканту, что полиция не может справиться с забастовщиками.
— Так вызовите войска! — крикнул Бардыгин.
И пристав позвонил командиру полка.
В ротах тотчас же были отменены утренние занятия. Никто не знал, в чем дело. Явился капитан Васильев, и послышалась команда:
— Первый взвод, в ружье! Взводный и отделенные, за патронами!
Солдат построили. Роздали каждому по тридцати боевых патронов.
Васильев вышел перед взводом.
— Ребята! — сказал он. — По приказанию командира полка ваш отряд, под командованием штабс-капитана Блинникова, направляется в город для поддержания порядка. Там злонамеренные элементы осмеливаются бунтовать, выступать против закона. Ведите себя, как подобает русским солдатам.
Карцев шел в полном смятении, тяжелым, мерным шагом, с винтовкой на плече, с подсумком, набитым патронами. В ужасе думал: «Куда иду? Усмирять рабочих? Стрелять в них?.. Нет, нет! Не может этого быть!» Встретился глазами с Петровым. Тот в упор посмотрел на него. Сколько бешенства и муки было в его взгляде!
Блинников, покачиваясь всей своей рыхлой фигурой, шел во главе отряда. Рядом с ним бодро маршировал подпоручик Руткевич. Прохожие смотрели на солдат, не понимая, куда и зачем их ведут. И только вблизи фабрики какая-то молодая женщина в нагольном полушубке вдруг всплеснула руками и побежала вперед: она поняла.
Блинников, остановив отряд, пошел к фабричным воротам. Огромный двор казался черным от забивших его людей. Кто-то произносил речь. К Блинникову поспешил полицейский пристав. Они посовещались. Потом пристав направился во двор. Оттуда донесся его густой бас:
— Пока что добром вас просим: разойдитесь, не нарушайте законного порядка! Не подчинитесь — пеняйте на себя! Даю десять минут и предупреждаю…
Последних его слов нельзя было разобрать: они потонули в гуле и криках рабочих.
Пристав возвратился к Блинникову, вынул часы. Руткевич взялся за рукоятку шашки.
— Спокойствие, подпоручик, — остановил его Блинников. — Без моего приказа… прошу вас…
…Они развернулись фронтом, двинулись вперед, вошли во двор Карцев видел тысячи напряженных глаз, следящих за каждым движением солдат. Решительно шепнул Самохину:
— Если прикажут стрелять — не смей!
— Без тебя знаю!.. Отстань…
Послышался пронзительный голос Руткевича:
— На ру-ку!
Он поднял обнаженный клинок.
Карцев исполнил приказ последним и уже в тот момент, когда перед ним возникло оскаленное лицо Руткевича.
— Равнение на середину, шагом марш!
…Идут ли они или стоят на месте? Кто-то тяжело, со свистом, дышал. Кто-то прижался к Карцеву плечом. Кто-то тихо застонал. Мертвые руки держали винтовку штыком вперед. Мертвые ноги несли вперед тело. В голове нестерпимо гудело. Карцев невольно, на какие-то секунды закрыл глаза. В нем росло странное, нечеловеческое напряжение, готовое прорваться каждый миг.
Столкновения не произошло. Рабочие отступили: сопротивление было бы напрасным. Двор опустел. Опустела и улица возле фабрики. Городовые вывели группу арестованных.
Руткевич смеялся.
Блинников равнодушно молчал…
Отряд вернулся в казармы. Солдаты не разговаривали друг с другом. Отвращение к самому себе мучило Карцева. Вечером он лежал на койке, повернувшись лицом к стене. Хотелось стонать, убежать, спрятаться от самого себя.
До него донеслись голоса. Он прислушался. Щеголь Загибин говорил:
— Прямо скажу — трусливые они, сволочи! Увидели нас и давай тикать, от страха дрожат… Гнусь, а нелюди, ей-ей, гнусь… Жалко, не пришлось выстрелить..
Карцев поднялся, медленно подошел к Загибину и ударил его кулаком в челюсть.
Он стоял под ружьем в полной походной выкладке — со скаткой, патронташем, двумя подсумками, с саперной лопаткой в чехле, подвешенной к поясу, и с вещевым мешком, наполненным кирпичами, стоял против входной двери, под надписью, сделанной на стене черной краской: «Нет почетнее звания солдата — все уважают и ценят его».
Винтовка застыла на плече, ноги были сдвинуты, носки развернуты на ширину приклада: попробуй шевельнись — и получишь лишний час.
Завтра десятая рота должна идти в караул, а он, Карцев, пойдет отсиживать двое суток ареста. Это даже хорошо, лишь бы уйти, куда угодно уйти из роты!
Раздалась команда «смирно». Пришел Бредов. Он три дня не являлся на занятия, сказавшись больным. Дежурный по роте отрапортовал ему, а потом сделал шаг в сторону, и Бредов заметил Карцева.
— В чем провинился? — спросил он.
— Ударил рядового Загибина, ваше благородие!
— За что?
— За то, что он подлец!
— Кто тебя поставил?
— Фельдфебель, ваше благородие!
Бредов скомандовал Карцеву — «взять к ноге».
— Передай фельдфебелю, что я приказал отставить.
Вернувшись в казарму, Карцев увидел возле своей койки Петрова. Тот посмотрел на него виновато и грустно.
— Плохо! — сказал Петров. — Чувствую себя мерзко, словно совершил преступление… Давай, брат, закурим.
К Карцеву подходили солдаты, дружески заговаривали.
Писарь Шпунт, встретившись, шепнул:
— Держись аккуратнее. Под тебя копают.
Карцев и сам это знал; уже был у него разговор с Мазуриным, который тоже посоветовал быть сдержаннее. Ну как тут стерпишь, когда фельдфебель и взводный только и знают, что придираются. Однажды пришел Мазурин и сел возле него, Машков начальственно окликнул:
— Карцев, сюда!
И когда Карцев подошел, он сказал с кривой усмешкой:
— Не по уставу являешься. Явись по полной форме.
Карцев исполнил приказание. Машков осмотрел его с ног до головы и рявкнул:
— Не аккуратно ходишь! Заправь как положено гимнастерку!.. Вот так… Наряд за неисправность возьмешь не в очередь.
— Слушаю, — спокойно ответил Карцев.
У Машкова перекосилось лицо.
— Отвечай, что такое есть внутренний враг?.. Да как ты, сволочь, стоишь перед начальством? Подтянуться! Живот убрать! Носки развернуть! То-то ж… Ну, отвечай.
Было ясно, что Машков издевается, хочет вызвать на дерзость. Карцев чуть было не вспылил. Но увидел твердый, успокаивающий взгляд Мазурина и ответил ясно, четко:
— Внутренними врагами называются люди, живущие в России и оказывающие неповиновение царю и законным властям.
— Вызубрил, черт!.. А какие самые святые слова для русского солдата?
— Вера, царь и отечество, господин взводный!
— Хитер, как муха, все знает… А ну-ка скажи шестую заповедь.
— Не убий, господин взводный!
— А если начальство прикажет убить?
— Убьем, господин взводный!
Ярость душила Машкова. Невыносимо хотелось ударить солдата, но он не решался.
— П-шел! — прохрипел он. — Скройся! В другой раз доберусь до тебя.
Карцев вместе с Мазуриным и Петровым примостились в углу за шкафом. Как-то стало легче после нападения Машкова, спокойнее на душе, словно после выигранного боя. Петров рассказал Мазурину, как усмиряли рабочих. Мазурин слушал внимательно. Достал бумагу, свернул «собачью ножку», набил ее махоркой, закурил.
— На фабрике плохо говорят о нас, — печально сказал он. — А ведь были в нашем полку хорошие работники… настоящие.
— Где же они? — спросил Петров.
— Одни ушли в запас, другие — на каторге… Одного расстреляли. Подпольщиком был… Завязал связи с фабрикой, выступал на тайных рабочих сходках, носил в казармы литературу… Одним словом, выдала какая-то сволочь. На допросах его мучили. Но никого не выдал. Допрашивал Вернер… Судили при закрытых дверях… Вот и все.
Чья-то тень мелькнула у окна.
— Кто тут? — окликнул Карцев.
Вошел Черницкий.
— Вот они где! А я думал — пошли в гости к фельдфебелю, водку с ним пьете. Дай закурить, Мазурин!
Вспыхнула спичка. Минуту было тихо. Карцев придвинулся к Мазурину.
— Нет, так нельзя, — сказал он. — Соберемся, поговорим. Спокойно мне тут все равно не жить.
Широкая рука Мазурина легла на его плечо.
— Потолкуем в другой раз, — вставая, сказал он. — Еще будет время. А сейчас поздно. Пойду.
Утром офицеры пришли в казарму раньше обычного. Васильев, Бредов и Руткевич заперлись в канцелярии и вызвали Смирнова. Зауряд-прапорщик тяжелой рысью пробежал по коридору. Наружные двери были заперты, дежурному запретили кого-либо впускать или выпускать. Вскоре все вышли из канцелярии и приказали взводным построить роту.
Васильев недовольно теребил соломенные усики. Бредов был равнодушен. На лице Руткевича, как всегда, светилось выражение радостной готовности.
— Взводных унтер-офицеров ко мне! — распорядился Васильев. Он приказал развести взводы к койкам и открыть солдатские сундучки. Предстоял повальный обыск.
Васильев ходил насупившись, едва глядел на вынутые вещи. Бредов то и дело отворачивался. Руткевич искал запретное с упоением. Заставлял солдат вываливать вещи на койки и, натянув предварительно серые лайковые перчатки, с азартом перебирал разные тряпки, карточки, письма.
Нашли несколько книжек, хранившихся у солдат без разрешения ротного командира, неотправленные письма с жалобами на тяжелую жизнь.
— До чего же неблагодарный народ! — сокрушенно разводя короткие, толстые руки, говорил Смирнов. — Сколько на них забот тратишь, и все зря — не чувствуют, не понимают.
И, подскочив к одной из коек, откинул одеяло.
— Ну, когда вы, свиньи, на простыне дома спали? В жизни вы ее не видели и только на службе узнали, как по-человечески надо жить!
Едва солдаты попили чай, как скомандовали идти в караул. Обозленные солдаты надевали шинели, просовывали ремешки подсумков через пояса. Роздали патроны. Привычным движением солдаты вскидывали винтовки, закрывали затворы. Смирнов прошелся перед фронтом, выругал кое-кого за плохую заправку, и роту вывели во двор.
Карцева вызвали в ротную канцелярию. Смирнов, взглянув поверх очков, передал его ефрейтору Защиме:
— На гауптвахту, отбывать арест!
Защима сунул бумагу за рукав шинели, прицепил к поясу штык в желтом кожаном чехле, и оба пошли.
Гонимый ветром снег падал наискось, колол лица. Прошел низенький человек в рваном полушубке и разных валенках — один серый, другой черный — и несколько раз оглянулся.
— Смотри, смотри, — проговорил Защима, — как солдата под арест ведут. А какое в том удивление? Так каждый день бывает. Постой. — И вдруг Защима остановился. — А зачем я, в самом деле, тебя веду?
Тугая, недоуменная улыбка выдавилась на его синих губах.
— Боюсь я своей думки, — шепотом сказал он. — Сполняй свою службу, государственный ефрейтор Защима, сполняй и не думай.
Понурясь, он пошел вперед и возле гауптвахты сунул Карцеву помятую пачку махорки.
— Брат, эх, брат! — горько произнес он и, оправив штык у пояса, добавил: — Ну, шевелись, сдам тебя куда надо… вот возьми спички и бумагу для курева.
Караульный начальник принял Карцева и провел его в одиночку — в крошечную каморку с зарешеченным оконцем, выходившим в коридор. Карцев сел на узкий деревянный топчан, отдался невеселым мыслям…
Этот день в карауле был необычным. Давно уже не сажали столько солдат. Их приводили целыми группами и по одному и сдавали караульному начальнику. Рядом с Карцевым поместили какого-то беспокойного человека, он все время ходил и бурчал что-то под нос. Камеры разделялись тонкими простенками, можно было свободно переговариваться. Беспокойный сосед постучал в стенку и спросил (у него был низкий, гремучий голос):
— Кто такой будешь?
Карцев ответил.
— Говорят, человек до ста сегодня арестовали.
— Не знаешь, за что?
Сосед удивленно хмыкнул за стенкой.
— А ты сам не знаешь, серенький? За фабрику, вон за что! Сотни, понимаешь, солдат по городу вертелись, с рабочими разговаривали. Самовольно из казарм уходили. Полицмейстер приезжал к командиру полка, просил запереть солдат в казармы: мол, боюсь их!
— А ты откуда все это знаешь?
— Я-то? — В голосе за стенкой прозвучала обида. — Я ведь писарь из полковой канцелярии. Кому же знать, как не мне?
— А за что тебя, писарь, посадили?
— Бумагу секретную прочитал, какую не положено мне знать.
Карцев представлял себе писаря небольшим, суетливым человеком с толстой шеей (это оттого, что низкий голос), с беспокойными глазами.
— Ты сам откуда будешь? — спросил писарь.
Карцев сообщил, откуда он.
— Землячок! — послышался обрадованный возглас. — Мы же ананьевские! Это рукой от тебя подать. У Гана, говоришь, работал? Знаю, знаю этот завод. Молотилки оттуда возил. Эх, землячок…
У двери послышался шорох. Караульный начальник тонким, скопческим голосом (у него и лицо было бабье, безволосое) ругал писаря холодно и без злобы.
В молчании проходило время. Карцев задремал. Но вот у двери взвизгнул замок. В камеру заглянул караульный:
— Принимай обед!
Карцев вышел в коридор. На полу дымилось ведро с супом.
— Давай котелок, — потребовал кашевар.
Эка досада! Карцев, не зная здешних порядков, не захватил с собою котелка.
— Вот, возьми мой, — послышался низкий, знакомый голос… — Я на хлебе и воде, у меня арест строгий.
Писарь оказался совсем не таким, каким воображал его Карцев. Это был человек выше среднего роста, с худыми, покатыми плечами, угреватым носом и крупными коричневыми зубами.
Передавая котелок и ложку, писарь подмигнул. Его сейчас же увели и заперли. В конце коридора Карцев увидел длинную фигуру Мишканиса. Его сопровождал караульный. Литовец, проходя мимо, улыбнулся. Камера его тоже была рядом с Карцевым. Мишканис, согнувшись в дверях, прошел туда.
Вечером Карцев постучал ему в стену.
— Здравствуй, Мишканис! Это я, Карцев. Как живешь?
— Жду суда.
— Как же ты на воле пожил? Почему бежал?
Прошло немного времени, и литовец начал рассказывать:
— Три года не был я дома… На службу взяли из тюрьмы. Сидел потому, что не позволил уряднику бить меня. Он большой мерзавец: забрал у моей матери единственную корову. Пришел к нам вместе со стражником и старостой, а я не даю корову, уплачу, говорю, деньги, пусть только предоставят отсрочку. Но урядник корову забрал, а меня — кулаком в лицо. Ну, я взял и вынес его за ворота. Вреда ему, конечно, не сделал, но он кричал, как резаная свинья. Прибежал народ. Меня, понятное дело, связали, увезли в тюрьму, по дороге били. На суде сказали, что я душил урядника, что я политический. Присудили на два года. Из тюрьмы посылал домой письма, никакого ответа. Подумал: может, мать умерла?.. Когда кончился срок, меня отвезли прямо к воинскому начальнику и от него под конвоем — в полк. Прослужил я год, писал, писал домой — ни звука оттуда. Просил отпуск, не дали… Ну я и убежал.
В коридоре вдруг зашумели. Кого-то там тащили, кто-то вопил:
— Не дамся, не дамся! Душитель он! Довел до греха…
И голос конвоира:
— Не кричи, гнида серая! Тоже мне — бунтовщик!
Арестованного, видимо, увели. Хриплый его голос стих сразу, будто человеку заткнули рот кляпом.
И в острой тишине снова послышался шепот Мишканиса:
— Хотел сразу домой, но боялся — поймают. Три недели проторчал на лесопилке. Хорошие это были дни, хотя работа досталась тяжелая. Потом пришел стражник, спросил паспорт. Я сказал, что паспорт в избе, сейчас принесу. Пошел и больше не вернулся. На третий день ночью пробрался в свою деревню, узнал, что мать умерла, а сестра вышла замуж, у нее ребенок родился. Сестра плакала, говорила, что мои письма забирал и жег староста. Он сказал ей, что если она будет мне писать, то ее тоже арестуют… Утром пошел к старосте, решил рассчитаться с ним. Увидел он меня, заперся и давай во всю глотку кричать. Ну, меня, конечно, взяли. Я не сопротивлялся, махнул рукой…
— Прекратить болтовню! — раздался за дверями окрик часового.
Наступила ночь. Карцев лежал с открытыми глазами.
Из полковой канцелярии прибежал Шпунт. Никогда еще солдаты не видели этого флегматичного человека таким возбужденным. Он промчался по всей казарме, кого-то по дороге схватил за плечи и бешено завертел, подскочил к Филиппову, обнял его и в заключение прошелся вприсядку, лихо выбрасывая ноги. Все подумали, что писарь сошел с ума. Но вот он остановился, вытянул руки по швам и торжественно объявил:
— Одиннадцатый год, становись по четыре! В запас — шагом марш!
— Ура! — закричали солдаты.
Они тесной толпой окружили Шпунта, и тот, отчеканивая каждое слово, прочитал приказ об увольнении девятьсот одиннадцатого года в запас. Шпунта целовали, спрашивали, когда же именно будут увольнять.
Те несколько дней, что осталось провести в казарме, уже не были для увольняемых днями настоящей службы. Они не несли нарядов, свободно уходили со двора, продавали вышедшие из срока вещи, и на счастливчиков с завистью смотрели солдаты младших сроков службы. Защима надел новые лакированные сапоги, какие имели право носить только офицеры, напился пьяным и, вытаращив глаза, говорил:
— Отмучился раб божий Защима!.. Били, били его, да не добили. Ломали, ломали, да не доломали. Идет в запас на вольную жизнь часовых дел мастер, бывший государственный ефрейтор Защима!..
А вот Машков загрустил: он, как подбитая птица, отставшая от своей улетающей стаи, шел на сверхсрочную службу, так как некуда было деться ему, безземельному крестьянину.
И Комаров, маленький, юркий Комаров, вечно хихикающий, которому тоже вышел срок службы, был, как и Машков, печален и растерян. Когда Карцев спросил, что с ним, он начал плакать и сквозь слезы жаловался. Три года прожил в казарме. Жилось ему, конечно, тяжело, били его, притесняли, выполнял он самые грязные работы, но худо ли, плохо ли, а привык, обжился, был сыт, обут, одет, спал в тепле, с подушкой под головой. И вот все кончилось, надо уходить. А куда? Да еще зимой?.. У него ничего и никого нет. Бобыль он! Примет ли его мир? Навряд ли… Наделы маленькие, земля никудышная, а он даже избенки не имеет. Податься в город? Но что его там ждет? Он уже мыкался по трактирам, по магазинам, подохнешь раньше, чем работу найдешь!
Вокруг него собралось несколько солдат. И никто не засмеялся, не бросил колючего слова.
— Выпить бы, — проговорил Комаров, вертя тонкой шеей. — Эх, выпить бы мне, горемычному, козявке человеческой!..
Семеня ногами, подался он к Защиме. Тот достал из кармана бутылку, откупорил ее одним ударом ладони о дно, и оба жадно, захлебываясь, начали пить водку.
Защима весь накалился от водки, от безумной радости скорого освобождения. К черту всякую там осторожность, хватит! Наденет он вольную одежду, останется пока что в городе, будет прохаживаться мимо офицеров, держа руки в карманах, нахально глядеть на них, а Смирнова доймет так, что тому некуда будет деваться: наймет мальчишек стекла бить в его квартире, дочку ему испортит, сам не знает, что сделает, но жить не даст ему!
Столкновение с зауряд-прапорщиком назревало. Вечером, накануне отъезда запасных, Смирнов вышел из своей квартиры и бесшумно пошел дозором. Когда он приблизился к Защиме, лежавшему на койке в хмельном угаре, дурной запах внезапно защекотал ему ноздри.
— Что безобразничаешь, негодяй! — вспылил Смирнов. — Встань, встань, приказываю тебе!
Защима медленно поднялся, икнул и задушевно сказал:
— Иди ты… к бабушке, к матери, к дочке, к корове под хвост, только исчезни! Насмотрелся я на тебя, ирода, за три года!
Смирнов завизжал:
— За оскорбление прямого начальника под суд пойдешь, сукин сын, под суд!
Защиму арестовали, судили, разжаловали в рядовые и приговорили к шести месяцам дисциплинарного батальона.
Однажды Петров подошел к Карцеву, задумчивый, немного смущенный, и сказал:
— Вызвал меня, понимаешь, ротный командир и предложил заниматься с его дочкой. Девочке восемь лет. Я согласился. Плохо поступил, а?
— Почему плохо? Платить тебе будут, ротный к тому же станет лучше относиться.
— Да я не о том! Этично ли мне обучать офицерских детей?
— Ну, брат, в таких тонкостях я не разбираюсь. А вреда тут никакого не вижу.
Простота, с какой говорил Карцев, успокоила Петрова.
— Ты, пожалуй, прав. Буду заниматься.
На первый урок он пришел с чувством неловкости. Отворил дверь денщик — рыжеватый апатичный парень с сонными глазами.
— Чего тебе? — грубо спросил он. — Из роты?
— К капитану Васильеву. По вызову!
Денщик ушел, и Петров услышал его голос за дверью:
— Ваше высокоблагородие, там вас какой-то вольный определяющий спрашивает.
Васильев вышел в стареньком кителе и войлочных туфлях. Хотел протянуть Петрову руку, но тут появился денщик: неудобно было.
— Прошу вас, — сказал Васильев, указывая на дверь.
Петров вошел в просторную, с низким потолком комнату, видимо служившую гостиной. Мещанский уют наполнял ее: кисейные занавески на окнах, герань на подоконниках, неуклюжие фаянсовые фигурки на полочках и этажерках, белые чехлы на диване и креслах, огромная желтая труба граммофона.
— Прошу садиться, — предложил Васильев. — Сейчас позову жену.
Он вернулся с женщиной, которая была значительно выше его ростом, белокурая, с карими, живыми и теплыми глазами. Петров встал. Она, улыбаясь, подошла к нему. Он пожал ее узкую, мягкую руку, вдохнул запах тонких духов, смутно понимал, что она говорит, только слушал ее голос, такой же теплый и мягкий, как и ее глаза.
— Владимир Никитич говорил мне, что вы любезно согласились заниматься с Алей.
«Кто это Владимир Никитич? Ах, да — капитан Васильев! Странно: все время «его высокоблагородие» и вдруг — Владимир Никитич!» Петров улыбнулся. Он условился о времени занятий, покраснел, когда речь зашла о плате, и невнятно проговорил:
— Это неважно, сколько сможете, столько и заплатите.
Капитанша протянула руку (удивительно приятно было ее пожатие), и вслед за нею капитан неловко подал свою.
Петров начал регулярно ходить на квартиру к Васильеву. Узнав об этом, Смирнов сразу изменил отношение к «вольноперу», стал вежлив, даже раз позвал к себе и познакомил со своей дочкой, такой же короткой и мясистой, как и он сам, с круглыми кукольными глазами.
Васильев старался дома не встречаться с вольноопределяющимся. Двойственность создавшихся у них отношений была ясна Петрову. Васильев, как истый военный, не выносил «штатского душка». Еще в первые дни пребывания Петрова в роте он сделал ему замечание:
— Как-то вы не по-солдатски держитесь. Надо забыть штатские манеры. Здесь они неуместны и даже вредны.
И вот извольте: «нижний чин» — учитель его дочери! По натуре мягкий и доброжелательный, Васильев некоторое время не знал, как вести себя с Петровым. Наконец привык к нему, перестал стесняться, оставлял даже пить чай.
Жена капитана Валентина Сергеевна иногда приходила на уроки дочери и садилась с вышиванием в низенькое кресло. После урока она с любопытством расспрашивала Петрова о его жизни, о родителях, о его планах. Получалось это у нее просто и сердечно, и ему были радостны ее расспросы, была приятна эта белокурая женщина, он невольно замечал ее высокую грудь, стройную, маленькую ножку. Валентина Сергеевна рассказывала об офицерской жизни провинциального города, скучной и неинтересной, где каждый знал всю подноготную про других, и если на какой-то вечер должен был явиться молодой подпоручик в новом мундире, то еще за несколько дней полковым дамам было ведомо, что мундир сшит у такого-то портного в рассрочку. Все поочередно бывали друг у друга, сплетничали, ходили в офицерское собрание и давно друг другу надоели.
Петров очень скоро перестал держаться настороже в присутствии Валентины Сергеевны, делился воспоминаниями о семинарии, говорил о твердом своем желании стать врачом. Она кивала головой, продолжала вышивать, грустно говорила:
— Нет, плохо у нас живут офицеры. Играют в карты, пьют, своим делом мало интересуются. Молодежь петушится, хорошие книги мало кто читает. Не то что Володя…
Он слушал ее, боясь взглядом или движением выдать себя, трепетно смотрел на ее розовую шею и в смятении думал: «Боже мой, Валентина Сергеевна… Валя! Какая вы изумительная, какая чудесная!.. И неужели вы любите этого маленького, тонконогого человека?»
Она показала ему полку с книгами. Среди томов Мольтке и Клаузевица он увидел в хорошем тисненом переплете «Войну и мир» Толстого.
— Мы получаем «Русское слово», — понизив голос, сообщила Валентина Сергеевна. — Вы знаете, Володе пожалован орден Георгия четвертой степени за русско-японскую войну. В полку такого Георгия имеют только он да полковник Архангельский. Большая честь!.. Ведь Владимир Никитич очень способный офицер и любит военное дело.
В том, что Васильев понимает и любит военное дело, Петров убеждался не раз. Когда капитан на занятиях, набросав мелом на доске карту, рассказывал о боях, в которых участвовал (о себе он обычно не говорил), солдаты слушали его с интересом. На тактических полевых занятиях он изобретал интересные задачи, увлекал солдат поисками хорошо замаскированного «противника», учил незаметно подкрадываться, применяясь к местности, бросаться в атаку, нанося стремительные удары по врагу.
Занятия с Алей шли хорошо, и, освоившись в офицерском доме, Петров нет-нет да и заговаривал с Васильевым на «посторонние» темы, иногда даже спорил. Аля как-то с детской прямотой сказала Петрову:
— А вы понарошку одеваетесь солдатом. Вы и не солдат вовсе.
И когда Петров возразил ей, сказав, что он самый настоящий солдат, она убедила его неотразимыми доводами:
— Нет, солдаты не такие. Они работают на кухне, помои выносят, чистят нам обувь, стирают для нас, вот как денщик Егор. И все говорят им «ты» и в комнаты не пускают.
Очень часто Петров встречал на улице штабс-капитана Тешкина — сутуловатого человека с развинченными движениями, неряшливо одетого, совсем не похожего на офицера. И каждый раз Тешкин внимательно смотрел на него круглыми желтыми глазами, а как-то раз остановил и спросил глухим голосом, кривя рот:
— Ну так что же? Как жизнь?
— Служу, ваше благородие, — растерянно ответил Петров.
— Хм!.. Телеграфный столб тоже служит — для связи… Зайдем ко мне, я живу здесь рядом.
Он двинулся, сутулясь, и через плечо посматривал на Петрова, точно боялся, что тот не пойдет за ним, убежит. Подошли к старенькому деревянному домику.
— Вот моя берлога, — сказал Тешкин, обводя дом длинной рукой. — Хотел вывеску пристроить: «Берлога штабс-капитана Тешкина». Не позволили.
Сени были темные, низкие, чем-то напоминавшие отверстие русской печи. Паутина пыльными лохмотьями свисала с черного потолка. Комната штабс-капитана скошенным окном выходила в замерзший садик. Повсюду в беспорядке валялись вещи. Портрет Достоевского смотрел из полутемной ниши, а в переднем углу вместо снятой иконы виднелось длинное, с высоко изогнутыми бровями и острой бородкой язвительное лицо Мефистофеля.
— Не люблю порядка, — признался Тешкин. — Казарма, мещанство… И денщика не держу. Противно. Не хочу, чтобы кто-нибудь мешал. Садитесь! — пригласил, вернее, приказал он. — Расположен говорить с вами. В этой дыре, которую почему-то называют городом, нет интересных людей — одни манекены.
Он вытащил из-под кровати, небрежно покрытой смятым байковым одеялом, жестяную миску с табаком, свернул папиросу, пододвинул табак Петрову.
— Я, к вашему сведению, пишу, — сказал Тешкин, глядя куда-то вниз. — Только не разрешают печататься.
— Кто не разрешает? — спросил Петров, усевшись на опрокинутый пустой ящик, заменявший стул.
— Командир полка! Считает, что не офицерское дело сочинять небылицы. А Лермонтов? А Полежаев? А Денис Давыдов? К вашему сведению, тоже офицеры, Ерунда! Придирки! Зависть!
Он курил длинными затяжками, нечесаная его голова, казалось, дымилась, и черные клочья усов шевелились в дыму, словно их колебал ветер.
— Вы какого писателя считаете полезным? — спросил он. — Кого любите больше других?
Он с острым любопытством взглянул на Петрова.
— Толстого. И, конечно, Пушкина, — ответил Петров. — Без Пушкина нельзя себе представить нашу литературу.
— Ненужный писатель Толстой, — быстро заключил Тешкин. — Все, о чем он пишет, случается в жизни. А Пушкин — для красоты: как цветок, как весна. А Толстой — разве так необходим?
Петров был в недоумении: «Странный человек, зачем он позвал меня?»
— Необходим, — твердо сказал Петров. — Целые эпохи можно изучать по Толстому. А сила какая! Точно Волга течет в половодье.
Тешкин брезгливо усмехнулся:
— Не согласен. Толстой не уводит меня из этого болота.
Он беспокойно шевельнулся, достал из-под стола запыленную гравюру, сдул с нее пыль и протянул Петрову. Гравюра была старая, пожелтевшая, с немецкой готической надписью. На ней был изображен человек в старинном костюме, с всклокоченными волосами, с изогнутыми бровями и выпуклыми, страшными глазами. Горечь и безумие были и в этих глазах, и в широких, тонких губах, и в тяжелых складках возле рта.
— Кто это? — спросил Петров. — Что за страшилище?
— Теодор Амадей Гофман! Его должны читать все, кому трудно и скучно живется на белом свете. Полезнейший, удивительнейший писатель.
Он встал и, покачиваясь, вытянув вперед руки, заговорил глухим голосом:
— Фантазия — великий путь на свободу из темных подвалов нашего бытия. Вот видите эту уличку, этот тюремный забор, этот навоз кругом? Тут проходит моя жизнь, моя бедная жизнь, и отсюда Амадей Гофман выводит меня в иной мир, по чудным путям своей фантазий.
И вдруг, присев на корточки, он посмотрел на Петрова расширенными глазами и зашептал:
— Скребет меня такая жизнь, душа вся расцарапана, понимаете? Ненавижу полк, все это мишурное ничтожество, этих тараканов в мундирах, у которых за душой медного гроша нет, да и души тоже!.. Что им честь армии? Военное дело? Не любят его они, как, признаюсь, не люблю и я..
— Странно, что вы стали офицером при таких взглядах.
— «Странно», «странно»… Ничего тут странного нет. Надо было куда-то ткнуться. Я ленив. Наружность плохая. Несимпатичный. Непривлекательный. Людей не терплю. Работать не люблю. А тут все-таки… живешь!
И, поднявшись, наклонился к Петрову, шепнул:
— Сладкий грех — люблю… С фантазией только.
Петров встал, желая скорее выбраться на свежий воздух. Но Тешкин не отпускал его. Он говорил стремительно и бессвязно, как человек истерический, долго не имевший возможности излить накопившиеся в нем мысли и чувства, перескакивал с одной темы на другую, и неизвестно, сколько бы продолжалась эта полубредовая исповедь, если бы кто-то не постучал с улицы в двери. Шаркающие старушечьи шаги раздались в коридоре, послышались громкий мужской смех и картавый женский голос. Дверь в комнату распахнулась, и вошел вольноопределяющийся Сергеев в заломленной набок фуражке, со свертками в руках.
— Иван Андреевич, — заорал он, — привет вам и честь!..
Увидев Петрова, Сергеев удивился:
— Ах, и вы здесь? Ну что ж, всякое бывает…
И, визгливо захохотав, повернулся к двери.
— Ну, девуленька, — сюсюкая, позвал он и положил свертки на стол. — Ну, царица наслаждений, извольте переступить порог сей хижины, недостойной вас. Жрецы любви — у ваших ног! У нас вино, конфеты и ласки, ласки… «Ах, эти ласки!..» — запел он и, жеманясь и приплясывая, ввел за руку совсем еще молодую девушку с толстым, безбровым лицом, с крутыми завитками над низкой полоской лба и коровьими глазами.
— Прошу, прошу! — вскочил Тешкин, шумно дыша.
Они вдвоем сняли с девушки потертую шубку и усадили ее на постель. Она тупо смеялась. Увидев Петрова, игриво сказала:
— А я вас не знаю, мужчина. Шлепайтесь рядом со мною.
Сергеев занялся свертками. Тешкин помогал ему. А Петров незаметно выскользнул из комнаты…
Однажды, когда Петров пришел к Васильевым на урок, денщик не пустил его.
— Велели передать, — сказал он, вытирая руки о грязный передник, — что сегодня занятий с барышней не будет. У них господа офицеры в гостях.
И бесцеремонно захлопнул дверь.
Петров ушел обиженный и возмущенный.
«Надо бросить урок, — решил он. — Так не может дальше продолжаться. Они вежливы со мною, пока я им нужен, но каждую минуту могут на меня цыкнуть, указать мне мое место».
Он не пошел на урок на следующий день, и денщик капитана, придя с котелком за своим обедом в казарму, передал ему записку.
«Уважаемый Сергей Петрович, — писала Валентина Сергеевна, — не случилось ли что с вами, не больны ли вы? Алечка вам кланяется. Будем вас ждать».
Записка была Петрову приятна. Он подумал, что ему невозможно не видеть Валентину Сергеевну. И такая радость вспыхнула в нем, когда он опять увидел ее, что он даже испугался: неужели любит ее? Что это может принести, кроме мук и унижения?
Она протянула ему руку, и он невольно задержал ее в своей руке. Словно не заметив этого, Валентина Сергеевна заговорила о чем-то другом.
Как-то после урока Васильев показал ему напечатанные главы из дневника Куропаткина о японской войне.
— Я не читал, но вряд ли генерал может рассказать всю правду об этой позорной для России войне, — заметил Петров.
— Почему не может и почему вы эту войну называете позорной? Русские солдаты и офицеры честно выполнили свой воинский долг. Не их вина, что война так кончилась, — голос Васильева звучал резко.
— Да, не их вина, — согласился Петров, — и не надо их обвинять. Ведь вся Россия знает, что там была авантюра высших кругов, связанных с биржей и царской фамилией. Они хотели поживиться на прибыльных лесных концессиях в Маньчжурии и Корее, не считаясь с тем, что наша страна совершенно не была подготовлена к войне с Японией.
Васильев заложил за спину руки, выпятил грудь, сдвинул каблуки.
— Это мерзко, — проговорил он, сдвигая гусеницы бровей. — Возмутительная, гадкая клевета! Японцы предательски, не объявляя войны, напали на наш флот в Порт-Артуре, да-с! И это была война русского народа за веру, царя и отечество. Прошу вас все это запомнить!
Его голос дребезжал черствыми, начальственными нотками. Петров, весь ощетинившийся, хотел было продолжать спор, но сдержался.
Капитан отошел к окну. Петров стоял напряженный, сделал над собой усилие, пробормотал: «Честь имею кланяться» — и бросился вон.
Васильев, не оборачиваясь, едва кивнул головой. Валентина Сергеевна вошла, удивленная их громкими голосами. Петрова уже не было. Васильев нервно барабанил пальцами по стеклу.
— Что случилось, Лодик? Где Сергей Петрович?
Он, не отвечая ей, подошел к письменному столу, вынул из ящика маленький кожаный футляр. На пышном малиновом бархате, сверкая золотом и белой эмалью, лежал орден святого Георгия.
— Валя, — мягко сказал Васильев, и слеза выкатилась из его глаз, — этот орден дают только за высшую боевую храбрость, только за доблесть дают его, и может ли быть, чтобы его вручили офицеру с нечистыми руками и за поганое дело?
— Что ты говоришь, Лодик! — ужаснулась Валентина Сергеевна. — Я не понимаю тебя.
— Может ли быть, — продолжал Васильев, подымая орден на ладони, — что честные русские воины, идя в бой за царя и родину, проливая свою кровь, жертвуя своей жизнью, способствовали кучке авантюристов?
Она перекрестила мужа, тревожно на него смотрела:
— Лодик, ты о чем-то страшном говоришь…
И капитан рассказал ей о своей беседе с Петровым.
— Ужасно! — всплеснула она руками. — Такой скромный, такой воспитанный… Неужели он мог так говорить? Совсем на него непохоже.
— Я не знаю, можно ли ему позволять дальше заниматься с Алечкой? — спросил Васильев.
— Ну, с Алей он ни о чем, кроме занятий, не говорит, — быстро ответила Валентина Сергеевна. — К тому же он хороший учитель, и мы совсем дешево ему платим, Где найдешь такого в нашем городе? Пусть занимается. Я буду присутствовать на уроках… Вот уж никак не ожидала, что он может оказаться таким, — как это у Тургенева?.. — нигилистом.
А Петров в тот вечер долго не мог уснуть. «Напрасно я все это говорил ему, — с беспокойством думал он, — ведь он может погубить меня, доложит командиру полка, и тогда — военный суд за непозволительные суждения. Зачем я не сдержался!»
Заснул он поздно. Ему снилось, что он приговорен к каторжным работам и закован в кандалы. Кандалы гремят при каждом его движении. Он проснулся в испуге. Все вставали. Самохин с грохотом выдвигал из-под койки свой сундучок.
Два воскресенья подряд Карцева не выпускали в город. Было обидно проводить праздничный день в душной казарме, но что поделаешь: нужно молчать! Когда же взводный вдобавок дал ему внеочередной наряд за искривленный каблук, Карцев рассвирепел.
— Неправильно дали мне наряд, господин взводный! — хмуро проговорил он, глядя на медное, пустое лицо Машкова. — Мало ли у кого сбит каблук? За это не наказывают.
— У кого мало, а у тебя много, — издеваясь, ответил Машков. — Казенную обувь надо беречь и вовремя чинить.
— Жаловаться на вас буду, — заявил Карцев.
— Не можешь, — радостно засмеялся Машков. — А за то, что не знаешь устава, получишь еще наряд, когда этот отбудешь.
И, подняв палец, торжественно сказал:
— Нельзя жаловаться на строгость взыскания, если начальник не превысил своей власти. Что, съел? — и, хлопая себя руками по ляжкам, взводный захохотал.
Карцев до боли прикусил губу. Машков явно вызывал на дерзость. Но не тут-то было: у Карцева нервы крепкие! Он с интересом посмотрел на взводного, удивляясь, что этот тупой и ничтожный человек имеет такую власть над ним. Карцев не мог отделаться от совершенно ясного ощущения: ему трудно, тесно жить. Так было прежде в Одессе, так теперь и в казарме. Как же преодолеть все это? Как изменить жизнь? И он с радостью вспоминал свои разговоры с Мазуриным. Скорее бы увидеть его!..
Наконец в следующее воскресенье ему удалось вырваться из казармы. Он встретился с Тоней, и они пошли к роще. Первая молодая травя пробивалась на бурых полянках. Девушка была грустна, рассеянна, едва слушала Карцева. И вдруг беззвучно заплакала. Карцев встревожился:
— Что случилось? Тонечка, хорошая моя…
Она платочком вытерла слезы.
— Да это я… так. Ничего не случилось…
— Да нет, — не уступал Карцев. — Без причин вы горевать не будете. Расскажите. Ведь я товарищ вам…
Она искоса посмотрела на него, улыбнулась:
— Какой солдат может быть товарищем? Солдат — он без корня. Не знаешь, откуда растет…
Но все же она стала откровеннее. У нее не было никого близких в городе, а кому-то обязательно надо поведать о своей беде, ох как надо!.. Максимов пристает к ней. Раз даже пришел ночью, и она едва вырвалась от него. Надо уходить, но куда? Город маленький, все обо всем знают, как устроишься? Будут спрашивать, почему ушла от полковника, побоятся взять…
— Старый козел! — всхлипнула Тоня. — Мучитель!.. Подлый человек!.. Я знаю, что он людей не жалеет. Для него солдат вроде спички, чирк — и сгорела… Денщика загонял. Ночью заставляет сапоги чистить. Любит, чтобы они блестели. А их у него шесть пар! Сидит и смотрит, как денщик чистит…
— Надо вам отыскать другое место, — сказал Карцев. — Есть у меня близкий товарищ — Мазурин. У него в городе большие знакомства. Устроим вас, Тоня, не горюйте.
Она недоверчиво и в то же время благодарно взглянула на него. Они медленно пошли дальше. Тоня засмотрелась было на беленькое облачко, что будто зацепилось своим мохнатым боком за высокую сосну. «Счастливое… — с грустью подумала она. — А мне и зацепиться не за что…»
Протянула руку Карцеву:
— Спасибо… За все вам спасибо… Побегу. Барыня отпустила только на часок.
Карцев осторожно обнял Тоню, переплел ее пальцы со своими.
— Хорошая вы… сердечная!
На другой день он рассказал Мазурину о Тоне.
— Я знаю ее, — ответил Мазурин. — Можно будет пристроить ее у одной моей знакомой.
В семь часов вечера со стороны офицерского собрания послышались выстрелы. По улице, выскочив из дверей собрания, пробежал капитан Вернер. Он несся так быстро, что рыжая борода от ветра прижималась к груди. Выстрелы продолжались, и через несколько минут сюда примчались пожарные. Опираясь на палку, прошел полковник Максимов с полковым адъютантом Денисовым. Беглым шагом промаршировал караул с винтовками в руках. Кто-то кричал и распоряжался, и вдруг зашипели твердые как сталь струи воды, направленные в окно одной из верхних комнат здания. Прибежали солдаты. Пока был отдан приказ не выпускать нижних чинов из казарм, здесь скопилось их человек пятьдесят. В углу двора собрания, за сарайчиком, толпились возбужденные офицеры. Некоторые из них держали вынутые из кобур револьверы. Принесли носилки, положили кого-то на них и потащили в полковой лазарет. Помощник буфетчика, бледный от испуга, рассказывал окружившим его солдатам:
— Это Артемов, из третьей роты. Он прислуживал господам офицерам в передней. И вот подает шинель капитану Вернеру, а тот и говорит: «Думаешь, что здесь от меня спасешься? Я тебя завтра же в роту обратно вытребую, тогда узнаешь настоящую жизнь». И как толкнет его об стенку. Ну и пошло!.. Откуда у него, у Артемова, револьвер взялся, бог весть… может, из чьей-нибудь офицерской шинели взял… Капитан, значит, наутек, через пять ступенек, на улицу, ну чисто козел, ей-богу!.. У Артемова руки дрожали… впустую пулял.
На крышу сарайчика по лесенке взобрался поручик Жогин. Ему подали винтовку, и он, прицелившись, выстрелил в окно. Из окна раздался ответный выстрел, и Жогин кубарем скатился вниз, оставив на крыше винтовку.
— Слава богу, кажется, цел, — пробормотал он, ощупывая себя. — Ах, хам! Ах, мерзавец!
В солдатской толпе возбужденно переговаривались:
— Домучили человека!
— Разве вы капитана Вернера не знаете, братцы? Каторга с ним, а не служба.
— Жалко, что не убили… Скольких он еще замучает! Зверюга этот Вернер!
Жогин осторожно высунул голову из-за сарайчика.
— Артемов! — крикнул он. — Сдавайся, а то хуже будет!.. Выходи, приказываю!
В верхнем окне показался Артемов: багровая царапина просекала правую щеку, воротник гимнастерки был расстегнут. Он поднял револьвер, и офицеры бросились под прикрытие. Солдаты стояли недвижимо. Не прячась, стоял и караул, приставив винтовки к ногам.
— Братцы! Родные!.. — закричал Артемов. — Погубили меня, му?кой довели до смертного исступления. Себя не жалко, вас жалею, что остаетесь вы на страдания. А еще жалею, что капитана Вернера не убил.
Он вскочил на подоконник. Видно было, как тяжело подымалась его грудь.
— Одного пожарного застрелил, сам он на меня лез. А теперь вас, братцы, заставят меня брать…
— По преступнику пальба взводом… взвод — пли! — скомандовал Жогин.
Но караул не подымал винтовок. Солдаты стояли потупясь.
Артемов опустился на колени:
— Прощайте, братцы! Не хочу, чтобы вы по офицерскому приказу в меня стреляли. А живым я не дамся!
Он перекрестился, поднял к сердцу черное дуло револьвера.
Глухой крик волной прошел в солдатской толпе. Тело Артемова поползло вниз…
Полковник Максимов вышел вперед.
— Кроме караульных, всем разойтись по ротам! — распорядился он. — Господ офицеров прошу зайти в собрание! — И, прихрамывая, начал подниматься вверх по лестнице.
Об этом случае много говорили в полку. Вернер был отправлен в двухмесячную командировку. Офицеры и унтер-офицеры стали вести себя более сдержанно, меньше жучили солдат. И в ротах, по разным закоулкам, начали стихийно возникать солдатские сходки.
Карцев был очень возбужден. Ему казалось, что именно вот сейчас наступило время действовать: солдаты раздражены, готовы к смелым выступлениям, на городских фабриках бастуют рабочие. «Надо только, — думал он, — объединить все силы».
Перед вечером, в одно из воскресений, собрались на квартире у фабричного машиниста Семена Ивановича, освобожденного под расписку о невыезде. Карцев говорил, не в силах скрыть горячей досады:
— Упустили мы, товарищи, хороший момент! Караульным надо было застрелить Жогина, всем броситься по ротам, взять винтовки и патроны, овладеть городом. Рабочие наверняка пошли бы за нами!
— Всех бы угнетателей на штыки подняли! — подхватил Черницкий. — Только бы кишки летели по воздуху.
— Потом связались бы с другими городами, — продолжал Карцев. — Могло бы развиться…
Семен Иванович вопросительно взглянул на Мазурина.
— Вы все это очень хорошо расписываете, — спокойно сказал Мазурин. — Возможно, что караульные и стреляли бы в офицеров, но вряд ли удалось бы поднять весь полк. Люди не подготовлены к выступлению, есть среди них и чуждые нам элементы. Нет, полк не выступил бы… Такие дела подготавливаются долго, исподволь, в широком масштабе. Должен быть, товарищи, прежде всего руководящий центр, должны быть привлечены массы народа. А здесь всех нас похватали бы, как кур… Но что нам теперь надо делать? — Он обвел глазами собравшихся; все с вниманием слушали его. — Первым долгом — вести беседы с солдатами, разъяснять им смысл того, что произошло, рассказывать, как тяжело угнетен наш народ и что единственный выход — взять власть в свои руки…
На фабрике провыла сирена. И один за другим тревожные гудки разорвали воздух.
— Наши бросают работу, — негромко сказал Семен Иванович, — вот и хорошо…
Карцев узнал от Мазурина, что на троицу предполагается массовка за городом, где должны встретиться солдаты и рабочие. Мазурин предложил пригласить тех, кому Карцев более всего доверяет. И он в эти дни все глубже и глубже заглядывал в души своих товарищей. Завел беседу и с Шарковым — молчаливым, нелюдимым солдатом.
Шахтер из Горловки, Шарков ходил согнувшись, как привык двигаться в низких штреках. Его трудно было расшевелить, он не любил разговоров, но Карцев все же растормошил его.
— Ты меня уму-разуму не учи, — оборвал Шарков. — Мы, шахтеры, народ меченый. Виду у нас, может, никакого нет, а на дело мы злые, знаем, почем фунт лиха. Вот так и запомни: злые на дело!
Повидал Карцев и Орлинского. Сиреневые глаза Орлинского смотрели мрачно, весь он казался подавленным и плохо отзывался о солдатах своей роты.
— Не с кем разговаривать, — жаловался он. — Ужасно неразвитые люди. Если попробуешь вызвать на откровенность, уставятся на тебя, как буйволы, и скорее спать. Разве с такими можно что-нибудь сделать?
Но Карцев не поверил ему. Неужели в третьей роте, где так ненавидели Вернера, не набралось бы хоть несколько человек, с которыми стоило бы хорошенько побеседовать?
Как-то после вечерних занятий Карцеву удалось добыть увольнительную записку. Во дворе он встретился с Мазуриным, и они вместе пошли в город. Перейдя мост, свернули в узкий переулок, застроенный одноэтажными домиками. Над переулком, весело шумя крыльями, кружила стая белых голубей. Они летели стремительно, красиво, видимо упоенные воздухом, небом, быстротой и радостью полета. На крыше ветхого домика стоял пожилой человек. Задрав голову, он размахивал шестом с привязанной к нему белой тряпкой. Мазурин остановился.
— Хорошо! — улыбаясь, сказал он. — Я мальчишкой любил гонять голубей… и сейчас бы погонял.
Они свернули за угол и вошли в ворота домика, ничем особенным не отличавшегося от других. Обитые ветхим полотном двери были открыты. В углу кухни примостилась старуха в коричневом платке и стирала. Голубая мыльная вода капала из корыта.
— Здравствуй, мать, — обратился к ней Мазурин. — Семен Иванович дома?
Она молча показала головой на соседнюю комнату, окном выходящую в садик. Там, за столом, сидели Семен Иванович в очках, вскинутых на лоб, и красивая молодая девушка в темном платье. Она курила. Выражение ясного спокойствия было во всех ее движениях.
— Добрый вечер, Семен Иванович, — сказал, входя, Мазурин. — Как дела? Привет, Соня, давно тебя не видел.
Она кивнула, улыбнулась. Семен Иванович скользнул взглядом по Карцеву и что-то вполголоса сообщил Мазурину. Последние слова произнес громко:
— Нет, Сергей (Карцев знал, что Мазурина зовут Алексеем), литература еще на вокзале, завтра получим.
Соня потушила папиросу, ткнула ее в пепельницу.
— Я получу багаж сегодня, — заявила она. — Нельзя оставлять до завтра.
Живые глаза Семена Ивановича пристально глядели на Соню. Она залпом выпила стакан холодного чая и поднялась.
— Через час вернусь.
— Погоди, — остановил ее Мазурин, — уже смеркается. Пока получишь багаж, совсем темно будет. Карцев обождет тебя в переулке возле вокзала. Дай ему какую-нибудь куртку, Семен Иванович, и шапку. Вдвоем им сподручнее…
Семену Ивановичу понравилось предложение Мазурина. Он достал из шкафа длинную куртку, картуз и передал Карцеву.
— Не выходи на свет, — учил Мазурин, — вперед смотри, чтобы не наткнуться на офицера. Если с Соней что-либо случится, не горячись, не лезь на помощь. Сам пропадешь, а ее все равно не выручишь. Возвращайся сюда, будем тебя ждать. Запомнил адрес? Стукнешь в дверь три раза.
Они вышли. Соня задержалась у ворот.
— Я пойду вперед, — предложила она. — Вы держитесь шагах в пятнадцати позади. В вокзал не входите ни в коем случае!
Она ступала по тротуару неторопливо, ни разу не обернулась. И, только входя в помещение вокзала, рассеянно повернула голову, вобрав одним взглядом фигуру в куртке и картузике, оставшуюся по ту сторону вокзальной площади.
Карцев стоял, скрытый выступом стены. Сзади был заваленный мусором пустырь. Через этот пустырь, в случае чего, можно уйти. Простоял так он долго, и в ту минуту, когда он подумал, что с Соней неблагополучно, она появилась в освещенном подъезде с небольшим чемоданом в руке. Вслед за нею вышел станционный жандарм — огромная туша в голубом мундире, с шашкой и револьвером в кобуре. Соня что-то спросила у него, он ответил ей, и она медленно спустилась по ступенькам на площадь. Жандарм ушел в вокзал.
Не ускоряя хода, она недалеко от Карцева завернула за угол. В это время человек, лениво вышедший из ворот, перешел на другую сторону, зашагал в одном направлении с Соней. Карцев мучительно решал два вопроса: следит ли шпик за Соней и знает ли она об этом? Соня раза два останавливалась, перекладывала чемодан из руки в руку, а дойдя до следующего угла, направилась совсем в другую от дома Семена Ивановича сторону.
«Значит, заметила», — понял Карцев.
А шпик продолжал идти по стопам Сони. Теперь он держался осторожнее, заходил в ворота, увеличивал расстояние между собой и выслеживаемой.
«Его надо задержать, — подумал Карцев. — Но как это сделать?»
Он пошел, пьяно качаясь, напевая песенку, и, нагнав шпика, засмеялся, расставив руки.
— Коля! — пробормотал он. — Милый друг! Пойдем выпьем.
— Отвяжись! — рассердился шпик, мельком взглянув на Карцева. — Ты вот у меня выпьешь.
— Н-ну, и пойду, и выпью, — бессмысленно смеясь, говорил Карцев и, покачнувшись, упал к ногам шпика, схватил его за колени.
— Ах, сволочь! — шпик толкнул ногою Карцева.
Вскочив, Карцев что было силы ударил его в солнечное сплетение (этому приему его научили в одесском порту). Взглянув на черную, без крика свалившуюся фигуру, Карцев побежал.
Соня была уже дома.
— Вы видели, что за вами следили? — спросил Карцев.
— Конечно. Надеялась, что вы его запутаете. Спасибо.
Он рассказал, как все было.
— А если бы попался? — спросил Семен Иванович. — Где можно без риска, нельзя подвергать себя опасности.
— Другого выхода не было. Ей с чемоданом не уйти бы от него.
— Хвалю, — строго проговорил Семен Иванович, и теплые лучики появились в его глазах. — Смотри только, не зарывайся.
Карцев быстро переоделся, и они с Мазуриным пошли в казарму.
Наружная дверь казармы чуть приоткрылась. Старый крестьянин в лаптях, с мешком за плечами, боком протиснулся в нее, проворно скинул шапку и низко поклонился дневальному.
— Куда лезешь? — сердито закричал тот. — Сюда нельзя!
— Сынок… господин рядовой! — торопливо заговорил крестьянин, прижимая к груди шапку. — Мы по, родному делу. Сын у меня тут. Василий Рогожин. Мы сами служили при его величестве Ляксандре. Пусти, господин рядовой. Беда у нас в деревне… С бедой приехали мы…
— Нельзя в казарму, сказано тебе! — шумел дневальный. — К нам вольные не ходят.
И в это время в сенцы вышел Рогожин.
— Вася? Сыночек! — бросился к нему старик, обнял и расцеловал его. — Поклон тебе низкий от родной матери, от брата Алексея, от сестры Матрены… С бедой я к тебе, сынок… — Он всхлипнул, шапкой вытирая слезы.
Они отошли к окну.
— Усадить вас, батя, негде, — смущенно сказал Рогожин. — Уж извините… Какая же беда стряслась?
Старик не успел ответить. На пороге сенцев выросла фигура старшего унтер-офицера Колесникова.
— Это еще что такое? — крикнул он.
Рогожин опустил руки по швам:
— Отец это мой, господин взводный! Дозвольте с ним поговорить? С горем приехал…
— Иди, иди вон, лапотник! — точно не слыша Рогожина, приказал Колесников.
Крестьянин, покорно кланяясь, пошел к двери.
Кровь прилила к лицу Рогожина, но он овладел собою и робко попросил разрешения выйти из казармы, чтобы там побеседовать с отцом.
— По команде надо, — грубо ответил Колесников. — Службы не знаешь. Доложишь отделенному командиру. Пускай разрешит обратиться ко мне.
И он величественно проследовал в казарму.
После долгих и унизительных просьб Рогожин добился разрешения обратиться к ротному командиру. Васильев удивленно посмотрел на солдата: нижние чины не часто обращались к нему.
— Ваше высокоблагородие, — начал Рогожин, вытянувшись и подобрав живот, — помогите, Христа ради. Отец приехал. Пропадает семья… Погорели мы, ваше высокоблагородие, а лесу нет, денег нет, строиться нечем. Может, написали бы, чтобы подмогли отцу, отсрочку бы на подать дали… А то чем же платить?
Он рукой смахнул слезу.
— Отец говорит, — почти неслышно продолжал Рогожин, — иди, мол, к командиру, ты, дескать, царю служишь, вот и проси помощи, больше не у кого…
И, подняв на Васильева красные от слез глаза, закончил:
— Допустите отца, покорнейше вас прошу, ваше высокоблагородие. Просить хочет вас о помощи.
Капитан смущенно дергал себя за усики.
— Вот что, голубчик, — сказал он, вздыхая. — Я, конечно, всей душой сочувствую твоему горю и рад бы, конечно, помочь, но… что я могу сделать? Средств у нас никаких на оказание помощи нет, написать, голубчик, я никому не могу, — скажут еще, что вмешиваюсь не в свое дело. Ну, посуди сам, братец, чем я могу тебе помочь? Он торопливо достал из кармана трехрублевку, подумав, добавил еще рубль и сунул деньги Рогожину, не глядя на него.
— Вот передай отцу, — сказал он. — А говорить мне с ним незачем.
— Покорнейше благодарю, ваше высокоблагородие, — глухо ответил Рогожин.
Денисов докладывал командиру полка Максимову очередные дела. Командир читал бумаги, делал замечания, подписывал документы. На одной бумаге он задержался.
Денисов бегло заглянул в нее.
— Рапорт командира одиннадцатой роты, — доложил он. — Сообщается, что рядовой Грибовский, назначенный в денщики к подпоручику Зайцеву, просит не назначать его на эту должность, оставить в роте.
— Почему? Что за вольности? — раздраженно спросил Максимов. — Как смеет нижний чин отказываться от чести услуживать своему офицеру? Привести сюда этого Грибовского! Немедленно!
И пока Максимов просматривал другие бумаги, Грибовский, доставленный ординарцем, уже дожидался в передней штаба. Из кабинета вышел Денисов, внимательно оглядел солдата, приказал получше заправить гимнастерку и повел его к командиру полка. Максимов сидел в своем массивном, с высокой спинкой кресле, как на троне.
— Ах, вот ты какой? — грозно протянул он, осматривая Грибовского с ног до головы, будто вид рядового объяснял, почему тот не хочет идти в денщики. Затем шумно отодвинулся вместе с креслом от стола, встал и, налезая грузным, большим телом на солдата, как медведь на рассердившую его собачонку, закричал:
— Ну-ка, ну-ка, скажи, голубчик, отчего ты такой гордый, что не желаешь услужить своему офицеру?
— Не могу знать, ваше высокоблагородие!
Максимов, заложив руки в карманы, обошел Грибовского кругом.
— Чем это от тебя так несет? — с отвращением спросил он.
— Чистил сегодня уборные, ваше высокоблагородие!
— Так почему же ты, дурак, не хочешь идти в денщики? Там же чистая работа?
— Не соответствую услужению. Разрешите остаться в роте, ваше высокоблагородие.
Максимов увидел твердые, решительные глаза солдата, не опустившиеся перед его взглядом.
— Уберите его к чертовой матери! — крикнул он.
И когда Грибовский, быстро и легко сделав поворот кругом через левое плечо, вышел из кабинета, командир угрюмо сказал Денисову:
— Не разберешь их, сволочей, какие там у них мысли в голове. Передайте в роту, чтобы взяли его под наблюдение!.. А сейчас я продиктую вам одну важную бумагу… Нечего вмешивать сюда писаря…
Про речку Гуслянку в городе шутя говорили, что она семь лет течет и семь лет стоит на месте. Речка и в самом деле была мелкая, загрязненная отходами фабрик: по деревянным четырехугольным, трубам в нее стекала из промывочных цехов бурая, вонючая жидкость, и радужные нефтяные пятна покрывали воду. Вот сюда-то по воскресеньям и ходили гулять солдаты: в роще за рекой они встречались с фабричными рабочими.
Полиция знала об этом и после недавних волнений на фабриках следила за тем, чтобы таких встреч не происходило. Но солдаты все же продолжали ходить в рощу, минуя полицейские посты. Перейдя речку вброд, они вскоре попадали на овражистую поляну, прозванную «Белой ямой», где когда-то добывали известняк. Образовавшиеся овраги и ямы, густо поросшие высокой травой, кустарником, частым ельником и молодыми березками, служили надежным убежищем для сходок. В прошлом году в одной яме нашли убитого городового, и с тех пор полиция не особенно охотно заглядывала сюда. Здесь-то на ближайшее воскресенье и была назначена большая солдатско-рабочая сходка. Полк уходил в лагеря под Рязань, и массовка поэтому приобретала как бы характер прощания.
День выдался ясный, весенний. Молодые листья на деревьях и кустах свежо зеленели, и даже хвоя на елочках окрасилась в матово-голубоватый цвет. Со всех сторон к Белой яме шли маленькими группами рабочие и работницы и отдельно от них — солдаты. В нескольких местах заливисто играли гармони, слышался веселый смех: все делалось так, чтобы воскресное гулянье не вызывало никаких подозрений у полиции.
В роще Карцев увидел Мазурина рядом с белокурой девушкой. Это была Катя, фабричная работница, с которой Мазурин познакомил его еще в прошлом году. И едва Карцев вспомнил, что и Тоня обещала прийти, как заметил ее на тропинке. Тоня шла в синем платье с белым кружевным воротничком и показалась ему сегодня особенно красивой. Он с такой радостью бросился к ней навстречу, что она от смущения покраснела. Они поздоровались и пошли вместе.
— Как хорошо!.. Народу-то-сколько! — весело заметила Тоня.
— Нынче здесь вроде народного гулянья, — ответил Карцев, не отрывая от девушки глаз. — Да, кстати, твое дело как будто устроено. Нашли, где тебе жить, и работа будет. Когда решишь уходить от Максимова — скажи.
— Эй, Карцев! — послышался знакомый голос, и к ним подбежал Петров. — Удрал без увольнительной, — с задором сказал он. — Ну, побегу искать наших…
И он пошел, с любопытством поглядывая вокруг. Все казалось ему необычным: идут, идут рабочие, солдаты, девушки, все веселы, улыбаются, поют песни, слышна музыка, и сама природа будто принимает участие в празднике.
В дальнем от реки конце Белой ямы было больше всего людей. Под деревьями и кустами зеленели гимнастерки солдат, чернели рабочие пиджаки и куртки.
— Пройдем дальше, — предложил Карцев.
За небольшим холмиком начинался лес. Высокие сосны стояли, как бронзовые колонны, и солнце веселыми зайчиками падало на мягкую лесную траву. Рыжая белка метнулась вверх по сосне и, сев на ветке, сердито заверещала.
— Господи, славно-то как! — проговорила Тоня и взяла Карцева за руку.
Они шли молча, и было им легко, точно весна подхватила их и несла куда-то вперед.
— А я ведь и в лесу почти не бывала, — заговорила Тоня. — С малых лет только и знала, что возиться с утра до ночи. Отец в Рязани дворником у купца работал. Ютилось нас пятеро в комнатушке, как птицы в клетке… Мать стирать к господам ходила, на мне все хозяйство лежало. Был, помню, у купца сад — ну прямо рай, да нас в этот рай не пускали. Соловьи там пели — заслушаешься. А вырвалась из дома, тоже не слаще стало. Хуже собаки я жила, Митя. У той хоть своя конура, а у меня и угла-то не было…
— Что вспоминать, Тонюшка! — ласково сказал Карцев. — И я вроде тебя мучился, да и тысячам других не лучше жилось… Вот отслужу — вместе будем, хочешь? — спросил он.
Она молча взяла его за руку.
Со стороны поляны послышалось кукование, повторилось девять раз.
— Вот и оповестили, — сказал Карцев. — Пошли, Тонюшка.
Она крепче стиснула его руку.
— А как хочется, Митя, по-другому жить, по-человечески.
— Будем, будем по-другому жить! — Голос Карцева звучал твердо. — За это и боремся.
Они, быстро и легко шагая, направились к Белой яме.
Какой-то незнакомый старший унтер-офицер прохаживался рядом с Черницким. Семен Иванович стоял под березой, окруженный солдатами. На холмике, укрывшись в кустах, лежал человек с биноклем и наблюдал за дорогой, ведущей в город.
— Вот тогда-то и сделалось страшно. Неужели, думаю, будут в нас стрелять? Не могу смотреть на лица солдат. Вижу, тяжело им, но чувствую, что не ослушаются начальства…
Это говорила пожилая работница, мимо которой шли Карцев и Тоня. Около этой женщины сидели на траве два солдата. Она, теребя бахрому головного платка, продолжала:
— А тут вы, не похожие на тех. Простые такие, свои… Что же это такое получается?..
— Я — девятьсот седьмого года службы, — рассказывал небольшого роста человек с бледным лицом и зелеными, как бутылочное стекло, глазами. — При нас их и увольняли в запас. Все они девятьсот четвертого года призыва, в пятом году служили, почти во всех ротах завели подпольные кружки.
— Вот и Соня! — обрадовался Карцев. — Подойдем к ней!
Соня была в черном платье, в сиреневой косынке. Она о чем-то жарко спорила с солдатом. Тоне хотелось побыть еще хотя бы немного с Карцевым, но она понимала, что сейчас надо быть вместе со всеми.
— Это по-вашему, а по-нашему, по-солдатски, не так, — убеждал Соню солдат. — Вы вот в нашей шкуре побудьте да нашего житья попробуйте, тогда и сравнивайте.
— А почему бы не сравнивать? — возразила Соня и приветливо улыбнулась Тоне и Карцеву. — Вы вот откуда пришли в казарму?
— Известно откуда. Плотники мы, зарайские.
— А когда отслужите, куда пойдете?
— Все туда же, плотничать. От своего Дела не уйдем. Не баре мы, не помещики.
— Ну вот: до службы работали, после службы опять. Значит, тридцать или сорок лет плотничать, а только три года, и то поневоле, быть в солдатчине. Чего же в вас больше — рабочего или солдатского?
— Эт-то будто и так. А только в солдате то отличие, что подневольный он. В этом и беда наша…
— Товарищи! — раздался голос Мазурина. — Наша сходка созвана большевиками. Мы хотим, чтобы рабочие и солдаты, родные братья по кровным своим интересам, могли бы по душам поговорить друг с другом, поделиться своими думами, потолковать о том, как бы им общими силами добиться своего права на свободную жизнь.
Его слушали в глубокой тишине — дальние придвигались ближе, солдаты и рабочие перемешались между собой. Тоня и Карцев вплотную подошли к Мазурину.
— Но сами знаете, товарищи, — продолжал он, — как тяжело живется народу, какую нужду испытывает он, как угнетают его царь, помещики, капиталисты. И никто не поможет нам, если мы сами — весь трудовой народ — рабочие и крестьяне, — не возьмем дело освобождения в свои руки.
Двое людей появились из-за деревьев. Один спокойно предупредил:
— Полиция, конная и пешая.
— Идите в лес, а потом тропинками — во все стороны, — распорядился Семен Иванович. — Не в первый раз от них уходить.
Карцев и Тоня, взявшись за руки, побежали к лесу.
Гуслянка, как синий извилистый шрам, пересекала поле. Красные фабричные корпуса угрюмо стояли за речкой. В полуверсте справа тряслись на лошадях стражники. Растянутой цепью двигались к лесу полицейские.
Большое багровое солнце низко стояло за деревьями, и зелень их светилась словно в зареве далекого пожара.
Через два дня Черницкий подозвал Карцева:
— Иди за ворота. В садике ждет Тоня.
Карцев поспешил туда. Тоня сидела, скрытая кустами сирени.
— Ну как здоровье, Тонечка?
Она встала. Руки их переплелись.
— Спасибо, милый. Я на минутку…
В голосе ее звучала тревога.
— Барину привезли срочный пакет. Сам Денисов привез. Они совещались, а я у двери подслушала. Барин велел, чтоб сегодня же был готов приказ выступать, а солдатам распорядился выдать новые гимнастерки. Что это может быть, Митя?
— Не знаю… Во всяком случае, спасибо, что предупредила… — «Неужели опять на усмирение?» — взволнованно подумал Карцев. — Ты только об этом никому, слышишь?
Они разошлись.
В казарме пили чай. На столах высились огромные медные чайники. Черный хлеб был нарезан толстыми ломтями. Павлов и Загибин чаевничали вместе с Машковым, уплетая ситный и колбасу.
Карцев посмотрел на красное, вспотевшее лицо Машкова. «Отпустит на полчаса? Наверняка нет. Ну, тогда надо обойтись без разрешения». Он неторопливо прошел в прихожую и оттуда — во двор. Мазурина он застал у себя в роте. Подложив под медные пуговицы деревянные дощечки с прорезанной щелью, тот чистил пуговицы мазью и тряпочкой. Это полезное занятие позволяло ему разговаривать с несколькими солдатами, сидевшими вокруг него и занимавшимися тем же делом. Карцев, не подавая виду, что пришел именно к нему, стал в тени навеса и ждал минут пять, пока не появился Мазурин. Осмотревшись, нет ли поблизости чужих ушей, он рассказал Мазурину о том, что сообщила Тоня.
…Два дня прошли очень напряженно. Мазурин пытался выведать что-либо через полковую канцелярию, где работал писарем Пронин — свой человек, но так ничего толком и не узнал.
— Что-то есть, — говорил Пронин, — но делается все в большой тайне. Поход — это точно, но куда, когда, с какой задачей — еще не пронюхал.
Однако слухов о предстоящем походе нельзя было скрыть. В ротные цейхгаузы прислали новое обмундирование и сапоги. Каптенармусу кое-что удалось выведать у военного чиновника — интенданта на вещевом складе, и он под страшным секретом поделился новостями с унтер-офицерами Колесниковым и Машковым. Те ходили с заговорщицким видом, значительно переглядывались, и это еще больше всех волновало. Солдаты собирались в укромных уголках, думали-гадали, куда же их могут отправить. Говорили, что в Питере вспыхнула крупная забастовка и будто их гонят туда, на усмирение. Другие сообщали о крестьянских волнениях и даже называли место, где они происходят, — Скопинский уезд Рязанской губернии. Вот куда, должно быть, придется выступать!
В эти же дни на квартире у Семена Ивановича собрались Мазурин, Карцев, ефрейтор Балагин — уральский рабочий, писарь Пронин и — совершенно неожиданно для Карцева — поручик Казаков, рыжеватый, сухощавый человек с внимательным взглядом карих глаз. Был еще молодой рабочий, ничем как будто не примечательный.
И все время, Пока шла беседа, Карцев не мог избавиться от чувства неловкости: ему все казалось, что офицера надо остерегаться. Что поделаешь, солдатская привычка!
Много курили. Казаков, облокотившись на рукоятку шашки, рассказывал:
— Младшие офицеры тоже ничего не знают. Объявили, что полк выступит и поход будет продолжаться три-четыре дня. Все остальное неизвестно.
— А ты что предполагаешь? — спросил Семен Иванович.
— Трудно сказать… Может быть, учение в составе других частей дивизии, боевая поверка…
— А если в Иваново пошлют? — задал вопрос молодой рабочий.
— В Иванове все спокойно, Саша, — ответил Семен Иванович.
— Сегодня спокойно, а завтра буря. Две фабрики тем волнуются, вот и хотят на всякий случай…
Вошла Соня, тихо села, слушала, курила.
— Будут солдаты в народ стрелять? — вдруг спросила она у Мазурина.
Мазурин нахмурился и ничего не ответил.
— Будут! — проговорил Казаков. — В полку — сырая масса с очень маленькой революционной прослойкой.
— Сегодня ночью получим сотню листовок, — объявил Мазурин. — Кроме того, поведем беседы с солдатами. Глядишь, сырые и подрумянятся…
Совещание закончилось поздним вечером. Разошлись поодиночке.
Из казарм под разными предлогами просилось в город столько солдат, что встревоженное начальство отпускало только по два-три человека из роты, и то на самые короткие сроки. Тогда стали уходить самовольно, не боясь наказаний.
За городом, на расстоянии не больше версты, беспорядочным скопищем почерневших, плохих строений лежала деревня Шуткино, жители которой почти поголовно работали на фабрике — мужчины, женщины и дети. В Шуткино нередко хаживали солдаты. И в это воскресенье пришло их сюда человек тридцать, и все разбрелись по избам. О предстоящем выступлении полка в деревне уже было известно, и событие это вызывало разные толки.
Наибольшее оживление царило в избе Никиты Курпатова — пожилого рабочего с таким высоким лбом, что казалось, на все остальное — глаза, нос, рот и подбородок — осталось слишком мало места. Здесь собрались шесть солдат и несколько соседей, среди которых был и молодой рабочий Саша.
— Ничего мы не знаем, — раздраженно говорил узкоплечий солдат с острым, как редька, подбородком. — Разве нас спрашивают? Идем в потемках, пока лба не расшибем.
— Против нас идете-то, — горько произнес сосед Курпатова, уже лет пятнадцать работавший на фабрике. — С ружьями идете!
— А если служба? — истерически закричал узкоплечий. — Чего упрекаешь? Будешь на моем месте, и я тебя испугаюсь — застрелишь… Не застрелишь? Врешь, брат, прикажут, как миленький пульнешь… Своя-то небось жизнь дороже…
Шумели и спорили все, перебивая друг друга. Жена Курпатова, черноволосая, еще не старая женщина с отекшим лицом и большим животом, говорила, не переставая вязать и кивая головой:
— Несчастненькие вы, солдаты. Горе-гореваньице ваша жизнь!
— Неволю избыть надо, — прозвучал уверенный голос Саши. — Плакаться — делу не поможет. Тут требуется всему народу быть заодно. И драться еще крепче, чем в пятом году.
— Пятый год у нас из головы никогда не выйдет, — заметил пожилой рабочий с тугой темной бородкой, до сих пор незаметно сидевший в углу и дымивший махоркой. — Фабрика тогда стала. Выбрали мы свой рабочий Совет, и солдаты против нас не шли. Посылали мы к ним в казармы депутацию, и они тоже по Московской улице вместе с нами под красными флагами ходили. И песни заодно пели. Вот какой был девятьсот пятый год-то! Как заря светил… И судили нас — рабочих и солдат — за одно дело. Из полка троих расстреляли, многих в арестантские роты загнали. А сколько по Владимирке пошло — и не сочтешь!
— Деток с тринадцати годков на фабрику отдаем, — жаловалась хозяйка, мелькая спицами. — По двенадцати часов кряду работают… за семнадцать копеек!
— Уж я и не знаю, — застенчиво оглядывая людей и избу, сказал Рогожин. — Уж я и не знаю, — повторил он, — как это получается: солдат идет к вольным людям, хочет от своей постылой жизни отдохнуть, а у них не слаще нашего!.. Какой же выход, какой путь? И кто это объяснить может?
Солдаты хорошо знали, что представляют собою казармы-общежития, где ютился фабричный люд. Их построили вблизи фабрики, как раз за тем изгибом реки, где в бухточке, у берегов, застаивалась вонючая, черная вода, зараженная отходами из цехов. Длинное и низкое деревянное здание тянулось подковой. Двор был залит помоями, завален отбросами. Узкие, маленькие оконца почти не пропускали света. Воздух в казармах — душный, застоявшийся. Огромное, не до потолка перегороженное помещение до отказа было набито сундуками, шкафчиками, койками. Детские пеленки и белье сушились здесь же на веревках. Считалось, что левая, перегороженная часть подковы принадлежит женатым, а на самом деле и холостые и женатые жили вперемежку. Клопы, блохи и тараканы водились в таком изобилии, что бороться с ними было невозможно. К тому же нужда так давила людей, они работали так много и так тяжело, что некогда было и думать о чистоте и удобствах. Некоторые женщины, пытавшиеся наводить порядок в казарме, в конце концов опускали руки. Работали отцы, матери, старшие дети, а семилетние оставались присматривать за самыми маленькими. А те ползали по грязному полу, играли отбросами. На одной койке, на трех квадратных аршинах ютилась целая семья…
Солдатам было строго-настрого запрещено ходить в рабочие казармы. Шпики так и вились вокруг. Но все же иногда удавалось незаметно пробираться к рабочим. Пришли сюда солдаты и накануне выступления полка в неизвестный поход. Карцев и Петров подсели к пожилому, с шапкой седеющих волос, рабочему: Карцев — прямо на койку, а Петров, поглядев на сбитое, грязное, сшитое из лоскутков одеяло, примостился на табуретке. Рабочий улыбнулся.
— Живем вроде свиней, господин вольноопределяющийся, — сказал он и стал разговаривать с Карцевым.
А Петров смотрел на рабочего, на его страшное жилище и думал, что нельзя, нельзя жить в таких скотских условиях, надо во что бы то ни стало менять такую жизнь!
Он поделился своими мыслями с Карцевым, когда они вышли из казармы.
— Ты видишь только эту грязь, — ответил Карцев, — и тебе кажется, что только с ней и нужно вести борьбу. Но главное не в этом! Главное в том, что рабочий вынужден при теперешнем строе так жить. Он ненавидит этот строй и объединяется со своими товарищами, чтобы уничтожить его, добиться лучшей жизни. Ты вот побрезговал сесть к нему на койку, это я так, к слову сказал, а знаешь ли ты, что этот самый Ханаев на баррикадах дрался, в трех забастовках участвовал, книги запоем читает и всегда за себя и своих товарищей не боится постоять!
Петров не во всем был согласен с Карцевым. Он считал себя революционным интеллигентом и снисходительно относился к некоторым высказываниям Карцева, который, по его убеждению, не мог быть так развит и культурен, как он, Петров. Но Карцев, хотя любил и ценил вольноопределяющегося, вступать в спор с ним считал бесполезным. «Жизнь научит», — думал он.
Вечером роту выстроили. Проверили людей по списку, пропели молитву, но команды расходиться не давали. Взводные беспокойно косились на дверь ротной канцелярии. Оттуда вышли зауряд-прапорщик Смирнов и капитан Васильев. После поверки капитан никогда не появлялся в роте, и двести солдатских глаз смотрели поэтому на командира с тревогой и нетерпеливым ожиданием. А он, подергивая свои соломенные усики, остановился перед фронтом и сказал:
— Ребята! Завтра часть нашего полка выступает под общим командованием старшего помощника командира полка полковника Архангельского. Из нашей роты пойдет сорок человек. Егор Иванович, огласите список.
Смирнов рысцою подбежал к капитану и начал читать список. Вызвали Загибина, Павлова, Сергеева, Самохина, Рогожина, унтер-офицеров Колесникова, Машкова… Не вызвали ни одного «инородца» (как именовали официально солдат нерусского происхождения). Ни одного из бывших рабочих, ни одного из тех, кто был у начальства на плохом счету. Последним в списке оказался Карцев. Зауряд-прапорщик прочел его фамилию, вскинул на лоб очки, опять прочел и, наклонившись к уху капитана, с недоумением прошептал:
— Как же так, господин капитан? Карцев числится у нас «порочным»! (Так в секретных документах назывались политически неблагонадежные солдаты.)
И шепотом же Васильев ответил ему:
— Что делать, Егор Иванович! Где набрать в роте сорок солдат без пятнышка? А он строевик прекрасный, и фигура у него молодецкая. Пускай едет.
Он приказал назначенным в поход быть готовыми к шести утра и ушел.
Рота напоминала развороченный муравейник. Никто не спал, волнение, страх и любопытство охватили солдат. Куда отправляют сорок их товарищей? Почему не объявили, что за поход? Загибин, побывавший у зауряд-прапорщика, торжествующе улыбался с видом осведомленного человека. Но его так не любили в роте, что даже самые любопытные и те не хотели ничего у него спрашивать.
— Мозги морочат, — убежденно говорил Черницкий. — От начальства ничего хорошего не жди. Почему лишних три месяца держали одиннадцатый год? Почему не говорят, куда посылают наших товарищей? Хорошие дела не прячут… Здесь опять пахнет усмирением.
— Ох, землячки, плохо, плохо подневольным быть, — сокрушался Рогожин. — Ох и скверно же!
— А чем тебе, друг, скверно? — миролюбиво спросил Колымов, солдат второго взвода. Он был круглолиц, упитан, узкая полоска лба незаметно проходила у него между шерстяной дужкой волос и тонкими мазками бровей. — Чем тебе плохо? — повторил он. — Хлеба три фунта в день, сахару два куска, да щи мясные, каша масляная, чай пьешь, обут, одет, богу молишься… Чем же плохо? Ну, чем? Чем?
Солдаты неприязненно посмотрели на Колымова. В роте его звали боровом: пожрать бы да поспать — больше ему ничего не надо. И вдруг Самохин, до сих пор сидевший смирно, завыл, залязгал зубами и, крестясь, полез под койку. Когда его хотели оттуда вытащить, он заплакал и стал умолять:
— Братцы, не надо. Ради Христа, миленькие, не трожьте…
И неожиданно заревел:
— Смирно, мать вашу… Не видите, кто с вами говорит?
И сейчас же затих, вылез и, щерясь, как забитый пес, смотрел вокруг. Все поняли: у Самохина припадок.
Несмотря на позднее время, приходили солдаты из других рот. В полку шло смутное брожение, всем было не до сна. Смирнов не выходил из своей квартиры и приказал дежурному и взводным не очень «налегать» на солдат. Он помнил, как бунтовали в Маньчжурии задержанные после японской войны полки, как при нем с красными флагами шли солдаты, братаясь повсюду с рабочими, как по нескольку дней не смели появляться в ротах офицеры и как, наконец, совсем недавно стрелял в капитана Вернера солдат Артемов.
И сейчас, в неурочное, позднее время, слыша шум в казарме, ворочаясь в постели возле пухлой жены, Смирнов испытывал смутную тревогу. Как хорошо ни знал он солдат, как ни ломал их, ни гнул, но до конца не понимал их и потому, что не понимал, — боялся, зная, что они его ненавидят. «Самая старая шкура в полку» — прозвали его. А разве он виноват, что иначе нельзя? Разве хоть один день держали бы его на военной службе, если бы он не был суров с нижними чинами и они не трепетали бы перед ним?
Отряд полка — шестьсот человек — выстроился на дворе казармы. Полковник Архангельский, высокий старик с подстриженной бородкой и в золотых очках, похожий на профессора, обошел фронт, поздоровался — ему ответили тихо, нестройно, — и отряд двинулся к вокзалу. Офицеры приказали петь песни, но солдаты запели вяло, неохотно. Архангельский вспылил:
— Отставить! Что это такое? Бабы идут или солдаты? Господа офицеры, подтяните ваших людей!
Начался подсчет ноги — раз, два, левой… Сотни сапог гулко били о землю, и взводные глядели — крепко ли, во весь ли след ставится солдатская нога, и ругали тех, кто плохо маршировал.
Эшелон был уже подан: товарные вагоны — для солдат, вагон второго класса — для офицеров. В товарных клетушках было так тесно, что не хватало места сидеть. Солдаты ругались, ворчали. Но вот паровоз прогудел, и состав медленно пополз вперед.
Поезд шел сквозь лес, в свежем аромате цветов, травы, молодой хвои, среди расцветающей зелени. На станциях солдаты бегали за кипятком. Они повеселели, шутили с молодыми крестьянками, которые в коротких ситцевых платьях, толстых шерстяных чулках и мужских, грубых ботинках с торчащими ушками ехали мимо на телегах в поле.
Карцев, поместившись на деревянной доске, служившей сиденьем, разговаривал с товарищами. Вокруг были свои. А в другом конце вагона расположились Машков, Загибин, Сергеев; они закусывали, не обращая внимания на солдат. Карцев рассказывал о волнениях в гвардейском Преображенском полку в тысяча девятьсот пятом году. Полк был недоволен полицейской службой, которую его заставляли нести. Созыв Первой государственной думы усилил волнения. Ожидали, что Дума даст крестьянам землю. Из деревни приходили к солдатам письма, в которых их упрекали, что они стреляют в народ и усмиряют революцию. Солдаты устраивали сходки, многие вступили в военную организацию при Петербургском комитете большевиков. Этот комитет поддерживал подпольные связи с преображенцами, засылал к ним агитаторов.
…Колеса ровно постукивали, и Карцев приспособился так говорить, что солдаты его слышали, а начальство не могло разобрать ни слова, даже если бы настороженно прислушивалось. Карцев радовался, видя, с каким глубоким интересом слушают его, и продолжал:
— Один из шпиков доложил начальству, что солдаты встречаются с рабочими, но офицеры тогда так боялись солдат, что не могли ничего поделать. В Гореловском лесу собралось четыре тысячи человек, почти из всех полков гарнизона. Были там и рабочие. Говорили, что всем надо выступать вместе. И вот вечером распространился слух, что на другой день преображенцам придется идти в Петергоф нести полицейскую службу. В полку начались волнения. Особенно были недовольны солдаты призыва тысяча девятьсот третьего года, которых не отпускали в запас, хотя они отслужили свой срок. Солдаты написали свои требования и предъявили их начальнику дивизии. Они настаивали, чтобы начальство по-человечески обращалось с ними, отменило наказания, оскорбительные для достоинства солдата, не посылало их усмирять народ, не вскрывало солдатские письма, улучшило пищу и разрешало посещать разные зрелища…
— Ну и молодцы! — не удержавшись, воскликнул кто-то.
Машков насторожился, неприязненно спросил:
— О чем вы там?
— Сказки рассказываем, господин взводный! — бойко ответил Рогожин.
— Кто рассказывает? Какие сказки?
— Я, господин взводный! — Рогожин знал, что Машков недолюбливал Карцева. — Об Иване-царевиче и Еруслане-богатыре!
Машков лег на нары, положил под голову скатку. Он был пьян.
Беседа продолжалась. Карцев рассказывал о восстании на «Потемкине», очевидцем которого он был.
Поезд замедлил ход. Подъезжали к довольно большой, оживленной станции. Усатый начальник в красной фуражке поздоровался с полковником Архангельским, жандармский офицер пригласил его к себе.
К товарным вагонам приставили доски, велели выходить. С винтовками и походными мешками отряд выстроился на платформе. Потом солдат отвели за палисадник. Привезли обед. Ели тут же, сидя на земле. Архангельский долго оставался у жандармского офицера, и только в начале сумерек скомандовали в ружье. Офицеры стали уводить солдат небольшими группами. Шли по обеим сторонам полотна. Затем растянулись цепью. Офицеры объяснили, что надо охранять железную дорогу, никого близко к путям не подпускать. Подозрительных задерживать, а если те будут сопротивляться — применять оружие.
Красноватые облака тихо погасали на западе. Воздух свежел. Галки шумно располагались на ночлег в близкой роще. Унтер-офицеры проверяли посты.
Стемнело. Зеленые фонари, как светлячки, замерцали на путях. Прошел крестьянин, его окликнули, изругали, и он испуганно побежал к лесу. В клочьях рваных облаков светились звезды. Где-то жалобно провыл паровоз, точно звал к себе на помощь. Солдаты стояли в одних гимнастерках, со скатками через плечо, опираясь на винтовки, шагах в двадцати друг от друга.
В полночь Самохин вдруг дико закричал. Ему показалось, что кто-то огромный, тяжело дыша, лез на него, ломая кусты. Руткевич бросился к нему с револьвером в руке. Острый луч электрического фонарика выхватил из темноты побелевшее лицо Самохина, его винтовку, направленную вперед, и в двух шагах от него — коровью морду с задумчивыми глазами.
— Трус! Дурак! — накинулся на него Руткевич.. — Коровы испугался!.. Баба, а не солдат!
Стало холодно. Солдаты спросили, нельзя ли надеть шинели. Унтер-офицер отправился за разрешением на станцию и, вернувшись, передал по цепи: стоять в скатках, шинелей не надевать.
Ночь проходила нестерпимо медленно. Глухо стучали о землю сапоги: чтобы согреться, солдаты прыгали на месте.
В лесу противно кричал филин. Пролетел пассажирский поезд, громыхая на стыках рельсов. Освещенные окна промелькнули, словно картина на экране, и красный фонарь заднего вагона быстро потонул в темноте. И снова холод, стук солдатских сапог, снова бьющий по нервам крик филина…
Начало светать. Звезды бледнели, как бы растворялись в небе. На путях показался сторож с фонарем, неприветливо поглядел на солдат, остановился возле Карцева.
— Землячок, нет ли завернуть? — тихо спросил Карцев (не услышал бы взводный!).
Сторож не торопясь поставил фонарь на землю, достал бумагу, махорку. Пока свертывали папиросы, Карцев смотрел на сухое, старое лицо сторожа, на рваный его зипун, на разбитые, в заплатах сапоги.
— Стоите? — насмешливо проговорил сторож. — Стойте, стойте, может, чего и настоите…
— А ты будто знаешь, зачем мы тут? — с досадой сказал Карцев.
Сторож внимательно взглянул на него:
— А ты, служба, не знаешь разве?
— Солдату ничего знать не положено. За нас начальство все знает.
— Так, так, — проворчал сторож. — Е г о поезд скоро пойдет. Только час неизвестен. Так-то…
— Чей «его»? — Карцев придвинулся к сторожу. — Чей поезд, отец?
— Чего притворяешься? Всю ночь стережете дорогу царскому поезду, а будто глухие и слепые…
— Царский!.. Вот оно что… — прошептал Карцев. — Ей-богу, отец, не знали!
— Да оно так спокойнее, — рассуждал сторож. — А то вдруг возьмут да и сковырнут сынка, как папашу его в Борках сковырнули… Вот так-то, солдатик!.. Ну, прощай, царев защитник. Смотри не проспи поезда-то…
Сторож поднял фонарь к лицу, открыл стекло, задул свечу.
Над лесом, над путями висело пустое, неживое небо. Вдоль полотна виднелись скорчившиеся от холода солдатские фигуры.
И внезапно вся картина преобразилась. Прибежали офицеры, поддерживая рукой шашки. Проиграл рожок.
— Смирно! Смирно! — пронеслось по путям.
— Слуша?й, на кра-ул!
Солдаты стояли вытянувшись, и винтовки, как длинные коричневые свечи с серыми огоньками штыков, были прижаты у каждого к груди. Стояли долго, измученные холодом и бессонницей, ошеломленные, ничего не понимающие. Наконец из леса вынесся поезд с двумя паровозами, прошел, волоча, как гигантская змея, кольчатое туловище. Зеркальным блеском отливали широкие окна салон-вагонов. Не останавливаясь, поезд миновал станцию. И когда он скрылся в утреннем тумане, раздалась протяжная команда:
— К но-ге!
— Вы меня замучили, капитан! — недовольно говорил Денисову командир полка Максимов. — Неужели каждый день нам пишут все эти жандармские управления — губернские, уездные и еще не знаю какие?! Что им от нас надо? Ведь мы же военное ведомство и никакого касательства к ним не имеем. Ну, скажите, чего хочет от нас, например, московское жандармское управление?
Денисов, сочувственно улыбаясь, развел руками. «Кокетничаешь, старая лиса, — подумал он, — а сам всегда рад выслужиться перед жандармами». И доложил:
— Все те же дела о порочных в политическом отношении нижних чинах, господин полковник! Жандармское управление просит переслать ему список призывников четырнадцатого года, живших в Москве и Московской губернии, и особо отметить всех инородцев и рабочих.
— Тоже придумали: «порочный нижний чин»! — проворчал Максимов. — Ну, что там еще у вас?
— Дело Корунченко, Письменного и Рациса, — быстро перечислял Денисов. — Есть еще…
— Да ну их ко всем чертям! — Максимов отодвинул бумаги. — Решайте без меня, Андрей Иваныч!.. Устанавливайте надзор за порочными солдатами и все такое прочее. Пожалуйста. Надоело!
— Теперь самое последнее, — почтительно сказал Денисов, — и больше не буду вас беспокоить. Тут у нас рапорт денщика капитана Вернера, рядового третьей роты Иванкова. Просит вернуть его в строй.
— Он уже, кажется, просил об этом?
— Так точно. Но вы предоставили тогда решение самому капитану Вернеру, а он не согласился… Доволен Иванковым.
— Так что же я могу сделать? — раздраженно спросил Максимов. — Нельзя же отзывать денщика, если офицер им доволен! А чем этому Иванкову плохо у Вернера?
Денисов немного замялся.
— Откровенно говоря, капитан жестковат и… очень требователен.
— Зато какая у него рота! — оживленно возразил Максимов. — Лучшая по выправке и маршировке! А видели, Андрей Иванович, как они прошли на последнем смотру? Прямо, знаете ли, прусская гвардия! Печатали, а не шли. Прелесть! Лучшая моя рота!
Он закрыл глаза, чтобы яснее представить себе, как шла эта самая третья рота, помахивал рукой в такт воображаемому ее маршу, шептал: «Левой, левой!» — и, удовлетворенно вздохнув, сказал:
— Вопрос ясен. Все у вас? Пойду домой. Пора обедать.
— Мария Дмитриевна, кажется, уехала? — с подчеркнутой озабоченностью спросил Денисов.
— Да, в Москву укатила. Холостяк я теперь… соломенный! Хе-хе-хе!..
— Хе-хе-хе! — в тон ему подхватил Денисов и, когда полковник протянул ему руку, согнулся в поклоне.
Максимов молодцевато шел по улице. Встречавшиеся купцы снимали шапки, низко кланялись: они были заинтересованы в поставках полку, в заготовках хозяйственным способом и только искали случая выказать полковнику свое душевное расположение. Они понимали, что если с умом кормить казенного воробья, то возле него можно и всем семейством прожить!.. Шагая, Максимов думал об обеде, о водке, настоянной на черной смородине, и о Тоне, которая должна быть сейчас одна в квартире… «Ну что же: ничто человеческое мне не чуждо», — бормотал он.
Тоня открыла ему дверь, приняла от него фуражку.
— А где Алексей? — справился он о денщике.
— Поехал за продуктами… Прикажете подавать обед?
— Сначала умыться. Кто-нибудь дома есть?
— Никого нет, барин, — ответила Тоня и пошла вперед, в ванную.
Он шел за нею, осматривал ее стройную, легкую фигуру. Потом неожиданно схватил Тоню сзади, поднял на воздух и вместе с нею повалился на диван. Она не кричала, а вся сжалась, подвела колени к груди и отчаянным усилием ног отбросила от себя Максимова. Он свалился на пол, и она побежала из комнаты.
— Стой! Двадцать пять рублей дам… — закричал ей вслед Максимов.
Хлопнула выходная дверь. Он тяжело поднялся с пола, зло взглянул в окно: Тоня перебегала улицу.
Она не знала, куда ей идти. Сильно колотилось сердце. Одинокая, беспомощная… Где приютиться?.. Она непрестанно оправляла платье и волосы, ей казалось, что вся она измята, растрепана и встречные догадываются, что с ней сейчас произошло. Ветер со свистом гнал по улице пыль. Толстая серая туча надвинулась на другую — белую — и закрыла ее. Упали первые капли, скатывая комочками пыль, и вдруг улица покрылась косой решеткой дождя. Тоня шла, не думая, что надо укрыться от непогоды. Увидела знакомого приказчика из булочной и, боясь, что он может заговорить с ней, спряталась в воротах. И тут увидела проходившего мимо высокого солдата с русыми волосами, которого не раз встречала с Карцевым.
Она окликнула его и, пока он подходил, вспоминала его фамилию. Но, так и не вспомнив, протянула ему руку и застенчиво спросила, не может ли он вызвать Карцева. Мазурин внимательно и сочувственно посмотрел на нее.
— Я вас знаю, — сказал он. — Карцев говорил мне про вас. Вы, кажется, служите у полковника Максимова? С вами что-нибудь случилось?
Голос его прозвучал так дружески, глаза так чисто, так искренне смотрели на Тоню, что она сразу ослабела. Едва сдерживая слезы, рассказала о Максимове.
— Мерзавец! — гневно проговорил Мазурин. — Пойдемте, я отведу вас к своим друзьям. Они простые люди и ласково примут вас.
Они прошли два переулка и очутились во дворе одноэтажного домика. Через узкие сени пробрались в чистую, светлую комнату.
— Катя! — обратился Мазурин к невысокой белокурой девушке, встретившей их. — Это — Тоня, друг Карцева. Она ушла, сбежала от своего изверга хозяина. Можно ей пока пожить здесь?
— Ну конечно! — Катя обняла Тоню. — Вам надо переодеться. Сухой нитки на вас нет!
И отвела ее за занавеску.
Мазурин сел за стол и стал писать бесцветной, как вода, жидкостью между строчек письма, в котором говорилось о семейных делах, передавались поклоны родным. Еще до поступления на военную службу он был участником рабочих социал-демократических кружков на Прохоровке. На Пресне он и вырос. В девятьсот пятом году подростком дрался там на баррикадах. Получив партийные явки и убедившись, как вяло и ненадежно шла в полку подпольная революционная работа, он медленно и терпеливо налаживал ее, поддерживал тесную связь с большевистской организацией в городе и за два года военной службы сделал многое. Его последним успехом было привлечение к партийной работе писаря Пронина и поручика Казакова. Мазурин ожидал литературу из Москвы, а пока что сам писал листовку, которую назвал «Царь и народ». В ней он вкратце излагал историю борьбы рабочего класса России за свое освобождение, подчеркивал значение 9-го января и Ленского расстрела, окончательно убедивших народ, что от царя, кроме пуль и тюрьмы, ждать нечего.
С Катей он познакомился, уже будучи солдатом. Она работала на фабрике. Ее старшего брата изувечили полицейские, отец, арестованный во время стачек тысяча девятьсот пятого года, погиб на каторге вблизи Минусинска, ее мать Васена укрывала политических, прятала подпольную литературу…
Мазурин был уверен, что Тоня почувствует себя в этой семье как дома.
Закончив писать, он передал конверт Кате:
— Сама опусти!
Катя молча кивнула. Она знала, что это очередное мазуринское письмо заключало в себе больше чем весточку родным…
…Несколько дней спустя Тоня устроилась на фабрике. Когда, в отсутствие Максимова, она пришла на его квартиру за своими вещами, денщик Онуфрий грустно сказал ей:
— Счастливая ты, Тоня, улетела! А мне еще год страдать…
Капитан Вернер проснулся. Он лежал голым на огромной медвежьей шкуре, покрытой простыней, и внимательно рассматривал свое большое мускулистое тело, поросшее рыжеватыми волосами. Сладко потянувшись, он позвал:
— Иванков!
Вбежал денщик — белокурый, но с узкими, монгольскими глазами и с короткими, не по росту, руками. По всей его напряженной фигуре, по застывшему лицу и прилипшим к бедрам рукам было видно, что он до ужаса боится Вернера.
— Массаж! — приказал капитан.
Иванков вышел и сейчас же вернулся без гимнастерки, с засученными рукавами рубахи, с банкой вазелина. Капитан вытянул ногу, уперся ею в живот денщика, и тот старательно начал втирать вазелин в кожу, разминал мышцы, хлопал по ним ладонями. Закончив массировать одну ногу, он осторожно опустил ее и взялся за другую. А когда Вернер улегся на живот, подставив массажисту спину, Иванков стиснул зубы, с отвращением глядя на капитана.
Он уже полгода служил у Вернера. И, несмотря на животный страх перед ним, попросил однажды отчислить его в роту. Вернер отказал. Тогда Иванков по команде подал о том же просьбу командиру полка. Вернер, узнав, не упрекал его за это. Он только смотрел на него пустыми, холодными глазами и усмехался. И этот взгляд был так страшен, что Иванкова пробирала дрожь. Часто капитан будил его ночью и приказывал подать папиросы, лежащие тут же, под рукой, или налить вина из бутылки, стоящей на низеньком столике у постели. Власть Вернера над солдатом была беспредельна, убийственна, и денщик знал, что всякое сопротивление приведет только к гибели. И тем не менее он всеми силами пытался вырваться из-под власти капитана, но все напрасно. Вернер издевательски говорил ему:
— Никуда не отпущу. Прослужишь у меня весь срок службы.
После массажа капитан напился чаю, оделся и ушел в роту. Шагал огромный, прямой, гордясь своей прусской выправкой, ставил ногу во весь след.
Он обошел выстроившуюся роту, вглядываясь в каждого солдата, будто гипнотизируя его. Как обычно, остановился перед Орлинским, приказал ему выйти из рядов, осмотрел его с ног до головы. Потом, как бы забыв о нем, заговорил с фельдфебелем, но все время следил за Орлинским скошенным, охотничьим глазом. И когда Орлинский шевельнулся, Вернер неожиданно легко для своего тяжелого тела обернулся и мягко спросил:
— Ты что же это шевелишься в строю? Разве можно?..
Орлинский замер, точно почувствовав над собой невидимые хищные когти.
— Проверим, как вы знаете устав, — говорил Вернер, расхаживая перед фронтом. — Скажи мне, Ерлинский, — он нарочно коверкал его фамилию, — имеешь ли ты право идти в театр?
— Так точно, ваше высокоблагородие.
— А не врешь? Во-первых, без разрешения, не можешь. Не все спектакли дозволено смотреть солдату. А во-вторых, на какие места тебе можно идти?
Орлинский промолчал.
— На галерку, понятно? Потому что в кресла ходят только благородные люди, и в том числе — господа офицеры. А как будешь держать себя во время антракта?
— Выйду или останусь на месте, ваше высокоблагородие! — задыхаясь, ответил Орлинский.
— Врешь, Ерлинский. На месте тебе нельзя сидеть во время антракта. Ты обязан встать и столбом торчать до начала действия. Понятно?
И, глядя на роту замораживающими глазами, Вернер говорил, отчеканивая каждое слово:
— Вы не имеете права курить на улице, ездить в трамваях и в вагонах первого и второго классов. Не имеете права ходить в городской сад, когда там музыка. Кто ответит — почему? Отвечай ты, Ермилов.
— Так что, ваше высокоблагородие, уставом запрещено.
— Без тебя, дурака, знаю, что запрещено. А почему запрещено?
И, садясь верхом на стул, разъяснял:
— Потому, что вы нижние чины, н и ж н и е, — то есть вам нельзя быть вместе с высшими.
Он так мог говорить долго, подчеркивая то, чего не должны делать солдаты. Правда, в полку он был единственным, кто занимался подобными нравоучениями. Но солдаты понимали, что при желании любой офицер может последовать примеру Вернера.
Полевым занятиям капитан отдавал мало времени. Тактические упражнения, приспособление к местности, решение боевых задач, даже стрельба были у него на втором плане. Зато шагистика, маршировка опьяняли его. Расставив ноги, он смотрел на марширующую роту и считал мерно, густо:
— Р-раз-два! Раз-два! Левой, левой!..
Солдаты ровно подымали ноги, с силой опускали их, косились направо, чтобы и на дюйм не нарушить равнения в рядах.
— Нет звука, нет звука, — спокойно говорил Вернер (он вообще редко повышал голос). — У всей роты должен быть один удар при опускании ноги на землю. Пройдем еще раз. Но раньше пробежимся разок-другой.
Бег был наказанием за плохую, по его мнению, маршировку. Сам он бегал легко и, становясь сбоку роты, чтобы лучше видеть солдат, протяжно командовал:
— Р-рота, бегом — марш!
Долго бежать в рядах, сохраняя равнение и ногу, со скаткой через плечо, с винтовкой на плече, с походным мешком и лопатой, с патронными сумками и фляжкой было, конечно, трудно. Через две минуты большинство солдат выдыхалось, через три-четыре — лица их наливались кровью. Но каждому было боязно выпасть из темпа бега, «потерять ногу», завалить винтовку. Тогда выведут из строя и заставят бегать в одиночку перед самим Вернером. Кроме того, надо постоянно быть настороже, чтобы по команде «шагом» сильно и всем вместе «дать ногу». Если же «давали ногу» нестройно, Вернер приказывал повторить, опять гонял роту и в конце концов добился, что третья рота маршировала лучше всех в полку. Но она отставала по стрельбе и полевым учениям. Лучшие стрелки мазали в присутствии Вернера: пули отправлялись «за молоком». Как-то в полковом тире Вернер сел сзади одного из худших стрелков его роты и спокойно сказал:
— Не выполнишь упражнения — убью.
И расстегнул кобуру револьвера.
Солдат стрелял лежа, без упора, с руки. Весь дрожа, он стал целиться, но винтовка ходуном ходила у него. В мишени не оказалось ни одной пули. Вернер свирепо взглянул на солдата, облизнул губы.
— Жалко, что нельзя, — пробормотал он. — А то бы вогнал тебе в череп пулю, чтобы знал, как мазать!
Приближался полковой праздник. На соборной площади готовился торжественный парад. Максимов созвал офицеров. Большой зал собрания был переполнен. Созыв командного состава происходил редко и всегда вызывал беспокойство у офицеров: во-первых, можно было ожидать разных неприятных сообщений; во-вторых, многие не умели высказывать свои мысли и боялись критиковать начальство. Здесь давал себя знать невысокий культурный уровень большинства офицеров, которые мало читали, мало интересовались военным делом — сходились главным образом на вечеринках, за картами и выпивкой. Там было все проще: можно поболтать, посплетничать и не говорить о надоевшей всем службе.
Максимова еще не было, и офицеры разговаривали не садясь. Отдельно держались штаб-офицеры — пожилые, грузные люди, высидевшие свой чин пятнадцатью, двадцатью, а то и более годами службы. Вторую группу составляли ротные командиры и старые штабс-капитаны, долгими годами мечтавшие о вакансии ротного командира — дальше, они знали, им не продвинуться. И, наконец, третью группу представляли молодые поручики и подпоручики, не полностью еще засосанные провинциальным полковым бытом, болтавшие о чести мундира, о перспективе попасть в академию. И бирюком, ни с кем не разговаривая, стоял штабс-капитан Тешкин, которого не любили и чуждались офицеры и который сам никого не любил и ни с кем не водился.
Тяжело ступая, вошел Максимов, сопровождаемый Денисовым. Полковник Архангельский подал команду, и офицеры вытянулись.
Бредов пробрался в задние ряды. Туда же бочком, по-медвежьи, пролез и Тешкин, очевидно рассчитывая, что здесь никто не сядет, минутку поколебался, увидев Бредова, и, вздохнув, сел рядом.
— Мы покажем наш боевой полк во всей его силе, во всем блеске строевой выучки, — говорил Максимов. — Прошу не забывать, что нас увидят высокопоставленные лица. Нижние чины должны маршировать, как железные: грудь вперед, вид молодецкий. Прошу господ офицеров больше внимания уделять маршировке. Солдат, который умеет хорошо маршировать, будет хорошо и драться.
Командир закончил речь. Офицеры молчали. На вопрос полковника Архангельского, кто желает высказаться, не поднялся ни один человек. На повторное же приглашение Архангельского встал толстый подполковник Телегин, командир четвертого батальона. Запинаясь и кланяясь в сторону Максимова, он привел случай, бывший на высочайшем смотру в Москве, когда один из полков плохо прошел мимо царя и командиру полка был объявлен строгий выговор, несмотря на то что полк считался первым по стрельбе во всем округе.
— Господин полковник высказывает глубокую мудрость, требуя от офицеров особого внимания к маршировке, — заявил Телегин.
— Военные интеллигенты! — услышал Бредов ядовитый шепот Тешкина. — Жучки!.. Сидят, набрав в рот слюны. А у себя в ротах — орлы, Цицероны!..
После собрания Бредов подошел к Васильеву:
— Почему молчали, Владимир Никитич? Разве вы согласны с тем, что говорил Максимов?
— Согласен или не согласен, в данном случае это не играет никакой роли, — недовольно ответил Васильев. — Полагаете ли вы удобным, чтобы обер-офицер выступал с критикой старшего начальника? Да потом, командир полка не сказал ничего страшного. Он был только немного односторонен…
Бредов отошел. Черт с ними! У каждого своя голова на плечах… Его волнует сейчас только одно: выйдет или нет у него командировка в Петербург, которой он, с помощью Денисова, так упорно добивался через штаб дивизии?
Во дворе казарм и на плацах целыми днями маршировали роты, готовясь к полковому празднику. Были отставлены все другие занятия. В полном упоении работал Вернер, полагая, что он должен занять по маршировке первое место в полку. Рано утром он выводил роту на плац, ложился на землю и сбоку смотрел, чтобы все сто ног, подымаясь и опускаясь, давали одинаковый просвет. Он отменил боевую стрельбу, которая по расписанию должна была происходить в это время.
— Успеем отстреляться, — сказал он штабс-капитану Блинникову, напомнившему о стрельбе. — Тут поважнее дела есть.
Полк учился маршировке. Тысячи солдатских ног били о землю, тысячи носков вытягивались, печатая шаг. Осатаневшие взводные и отделенные обрушивали на головы солдат самые заковыристые ругательства. Офицеры спорили о недостатках и достоинствах прусского шага и доказывали, что русская система «шагистики» лучше германской.
В день полкового праздника солдаты с шести часов утра чистили бляхи, пуговицы, сапоги, осматривали винтовки и обмундирование. Вернер заявился в семь часов, осматривал портянки, каблуки сапог — не сбиты ли. Швырнул в лицо Орлинскому неправильно скатанную шинель и, когда тот с побелевшим лицом шагнул к нему, посмотрел сощуренными глазами, точно ожидая, что за этим последует. Орлинский пошатнулся, округлившиеся его глаза с сиреневыми зрачками не отрывались от рыжебородого лица капитана. Вся рота затихла. Орлинский застонал и вытянул руки по швам.
Вернер отвернулся, спокойно сказал:
— Восемь нарядов не в очередь, два часа под винтовку. — И приказал выводить роту во двор.
Целый час заставил он маршировать солдат, остался недоволен ими и предупредил, став перед фронтом:
— Сегодня на параде мы должны быть первыми. Хорошо пройдете, ставлю вам угощение, а плохо — загоняю насмерть!
За два часа до начала парада роты были выведены на площадь. В соборе шло богослужение. Солдатам позволили стоять вольно. Смирнов, туго перетянутый на животе офицерским кушаком, с георгиевским крестом и медалями на груди, хозяйственно осматривал десятую роту и ворчливо указывал солдатам на плохо заправленные гимнастерки.
Зазвонили колокола. Из собора показалось торжественное шествие. Впереди с золотой медалью на черном сюртуке важно выступал городской голова. Командир полка шел рядом с бригадным генералом — маленьким старичком с петушиной походкой. А за ними двигались офицеры в парадных мундирах, украшенных орденами, чиновники в треуголках, купцы, дамы в платьях со шлейфами и в широких шляпах. Заиграл оркестр. Офицеры стали на свои места, послышалась команда, и полк замер. Генерал и Максимов пошли по фронту.
— Здорово, орлы! — кричал бригадный, и «орлы» поротно отвечали ему.
Обход кончился. Подали команду к началу парада. Генерал важно стал на возвышении. Оркестр заиграл фанфарный марш. Волны медных звуков катились по площади, наполнили ее праздничным звоном. Под эту бравурную музыку взводными колоннами пошли роты, упруго подымая ноги, маршировали с обнаженными шашками молодые подпоручики и поручики. Капитаны с последней, оставшейся еще у них лихостью несли тяжелеющие тела. Подполковники шли впереди батальонов, как тяжелая артиллерия. В воздухе плыло боевое знамя полка, побывавшее во многих сражениях. Хмель весны мешался с хмелем бурной и бодрой музыки. Ровные солдатские колонны проходили мимо генерала, офицеры, салютуя, резко опускали горящие на солнце клинки, точно гасили их.
Крепко ставя ногу, маршировал Карцев. Рядом с ним были Рогожин, Чухрукидзе, Петров. Солдаты молодецки топали, захваченные властью музыки и ритмом плавного движения, ощущая дружеский локоть товарища, чувствуя себя как бы единым стоногим существом.
На правом фланге своей роты шел Мазурин. Винтовка точно приросла к его плечу, правая рука рубила воздух, и на лице было спокойное, бездумное удовлетворение — хорошо идти под музыку!
Вот и третья рота. Вернер на ходу командовал:
— Просвет! Ногу бросать, как топор!.. Взводные и отделенные, следить за ногой! Чтоб гудело!
Он выступал впереди роты, как укротитель, как гипнотизер.
Здорово идет третья рота, ничего не скажешь! Генерал доволен. Он вызвал Вернера и перед всем полком поблагодарил за отличную боевую службу. Разгорелся легкий разговор о маршировке, о блеске парадов, о тех блаженной памяти временах, когда солдатам подвязывали под колени лубки, чтобы не сгибали ног при маршировке. Отличные были времена, замечательные!..
— Вот так, петушок мой, всегда бывает, — проникновенно говорил старый капитан своему младшему офицеру после парада. — Обучайте солдат маршировать, рвите из них кишки, пока не дадут ножку так, как вы этого хотите. На смотру вас отметят, вот вам и лучшая награда. Учитесь, петушок, у старого офицера. Плохому вас не обучу…
В ротах кончались занятия. Иванков, взглянув на часы, бросил возиться на кухне, обошел все комнаты, осмотрел каждую вещь, каждый вершок чисто вымытого пола. Не дай бог, что не так, капитан всю душу вытрясет!
И вот Вернер явился, отдал ему фуражку, не спеша снял шашку, незаметно осмотрел комнату, покосился на Иванкова. Как будто все в порядке.
Опустился на низкий диван. Иванков бросился снимать сапоги.
— Белье выгладил?
— Так точно, ваше высокоблагородие!
— Показать!
Денщик достал из шкафа простыни, наволочки, сорочки, кальсоны. Вернер что-то промычал под нос, вынул из ящика стола блокнот, написал несколько столбиков мелких букв и отдал листок Иванкову.
— Завтра у меня будут гости. Отнести это в собрание, к буфетчику. Перетаскать домой все, что он даст. Смотри не разбей бутылок.
И он устало повалился на медвежью шкуру.
На другой день Иванков с утра до полудня таскал на квартиру капитана вино и продукты. Одних бутылок было что-то около тридцати. Потом прибрал комнаты, раздвинул стол, накрыл его свежей подкрахмаленной скатертью, сервировал…
В десятом часу вечера пришли первые гости: полковой священник отец Василий и поручик Баратов — в прошлом гвардеец, переведенный в армию за пьянство и шулерство. Отец Василий сразу опытным глазом окинул стол.
— Угощенье достойное! — промолвил он, разглаживая бородку.
Понемногу собрались и остальные приглашенные: Денисов, капитан Любимов — лысый, обрюзгший, с лицом, иссеченным морщинами, подполковник Телегин; капитан Федорченко — самый старый офицер в полку, грустный, с опухшими подагрическими руками; Бредов, щеголеватый Руткевич, штабс-капитан Блинников и поручик Журавлев.
Офицеры шумно усаживались за стол. Отец Василий выбрал место ближе к высокому хрустальному графину с водкой. Баратов, не дожидаясь, пока гости приступят к еде, налил зубровку в чайный стакан и выпил залпом, как воду.
С каждой минутой за столом становилось шумнее. Вернер хотя и пил много, но не пьянел, и когда глаза его останавливались на Федорченко и Любимове, которые совсем осовели, и на отце Василии, столовой ложкой поедавшем зернистую икру, он презрительно морщился.
Баратов, незаметно следивший за офицерами, прекратил пить и, взяв с маленького столика новую колоду карт, с треском разорвал ее.
— В картишки, господа, что ли? — предложил он.
Журавлев сейчас же поднялся, с вожделением поглядывая на богатого Руткевича.
Раскинули ломберный столик. Начали с мелочи, потом ставки повысили. Баратов держал банк.
— Вам нельзя, — сказал он Руткевичу. — Вы еще молоды и, кажется, много выпили.
— М-молчите, суслик! — надменно ответил Руткевич. — Ва-банк!
Баратов улыбнулся. Ну что с таким поделаешь!
Руткевич проиграл. Журавлев, открыв рот, гудел от волнения, судорожно водил шеей. После двух кругов все, кроме Блинникова, игравшего по мелочи, были в проигрыше. Журавлев придвинулся ближе к Баратову, переменив место за столом. Улучив момент, прошептал:
— Я в доле. Вот так-с!..
Баратов притворился, что не расслышал. В банке была груда скомканных кредитных бумажек, серебро, золото. Блинников, взглянув на свою карту, незаметно перекрестил ее и слабым голосом объявил, что идет на пять рублей. Он выиграл и радостно вертел в руках синюю бумажку. Руткевич, икая и пьяно покачиваясь на стуле, опустошал свой бумажник. Отец Василий, отвалившийся наконец от стола, подошел к играющим и стал позади Блинникова.
— Банк стучит, — сказал Баратов и, ни на кого не смотря, метал карты, держа колоду низко над столом, где лежал перед ним портсигар.
Блинников, бледнея и закрывая глаза, долго не решался назвать сумму. Потом в отчаянии посмотрел на собравшуюся у банкомета кучу денег и осторожно приподнял свою карту.
«Вот бы сорвать, — подумал он, — Верушке — платье, жене — зимнее пальто, Васеньке — костюм…»
Отец Василий сзади заглянул в его карту, увидел туза и, быстро отпахнув полу рясы, достал кошелек.
— Мажу! — заявил он. — Чего думаешь? Ну!
— Благослови, батя, — простонал Блинников.
— Бей по банку! — настаивал отец Василий. — Отвечаю половиной.
Блинников ощутил дрожь во всем теле, двинул на кон все свои деньги и те, что подсунул ему священник.
— Карту! — потребовал он.
Баратов небрежно сдал ему. Блинников медленно потащил к себе карту, пригнулся, почти положил подбородок на край стола и осторожно приподнял ее.
— Хватит! Бери себе.
Баратов объявил семерку, прикупил к ней даму, потом короля и, выругавшись, взял еще карту.
— Семерка! Двадцать одно! — выкрикнул он.
— Двадцать! У нас было двадцать!.. — прорыдал отец Василий. — К тузу девятка пришла!..
Он бросился к бутылкам. Блинников мешком сидел на стуле. У него отвалилась нижняя челюсть, из глаз катились слезы.
Последним играл Руткевич. Он плохо соображал, но чувствовал себя героем, которым все восхищаются.
— Ва-банк! — заявил он.
Баратов не спеша достал папиросу и придвинул к себе портсигар.
— Может быть, половину? — спросил он, словно жалея игрока.
— Я сказал — ва-банк! — сердито повторил Руткевич. — П-панимаете?
— Слушаюсь, — смиренно ответил Баратов, взял карту себе, потом дал Руткевичу. Проигравшийся Журавлев не спускал с банкомета глаз. Баратов набрал шестнадцать очков, подумал, снял еще одну карту с колоды, подержал ее в руке и решительно открыл.
— Дама! — ахнули все. — Ну и везет…
— Я думаю, на сегодня довольно, — сказал Баратов, устало отбрасывая колоду карт. Потом небрежно рассовал деньги по карманах, налил вина в стакан, выпил. Журавлев, извиваясь как угорь, подошел к нему, взял под руку.
— Надо освежиться, — пробормотал он. — Вот сюда…
Он почти тащил Баратова, и тот неохотно шел с ним.
В коридоре Журавлев остановился.
— Хорошая игра была, — нервно сказал он. — Позвольте закурить.
Но не взял папиросу, а выхватил у Баратова из рук портсигар.
— Приятная вещица, — говорил он, держа портсигар на ладони. — И полезная… так сказать, полезное в соединении с приятным.
И, быстро достав из кармана карту, подержал ее над портсигаром рубашкой вверх. Карта ясно отразилась в блестящей поверхности, как в зеркале.
— Дама-с пик! — хихикнул Журавлев, близко наклоняясь к Баратову. — Роковая карта. Германн из-за нее погиб. Много изволили выиграть?
Они молча смотрели один на другого.
— Черт с вами, — тихо сказал Баратов. — Пятьдесят рублей хотите?
— Не хочу! — грубо сказал Журавлев. — Я вам говорил, что буду в доле. Половину или ничего!
— Где же считать теперь? — устало спросил Баратов. — Давайте до завтра?
— Дураков нет, — прошипел Журавлев. Он быстро втащил Баратова в уборную, закинул крючок на дверь. — Считайте! Только прошу не жульничать. Придется вам вывернуть карманы.
— У меня же и свои были деньги, — сказал Баратов. — Сто пятьдесят рублей.
— Только сто засчитаю. Надеюсь, не желаете повторения вашей гвардейской истории?
Баратов молча взглянул на него и начал отсчитывать деньги.
…В комнате продолжалась пьянка. Капитан Федорченко обнимал Блинникова, лез целоваться.
— Вот уж сколько раз обходят чином, — жаловался он. — Одиннадцать лет я капитан. За царя кровь проливал и в турецкой и японской… Дай поцелую!.. А в подполковники не производят. Мне уже пятьдесят шесть лет, скоро уволят по возрасту. Нужны связи и протекция. Дай поцелую… А где я их достану в здешней дыре?
— Мы чиновники, только чиновники, — бормотал Блинников.
— Врешь! — густо проговорил Вернер и встал, руками опираясь о стол. — Врешь!.. Ты лапша, а не офицер. Мы не чиновники, нами вся Россия держится. Кто подавил революцию девятьсот пятого года? Мы! Кто всю эту сволочь расстреливал в Москве? Полковник Мин! Честь ему и слава! Он заставил семеновцев стрелять в революцию, хотя они не хотели этого. Вот кто мы!..
И, тяжело качнувшись, опустился на стул.
Бредов разговаривал с Денисовым. Он доказывал, что русская армия, несмотря на свои превосходные боевые качества, все же уступает иностранным, потому что у нее мало культурных офицеров, а верхушка — сплошь гнилая.
— Все измельчало, — говорил Бредов. — В большие генералы проходят не по таланту, не по личным достоинствам, а только по происхождению и связям. Все это князья, графы, остзейские бароны, знатные фамилии. А куда, скажи, девались талантливые наши разночинцы? Их затирают, не дают им хода. Разве есть у нас теперь полководцы? Гриппенберг, Куропаткин, Каульбарс, Стессель — вот они, современные Суворовы! Ах, как низко мы пали, Андрей, как низко! В каком болоте барахтаемся!..
Поздно ночью пришли денщики, за которыми бегал Иванков, и развезли пьяных офицеров по домам.
Иванков рос, как обычно растут дети в бедных крестьянских семьях, на картошке и черном хлебе, на пустых щах, на тюре из кваса. Пас стадо, ездил в ночное. По праздникам водили его в церковь. Слышал он, как в недород батюшка утешал крестьян, обещал им помощь с неба. Помощь эта, однако, не пришла, и батюшка убеждал, что это за грехи, приказал молиться.
И вот, неудачно испробовав все пути уйти от Вернера, Иванков вдруг вспомнил про отца Василия, решил пойти к нему, просить помощи. Ведь бог, как его учили, это же царь небесный, выше земного царя, и отец Василий был в полку его представителем.
Неспособный на ухищренные словесные подходы, измученный, он пал в ноги священнику, покорно поцеловал его руку и, как на исповеди, рассказал, зачем к нему явился.
Отец Василий сердито спросил:
— Почему ко мне обращаешься? Такие дела меня не касаются. Тут, сын мой, по команде надо подавать.
— Подавал, — печально ответил Иванков. — Отказали, батюшка. Я и к командиру полка обращался.
— Что же ты думаешь, у меня больше власти, чем у командира полка?
— Батюшка, попросите, Христа ради, капитана отпустить меня в роту. Исстрадался я…
Отец Василий хотел было накричать на Иванкова, но выражение отчаянья и горя на лице капитанского денщика остановило его. «До предела дошел, — подумал он, — донял его Вернер… Как же тут быть? Прогонишь, еще, не дай бог, решится на нехорошее, бунтарское…»
И, привычно откинув широкие рукава рясы, он начал убеждать Иванкова, что тот должен претерпеть, как терпел Христос. Бог послал ему трудное испытание, чтобы отличить его. А присяга обязывает верно нести всякую порученную службу. Грешно роптать христианину и солдату, царскому слуге.
— Надо, сын мой, и утром и вечером читать «Отче наш», «Верую» и смириться, ибо господь не любит гордыни.
Иванков поднялся с бледным лицом, молча принял благословение, молча поцеловал отцу Василию руку, вышел и направился в роту за обедом. С горькой завистью смотрел он в столовой на шумно разговаривающих солдат, и жизнь их казалась ему легкой и прекрасной. Так арестант, истомившийся в одиночке, завидует арестантам, сидящим в общей камере…
Иванков присел к столу, не хотелось уходить отсюда. Неужели никто не может помочь ему? И вдруг простая мысль пришла ему в голову: убежать! За побег полагается арест, суд, ну что же — в тюрьме или в арестантских ротах все же будет лучше, чем у Вернера. Он засмеялся от счастливой мысли, пришедшей ему в голову. Как раньше он не подумал о таком выходе? Бежать, немедленно бежать!
Он сдал котелок на кухню, попросил оставить до завтра и легкими шагами пошел из казармы, из города.
У него не было никаких колебаний. Он шел бездумно, с одним лишь радостным ощущением, что никогда больше не увидит Вернера. И он шагал, шагал все быстрее, будто уходил от преследования. Вот кончились последние дома на окраине города и открылось поле, покрытое молодой зеленью всходящей ржи, а за полем — лес, туда вели извилистые тропинки. Скорее в лес!
Иванков вдыхал запах хвои, смотрел на серебряные стволы берез и шел все дальше, в глубь леса. Ему захотелось отдохнуть, и он лег под сосной на кучу побуревших прошлогодних игл. Тут было так тихо, так хорошо, так спокойно, что он засмеялся от счастья, повернулся на правый бок, подложил руку под голову и уснул.
Три дня он бродил по лесу, изголодался, заходил в деревни за куском хлеба, потом его арестовали, отправили в полк, дали десять суток ареста и снова вернули к капитану Вернеру.
Полк переехал в лагеря. Они были расположены верстах в десяти от города, в тенистой тополевой роще. Широкие аллеи, посыпанные красноватым песком, свежая, шумящая зелень деревьев и белые палатки придавали лагерю нарядный вид. На самом же деле этот лагерный сбор лета тысяча девятьсот четырнадцатого года был одним из труднейших для солдат: частые инспекторские смотры вскрыли крупные недочеты в боевой подготовке армии, в ее вооружении и снабжении. Инспектора заставляли в своем присутствии проводить боевые стрельбы, сложные тактические учения, ночные наступления и маневры и упрекали командиров частей и соединений в отсталости, в непонимании того, что представляет собой современный бой, в плохой подготовке личного состава.
Инспектор генерального штаба, ревизовавший полк, которым командовал Максимов, был худой, желчный генерал. Проводя учение на стрельбище, он потребовал, чтобы взводы десятой роты, наступавшие уступами, стреляли боевыми патронами. Учение проводилось с участием запасных, призванных на поверочные сборы, и капитан Васильев доложил генералу, что он не ручается за последствия: могут быть несчастные случаи.
— Ну, конечно, я так и знал, — ответил желчный генерал. — Ни одна часть не решается проводить боевые стрельбы в таких условиях. Что же тогда делать на войне? Вы полагаете, что неприятель будет с вами церемониться и ждать, пока вы научитесь по-настоящему воевать?
Васильев стоял перед генералом, не отнимая руки от козырька, и молчал: все равно бесполезно объяснять, что запасные «отсырели» за годы штатской жизни и сейчас, как боевой материал, никуда не годятся, генерал накричит и окажется по-своему прав. Инспектор должен обследовать десятки тысяч людей, и одна ничтожная рота не заставит его действовать по-иному.
Максимов хмурился, был растерян. Он не учился в академии генерального штаба и думал, что именно поэтому инспектор не доверяет ему. И когда третья рота, бывшая в резерве, выдвинулась на боевую линию, Максимов расцвел и со значительным видом сказал генералу:
— Лучшая моя рота, ваше превосходительство! На смотрах всегда первая.
Генерал подозвал Вернера, молодецки вытянувшегося перед ним, с рукою у козырька фуражки.
— Неприятель там, — сказал он, показывая на темную, кудрявую кромку леса. — Примерно тысяча пятьсот шагов. Разведка донесла вам, что у него не больше роты. Он ведет редкий ружейный огонь. Местность холмистая — учтите. С левого фланга вас поддерживает вторая рота, с правого — четвертая. Ваше исходное положение — вот эта роща. Итак, прошу, капитан, начинайте. И только помните: вы на войне.
Вернер повел наступление на лес. Его взводы двигались отдельными отрядами: первый и второй — рассыпавшись в цепь, третий и четвертый резервные — колоннами. Первый взвод сразу выдвинулся на открытое место и не стал окапываться, чтобы укрыться от огня «противника»; второй перебегал, не применяясь к местности, в рост и, далеко оторвавшись от первого и сбившись тесной кучей, топтался под обстрелом из леса. Вернер, потеряв управление взводами, ругался и, размахивая шашкой, звал людей к себе. Штыковой удар он начал на слишком большом расстоянии от «противника», и было ясно, что роту всю уничтожат огнем, прежде чем она достигнет вражеского рубежа. Вернер, бравируя, бежал впереди роты с обнаженной шашкой и кричал «ура».
— Что он делает? Боже мой, что он делает! — с отчаянием повторял генерал. — Это же черт знает что такое!
Когда ученье закончилось и офицеры собрались вокруг инспектора, тот, нервно огладив усы, заговорил:
— Очень плохо, господа! Удручающе плохо. Я хотел бы обратить ваше внимание на действия командира третьей роты. Первая ошибка его в том, что он неправильно расположил свой боевой порядок. Два взвода у него в цепи, два в резерве, когда достаточно было оставить один, — и под огнем эти взводы идут колоннами. К местности рота совершенно не применялась. Перебежки под огнем надо было вести звеньями или даже в одиночку с тем, чтобы, накопившись вблизи неприятеля, подготовиться к решающему удару. А перебегали, почти не пригибаясь. Залегая после перебежек, не окапывались — это значит, что многие были бы перебиты. Возмутительно!.. Наконец, штыковой удар начался без подготовки огнем и с такого расстояния, что если бы даже солдаты не задохлись от бега на столь большую дистанцию, то их перестреляли бы всех, пока они добежали до «противника». Только две-три роты, и в первую очередь десятая, командира которой считаю своим долгом поблагодарить, — он поклонился в сторону Васильева, — действовали грамотно. Остальные совсем слабы, их необходимо переучить, господа.
Прибыл начальник дивизии генерал Потоцкий, с нафабренными усами над дряблыми старческими щеками. Вокруг инспектора тесно сгруппировались начальник дивизии, его адъютант, командир полка и старшие офицеры.
— Тяжело подводить итоги инспектирования, — говорил желчный генерал. — Имея своим вероятным противником такую превосходную армию, как германская, мы сильно отстали от нее в военных учениях. Нельзя жить тем, чем жили и довольствовались в японскую войну. Артиллерия хороша, но плохо взаимодействует с пехотой, а во взаимодействии всех видов оружия, как вы знаете, — залог победы. Уж очень большое значение, господа, вы придаете штыковому удару, забывая, что сила огня настолько возросла, что нужен маневр. Да, да, господа, маневр! Необходимо подавлять огонь противника своим огнем, прежде чем вести пехоту в атаку. И, наконец, в частях, как я убедился, много времени отдают шагистике в ущерб полевым занятиям, мало внимания уделяют одиночной подготовке бойца, а ведь русский солдат — лучший в мире. Он побеждал с Суворовым, Кутузовым, он всегда грудью защищал царя и отечество от врага.
Желчный генерал, не старый еще человек, бывший русский военный атташе в Германии, хорошо знавший опыт иностранных армий и любивший военное дело, имел неприятности в Петербурге, когда вносил свои предложения по реорганизации русской армии. Добившись аудиенции у военного министра Сухомлинова, генерал представил свой доклад, причем имел неосторожность заявить, что теперешнее состояние армии внушает ему серьезные опасения.
Сухомлинов, красивый, надушенный старик с седыми усами, посмотрел на него с выражением скуки и сказал:
— Предоставьте нам, прошу вас, все знать и обо всем заботиться, что касается армии. Могу вас заверить, что армия в блестящем, соответствующем ее назначению и задачам положении и обеспечена всем необходимым. С этим изволил согласиться и государь император.
Окончательно уничтожив этими словами желчного генерала, Сухомлинов небрежно отодвинул в сторону его доклад и, не подавая руки, простым наклоном головы отпустил его.
Начальник генерального штаба, к которому затем обратился генерал, встретил беспокойного посетителя очень сухо и вскоре же спровадил его в провинцию инспектировать армию.
Максимов, плохо разбиравшийся в вопросах внешней политики, выразил предположение, что как бы России не пришлось драться с немцами и англичанами, которые завидуют ее могуществу. Инспектор, глядя на провинциального полковника, сухо ответил, что вряд ли нам придется воевать с англичанами.
На обеде у командира полка он стал еще откровеннее и, маленькими глотками попивая вино, рассказал, желчно улыбаясь, о том, что недавно армии отказали в совершенно необходимых средствах на увеличение числа пулеметов, но зато утвердили штаты на содержание церковных причтов в полках. И, понизив голос и все потягивая маленькими глотками вино, сообщил о новых корпусах, которые должны быть в скором времени сформированы, и добавил, что очень важно провести эту меру до того, как начнется война.
— Значит, скоро воевать? — довольным тоном спросил Максимов, убежденный в том, что тогда он скорее получит генеральские погоны. — Ну что же, мы готовы!
Ночь была тихая. За дорогой пропали желтые лагерные огоньки. Солдаты шли под откос, в черную бездну, казавшуюся морем, по которому темными волнами плескался теплый воздух, шли тесно, чтобы не оторваться друг от друга. Винтовки были взяты на ремень. И когда сверкнул вдали острый, недобрый луч прожектора, пробивая толщу тьмы светлым, непомерно длинным копьем, на мгновение показался строй штыков, похожий на невиданный всход серых колосьев.
Васильев ступал уверенно, хотя темь была непроглядная. Только один раз на минуту он остановил роту: лег на землю, с головой укрылся плащом и, засветив электрический фонарик, сверился с картой. Трудно было понять, какие ориентиры были у него, но он приказал переменить направление. Приказ шепотом передали по взводам, и люди двинулись по узкой лесной дороге. Пахло свежестью, прелым листом и хвоей. Большая птица низко пролетела над солдатскими головами, донесся резкий, ухающий ее крик.
Незаметно разошлись облака. Вышли в поле. Голубая звезда горела на севере. Прошли еще немного и остановились. Послышался шорох. Кто-то быстро и легко бежал сквозь шуршащую рожь. Вдруг, падая сверху, косматая тень со свистом рассекла воздух, послышался тоненький, жалобный крик, и, тяжело ударяя крыльями, филин полетел к лесу, унося в когтях бьющегося зайца.
Васильев, вслушиваясь в тишину ночи, ходил по дороге. Скоро вернулись разведчики. Унтер-офицер Колесников доложил обстановку, показывая рукой на юго-запад.
— Что ты путаешь, братец, — сердито ответил Васильев. — Откуда там может очутиться противник? Он должен быть на северо-востоке.
Колесников, почтительно сутуля костлявые плечи, еще раз доложил, что им замечена колонна, которая движется на десятую роту. Васильев, оставив вместо себя Бредова, решил сам выяснить обстановку.
Петров, взволнованный этим ночным походом, с интересом наблюдал за тем, что происходит. Ему казалось, что сейчас случится что-то неожиданное, прекрасная ночная игра пойдет новым путем. И он невольно подался вперед, когда капитан проходил мимо него. Васильев, заметив его, приказал ему и Рогожину следовать за ним.
Они шли гуськом — впереди Васильев, за ним Петров и позади Рогожин. Капитан подозвал Петрова.
— Видите там дерево? — он показал рукой вперед.
Петров упорно смотрел и ничего не мог различить.
— Ну, все равно: идя в этом направлении, вы на него наткнетесь примерно шагов через триста. Осторожно обследуйте местность впереди дерева и возвращайтесь. Рогожин пойдет в другую сторону, а я — прямо. Сбор здесь. Берегитесь, чтобы вас не заметили. С богом!
Петров старался идти бесшумно. Такую же перемешанную с боязнью взволнованность испытывал он, когда в детстве играл с ребятами в «казаки и разбойники»… Какой-то маленький зверек шмыгнул из-под самых его ног в рожь. Дерева что-то не было. И когда он уже хотел свернуть в сторону, послышались тихие голоса, и, остановившись, Петров совсем близко от себя увидел неясные контуры дерева. Он пополз, прижимаясь к земле, правой рукой придерживая винтовку.
— Да ну вас к черту! — бранился кто-то. — Говорил я вам, что мы взяли много правее. Теперь извольте выпутываться.
В ответ раздался петушиный голосок поручика Жогина:
— Но ведь вы согласились со мною. Я и повел роту…
— Доверился молодому офицеру, наполеончику. Эх, вы!..
Петров уже полз обратно. Потом вскочил и побежал, широко открывая рот, задыхаясь от возбуждения. Васильев шел ему навстречу. Рогожина еще не было. Прерывающимся голосом Петров доложил, что слышал, как поручик Жогин разговаривал со старшим офицером, вероятно капитаном Федорченко.
— Первая рота?.. — задумчиво проговорил Васильев. — Куда же они зашли? Им надо бы в другом направлении, верст за пять отсюда. Странно!
Он приказал Петрову идти с ним, и оба направились к дереву.
Офицеры были еще там. Васильев подошел к Федорченко и заговорил с ним. Петров, стоявший недалеко, слышал, как Федорченко умолял Васильева:
— Ну, Владимир Никитич, роднуша, с кем греха не бывает? Ну, заблудился малость… Только покорнейше прошу, никому ни слова. — И приглушенно добавил: — Карта, сволочь, подвела. Ночь — темнота египетская! Уж вы, роднуша, проверьте вместе со мною, куда мне теперь идти. А то опять собьемся, — простодушно закончил старый капитан и зажег электрический фонарик. Свет на секунду выхватил из темноты кончик носа, усы и напряженно сжатые губы. Федорченко следил за двигавшимся по карте пальцем Васильева.
…Первая рота ушла. Рогожин был послан с запиской к Бредову.
— Подождем немного, — предложил Васильев и присел на землю. — Садитесь, вольноопределяющийся!
Надо сказать, что между ними давно уже был забыт старый спор о японской войне, главным образом стараниями Валентины Сергеевны, и Петров по-прежнему занимался с Алей.
Усевшись на землю, они некоторое время молчали, слушали, как потрескивает в траве какое-то насекомое, как грустно и будто удивленно посвистывает в лесу птица, как шелестят листья.
— Вы замечали, — спросил Васильев, — как успокаивающе действует природа? Какое тихое очарование в ней. На охоте нет ничего лучше, как заночевать в лесу или в поле. Жаль только, что редко выпадает нам это счастье.
— Тишина, мирная ночь, — ответил Петров, следуя своим мыслям, — а мы крадемся, подстерегаем врага, убиваем его. Все-таки страшная это штука война!
— Напрасно вы так думаете, — привычно теребя усики, заметил Васильев. — В войне тоже много своей красоты, несмотря на всю ее жестокость. Там можно творить, там рождается высокое мужество, чувство самоотвержения, там хорошо проверяется человек, сила его характера. А сколько замечательных героев создали войны! Вспомните хотя бы Багратиона, Кульнева… Да разве всех перечтешь! Мы происходим от славян, воинственного, смелого народа, и с честью должны нести наше тысячелетнее боевое знамя. Что было бы с Россией, если бы она не сумела отбиться от татар, от поляков, шведов, французов? Наши русские солдаты — превосходнейшие вояки! Они с Суворовым Альпы переходили, Фридриха, Наполеона били… Чудеснейшие, доложу вам, солдаты!
Он замолчал. К ним напрямик бежал через поле Рогожин.
— Ваше высокоблагородие! — задыхаясь от бега, доложил Рогожин. — Их благородие просят вас скорейше до роты.
Быстро пошли. Бредов ждал на дороге и сейчас же торопливо стал что-то говорить Васильеву. Позвали взводных и отделенных. Васильев отчетливо произносил каждое слово:
— «Противник» хочет обойти нас справа, со стороны деревни Сидоровки, — он рукой показал в сторону, где находилась Сидоровка. — Тогда ему придется двигаться через лес, прямо перед нами. Разведка показала, что он так и делает. Мы обойдем его, застанем врасплох, ударим с тыла, откуда он нас никак не ждет. Поэтому двигаться надо в полной тишине, не разговаривать, не курить. Капитан Бредов, прошу выслать дозоры и связных!
Васильев точно помолодел — так был он увлечен интересной игрой, и многим передалось его увлечение. Солдатам сообщили цель операции, что бывало крайне редко — чаще всего они действовали вслепую, — и они бодро и весело принимали участие в игре.
Беловатые кружева облаков настилались на звезды. Вошли в лес, и сразу стало темнее. Свежая, душистая, пахнущая травами, цветами и смолистой хвоей волна воздуха захлестнула солдат. Передвигались бесшумно, не теряя связи друг с другом, не разговаривая, поддерживали винтовки, чтобы не сталкивались штыки. На перекрестках лесных тропинок Васильев сверялся с картой, с компасом и вел роту дальше. Незаметно возникали связные, докладывали капитану. Рота тихо развернулась в боевой порядок. Показался сероватый просвет (вероятно, просека), и два человека побежали в сторону. Их легко поймали, привели к Васильеву. Это оказались разведчики противной стороны, и Васильев с ласковой хитростью допрашивал их. Солдаты отвечали растерянно — видно было, что они боялись офицера и не знали, как себя держать.
— Дураки! — сокрушенно сказал Васильев, отходя в сторону. — Ну как воевать с такими? Ведь все рассказали! Знают, что это только учение, допрашивает офицер, а жарят как на исповеди. Я бы за такое воспитание вздул их ротного командира.
Теперь наступало самое главное. Рассыпались широкой цепью, охватили просеку с обеих сторон. Послышались голоса, стукнула копытом о дерево лошадь. Васильев внимательно всматривался в темноту.
Где-то залаяла собака. Вероятно, в Сидоровке. Васильев приказал двинуться к деревне. Она еще не была занята «противником». В крайней от леса избе разбудили хозяина. Вышел лохматый крестьянин и, страшно испугавшись, низко кланялся Васильеву и солдатам. Жена его, стоя на пороге, крестилась. Проснулись люди и в других избах, но никто не выходил на улицу. Петрова поразил страх, с которым крестьяне относились к военным: робко отвечали на вопросы, спешили скорее скрыться за дверью.
Рота, миновав деревню, углубилась в лес. В лесу остановились. Вдали белым кружком вспыхнул свет и тотчас же погас. Васильев поднял руку.
— Внимание! — сказал он. — «Противник» перед нами.
В ветвях пискнула птица. Нежная синева едва-едва проступала в еще темном небе. Снова вспыхнул свет, послышались выстрелы, и какой-то длинный черный предмет начал быстро приближаться. Несколько лучей загорелись там, обшаривая дорогу, белые камни по ее краям, и затем побежали вперед. Солдатская цепь с поднятыми винтовками перегородила дорогу, и маленькая фигурка Васильева стала перед цепью.
— Прошу сдаться! — четко и немного торжественно сказал Васильев. — Объявляю вас пленными.
Тогда всадник на белом коне выехал вперед и сердито крикнул:
— Кто такие? Прошу с дороги. Вы знаете, с кем разговариваете?
— Ваше превосходительство! — поднося руку к козырьку, ответил Васильев, сразу узнав по голосу бригадного командира Гурецкого. — Мы являемся противной стороной. Прошу удостоверить, что вы захвачены в плен.
— Ну, ну! — игриво пробурчал генерал. — Пустяки какие! Маленькое недоразумение, не больше. А теперь позвольте нам проехать.
Васильев не тронулся с места.
— Ваше превосходительство! — твердо сказал он. — Я не могу пропустить вас. Покорнейше прошу разрешить считать вас пленным.
Он загородил дорогу генеральскому коню.
— Мальчишка! — закричал генерал. — Да как вы смеете?
Он наехал конем на Васильева. Тот невольно подался в сторону. Воспользовавшись этим, генерал ударил коня нагайкой и ускакал вместе со своим штабом.
Бледный Бредов подбежал к Васильеву.
— Надо жаловаться! — стиснув кулаки, крикнул он.
— Да, да, — вяло подтвердил Васильев. — Но что из этого выйдет? И, пожалуйста, не так громко, прошу вас. Ведь кругом солдаты.
И сутулясь он пошел по дороге.
Мазурину было необходимо хоть денек побывать в Москве: сообщить об усилившихся революционных настроениях в полку, узнать, что вообще происходит в России, получить большевистскую литературу. Но так как уехать ему не представлялось никакой возможности, он решил послать в Москву Тоню с письмами и поручениями.
Она с радостью и даже тайной гордостью согласилась выполнить это задание. Мазурин тщательно подготовил ее к поездке, рассказал, что надо делать, как себя держать. Поехала Тоня под видом горничной. И когда через три дня вернулась, успешно справившись со всем, что от нее требовалось, она вдруг почувствовала в себе что-то новое, сильное: она стала другим, полезным человеком. Что-то светлое виделось ей впереди.
…Несколько солдат попались с листовками. Следствие велось с нарочитой жестокостью. Солдат допрашивал военный следователь, внешне благожелательный, с белыми нитяными усами и тонким хрящеватым носом. Следователю очень хотелось раскрыть большую подпольную организацию, но солдаты показывали, что листовки они нашли на улице у ворот казармы, никаких связей ни с кем не имели и листовки оставили у себя как бумагу на курево. Заподозренных держали в темном карцере, давали только хлеб и воду, мучили бесконечными допросами, грозили каторгой и даже расстрелом. Следователь предполагал, что революционная работа в полку ведется с помощью и под влиянием фабричных рабочих, и Максимов написал начальнику дивизии, что частое назначение солдат на фабрики для усмирения рабочих приводит к печальным результатам: они общаются с «бунтовщиками» и заражаются от них революционным духом. Начальник дивизии вызвал Максимова. Генерал постоянно оттопыривал нижнюю губу, словно на кого-то сердился.
— Представьте себе, полковник, — говорил он, — что мы проиграли бы внутреннюю кампанию пятого года. Вы понимаете, какие страшные последствия это имело бы для России, для дворянства, для высшего офицерства, а? Хамы, мужики овладели бы всей страной, а? (Начальник дивизии, еще когда он служил в Петербурге, в генеральном штабе, за полную неспособность к военному делу был представлен к увольнению, но крупные связи помогли, и его направили в армию командовать дивизией.)
Он грозно и вопросительно посмотрел на Максимова, и тот, благоговевший перед начальством и уверенный, что начальство всегда умно, почтительно кивал головой и значительно хмурил брови.
— А вот, — продолжал генерал, — мы проиграли японскую, то есть внешнюю, кампанию — и ничего! Живем, слава богу, не хуже прежнего и даже военный опыт приобрели, а?
И, оживившись, так как считал себя глубоким стратегом, генерал начал рассказывать Максимову о плане новой дислокации войск на западной границе, в разработке которого он участвовал, когда еще работал в генеральном штабе.
— Совершенно секретно, полковник, — говорил он, — пусть все это умрет между нами. Вы знаете, возможно, что наша идея развертывания главных сил на передовом театре фактически привела к тому, что обширные промышленные районы империи, опасные в революционном отношении, стали недостаточно защищены от внутреннего врага. И я вместе с генералом Сухомлиновым отстаивал ту мысль, что для внутренней безопасности страны необходимо отнести назад линию стратегического развертывания и дислоцировать войска с таким расчетом, чтобы наиболее сильные гарнизоны оказались в промышленных районах, независимо от того, на каком расстоянии от границы они будут находиться. При такой дислокации армии мы безусловно сумеем подавить революцию в любом месте, а?
Помолчав, генерал гордо добавил:
— Государь всемилостивейше соизволил согласиться с правильностью этой идеи. Согласился он также и с необходимостью упразднить резервные войсковые части, как наиболее поддающиеся революционному влиянию. Да, да, дорогой полковник, смею вас уверить, что победа над внутренним врагом неизмеримо важнее для России, чем победа над внешним, а?
Сделав такой вывод, генерал величественно взглянул на Максимова и, отпустив его, приказал беспощадно пресекать малейшие революционные веяния в полку.
Лежа под серым колючим одеялом на соломенном тюфяке в своей лагерной палатке, Мазурин долго не мог заснуть. Полы палатки были закинуты и крест-накрест пристегнуты к вбитым в землю колышкам, но свежий вечерний ветер колыхал брезент, и Мазурину казалось, что кто-то стоит снаружи и балуется. В этот тихий ночной час особенно ярко вспоминалось прошлое… Небольшая, с выбеленными стенами комната и в ней — близкий друг, с горячей большевистской душой, Федя Радогин… А вот Предтеченский переулок на Пресне, приплюснутое оконце. Когда подымаешься по трем ступенькам старенького крыльца к дяде Мише, вторая обязательно скрипнет под ногой. Сколько хороших часов прошло здесь, сколько спорили по-молодому задорно, как учились!.. «Дядя Миша, можно, я к тебе вечерком попозднее забегу и ты расскажешь мне о Ленине?..»
Мазурин вздрогнул, пробудился от сладкой дремы, унесшей его так далеко. Вот она — солдатчина! Невеселая штука служить в царской казарме… И снова закрыл глаза. «Эх, дядя Миша, не плохо бы с тобою, как прежде, поговорить…» А как-то раз шпики выследили подпольную квартиру. Но был там потайной ход через подвал в соседний дом. И дядя Миша торопил: «Беги, парень, да смотри — слов моих не растеряй, нужны они…» Какая крепкая рука у дяди Миши, она так и впилась в плечо, трясет, толкает…
Мазурин сделал резкое движение и снова очнулся.
— Тише! — шепчет чей-то голос. — Одевайся без шума.
Мазурин не разглядел, кто это. И, только выходя из палатки, узнал Смирнова.
— Куда, господин прапорщик? Что случилось?
— Молчи, — безучастно ответил Смирнов. — Ведут тебя, — значит, так надо. Марш!
Широкая темная аллея уходила под деревья. Вероятно, недавно прошел дождь, так как особенно свежо и горьковато пахло рябиной и мокрой травой и влажный песок упруго подавался под ногами. На повороте горел керосино-калильный фонарь, вокруг него неутомимо носилась ночная мошкара, и в белом, ярком свете, точно посеребренные, блестели листья, выглядывали оранжевые ветви вызревающей рябины.
Мазурин больше ни о чем не спрашивал зауряд-прапорщика (отметил только, что у того была отстегнута кобура) и мучительно думал: «За что взяли?» Он был так осторожен, что за два года службы его ни разу не заподозрили в подпольной работе. Неужели кто-нибудь выдал, проговорился? Или выследили?.. А может быть, за чем-либо другим зовут? Вряд ли… Ночью, да еще с фельдфебелем, не будут подымать по пустому делу. И Мазурин, сосредоточившись, стал думать спокойно и решил, что будет все отрицать: «Пускай сами раскроют свои карты…»
Они проходили через лагерь второго батальона. Палатки, как белые холмы, стояли по сторонам аллеи. Дневальные сонно сидели под круглыми навесами — «грибами». Мазурина привели к дежурному по полку штабс-капитану Блинникову. Сердито и немного испуганно поглядел он на доставленного, потом долго кашлял, хрипел.
— Нашкодил… — наконец проговорил он. — Эх ты, дрянь! К ногтю бы тебя… Только господ офицеров беспокоишь, вошь тифозная!.. В каталажку его!
Мазурин двое суток просидел в штабе дивизии под арестом, а наутро третьего дня его повели на допрос. В маленькой комнате за столом сидел офицер. Царь в широкой голубой ленте, наискось пересекавшей его грудь, молодецки отставив ногу, глядел со стены. Офицер писал, почесывал концом ручки лоб, рассеянно барабанил пальцами по столу, затем прошелся по комнате, почти задев Мазурина, но не обращая на него внимания, точно и не было его здесь, точно он не видел его. Мазурин спокойно ждал. Он знал этот известный прием, рассчитанный на то, чтобы смутить допрашиваемого, вывести его из душевного равновесия. Мазурин стоял у стены, вытянувшись, изображая собой серенького, забитого человечка. И офицер, как бы вдруг заметив его, увидев глаза, полные привычной солдатской готовности, мягко сказал:
— Ах, голубчик, а я тебя и не приметил. Подойди-ка, подойди-ка… Как твоя фамилия?
Он расспрашивал небрежно, с большими паузами, давая понять, что ведет допрос только по обязанности и придает ему мало значения. Он устало позевывал, то и дело подходил к открытому в сад окну, потом снова садился, опускал голову на стол, точно засыпая, и, потянувшись, доверчиво пожаловался:
— Работа замучила. Давай-ка мы с тобой быстро разберемся и пойдем каждый по своим делам. Ведь тут пустячок какой-то… Правда? Ты, голубчик, до военной службы где работал?
Следователь незаметно изучал лицо солдата, выражение его глаз, как бы осторожно подбирался к важнейшим вопросам, ловко прикрывая их другими, посторонними. Несколько раз Мазурину казалось, что на него из-за кустов выскакивает крупный, с разинутой пастью, хищник. Он отвечал быстро. Ответы были просты и бесхитростны. Офицер не выказывал никаких признаков раздражения. Минуту он сидел молча, полузакрыв глаза, потом, как бы между прочим, спросил:
— Какие книги ты захватил с собой на военную службу? «Коммунистический манифест» взял или оставил в Москве?
Вопрос был так внезапен, что Мазурин воспринял его как удар. Живые глаза следователя ловили его малейшее движение, ни на секунду не выпускали его из поля зрения, и Мазурин понял, что тот не верит в его простодушие. Но тем не менее продолжал по уставу «есть глазами» начальство и ответил без паузы, которая могла быть опасна:
— Книгами я, ваше высокоблагородие, мало занимался. С собой никаких не брал.
Следователь полистал лежавшие перед ним бумаги, усмехнулся.
— Ты скрытничаешь, голубчик, — почти ласково сказал он. — Надо же тебе уразуметь, что мы с тобой служим одному делу, оба русские, православные, одной матерью-родиной вскормлены. Я тебе не только начальник, но и друг и старший товарищ. Я обязан о тебе заботиться, чтобы твоя душа была чиста и здорова. Почему же ты не поможешь мне? Я не приказываю, а душевно прошу тебя: помоги мне разобраться, а там иди себе с богом.
Он встал, близко подошел к Мазурину, опустил руки на его плечи, глубоко заглянул в глаза.
— Вот ты был в мае на гулянке возле Белой ямы. Что же тут особенного? Ну, был — почему же тебе, бывшему рабочему, не поболтать с фабричными? Никто тебя за это не накажет. Ты только скажи: кого еще из солдат позвал с собою, о чем вы там говорили?
Черные, пушистые гусеницы его усов тихо двигались. Глаза мерцали синим, усыпляющим светом. Теплые токи исходили из его рук, лежащих на плечах Мазурина.
— Покорнейше благодарю за ласку, — ответил Мазурин, — мне от вашего высокоблагородия прятать нечего. Гуляли, конечно, и на Белой яме. Ходили по молодому делу, — доверчиво понижая голос, добавил он, — песни пели, с девками баловались. Ну, а больше ничего такого не было.
— И речей, говоришь, не было?
— Какие на гулянках речи? Только смех да шутки.
— И листовок? — Он проворно взял со стола бумажку и поднес ее к лицу Мазурина. — Вот таких не раздавали? Ведь ты их видел, читал?
— Таких бумажек никто мне не давал, ваше высокоблагородие.
— Не так, все не так! Неужели ты, голубчик, думаешь, что нам ничего не известно? Разве мы тебя первого вызываем? Все твои товарищи чистосердечно рассказали и о массовке на Белой яме, и о листовках, которые там раздавали, и о речах, что там произносили. Я просто хотел проверить тебя, узнать — честный ты человек или нет? Все остальные сказали мне правду, и я отпустил их. Пойми, что ты вредишь себе, ни в чем не признаваясь. Ведь и без тебя мне все известно… Ну?
— Ничего не скрыл, — твердо сказал Мазурин. — А как же говорить про то, чего не было?
Офицер вынул платок и уронил его. Мазурин торопливо нагнулся. Выпрямляясь, встретил прищуренный, страшный взгляд следователя. Тот как бы в рассеянности не брал протянутого ему платка. Мазурин стоял, держа в руке платок, пахнувший острыми духами.
— С какого года ты в социал-демократической партии? — шепотом спросил следователь и стиснул руку Мазурина. — Ну! — последнее слово прозвучало, как выстрел. — Раз, два — отвечай!
— Так что в никакой партии не был, — с вялым недоумением ответил Мазурин.
Скулы задвигались на лице следователя. Глаза холодно и неумолимо впились в Мазурина.
— Ты — солдат, ты присягал государю императору на верность. Его именем спрашиваю тебя в последний раз: скажешь правду?
— Говорю чистую правду!
Мазурина увели.
Как-то утром, во время подъема, Самохин не встал вместе со всеми. Лежа он приказал Рогожину:
— А ну-ка, мигом, почистить мне сапоги!
У него было надменное, грозное лицо, и Рогожин, засмеявшись, посоветовал ему скорее одеваться, если он не хочет заработать наряд на кухню. Но Самохин, выпятив грудь, стал на него кричать, как офицер на своего денщика.
Солдаты захохотали. Но Карцев, внимательно посмотрев на Самохина, слишком забитого, чтобы так шутить, заметил блуждающие его глаза, больное, бледное лицо. Машков, застав неодетого Самохина, сбросил его с постели, пнул ногой и дал два наряда.
Самохин, испуганно глядя на взводного, быстро оделся. Последнее время припадки стали у него повторяться все чаще и чаще, он воображал себя офицером, распоряжался, бранился, облизывая белую пену с губ.
— Самохин болен, его надо отправить в околоток, — доложил взводному Карцев.
— Околотков на таких не хватит! — грубо отвечал Машков. — А ты не суй нос не в свое дело!
Но однажды Самохин накричал и на Машкова, потребовав называть себя «вашим светлым благородием». Смертельно испугавшись такого кощунства и боясь, что ему придется отвечать за Самохина, Машков наконец отправил его в околоток. Из околотка больного перевезли в госпиталь, держали там неделю, и врачи, решив, что Самохину надо переменить обстановку, отпустили его в месячный отпуск.
Карцев провожал товарища на вокзал.
— Ты знаешь, Самохин, куда едешь? — спросил он, взяв его за холодную, тяжелую руку.
— Домой… — сонно ответил Самохин и, морщась, добавил: — Голова… точно железными обручами сдавили.
— Знаешь, на какой станции тебе сходить? — настойчиво спрашивал Карцев.
— Нашу станцию да не знать? Поныри называется. Богатая станция. Узловая. Всегда там народ, торгуют чем хочешь. Настоящий базар. До нашей деревни пятнадцать верст.
Карцев посадил его в вагон, тепло с ним простился. В поезде Самохин ожил. Всю дорогу был радостен, много разговаривал, смеялся. Родной дом, отец и мать рисовались ему так заманчиво, ярко и нарядно, что он тут же рассказал попутчикам, как хорошо живут родители, какое у них большое хозяйство, просторная, светлая изба. Он с наслаждением придумывал разные несуществующие подробности богатой жизни, которую он никогда не знал: измученный мозг жаждал чего-то прекрасного, успокаивающего, что можно было противопоставить злой, загубившей его казарме. И он, сияя от радости, слез на своей станции: знакомый перрон, тот же садик за оградой, та же высокая, кирпичная водокачка…
Было уже поздно, никого из знакомых крестьян, кто бы подвез его, Самохин не нашел и отправился пешком. Все вокруг казалось сказочным и ни с чем не сравнимым по красоте и по тому чувству покоя, которое он испытывал, когда шагал по дороге и смотрел то на лес, то на поле, то на приветные огоньки, светившиеся вдали. Глубокое темно-синее небо, все в звездах, раскинулось над его головой. Где-то грустно запел одинокий женский голос. Самохин остановился, растерянный, борясь с нахлынувшим на него чувством и, не поборов его и не поняв, лег на траву у края дороги и по-детски заплакал. Так пролежал он несколько минут и вдруг почувствовал, что на душе стало необыкновенно легко. Он поднялся и, желая как можно дольше не расставаться с этим звездным небом, с этой ночью, с этой милой сердцу дорогой, медленно пошел к родной деревне.
Все давно уже спали, когда он приблизился к своей избе. Стучал долго. Двери отворил отец. Он равнодушно посмотрел на сына, как будто его приезд ночью, после долгого отсутствия, обычное дело, и только кивнул головой. В тесной, прокопченной избе Самохину показалось невыносимо душно. Оконца были наглухо закрыты. Скупой свет маленькой лампы с обломанным, черным от копоти стеклом, которую зажег отец, обнажил убогую обстановку: в углу на сене лежал тяжело дышавший теленок; на печи стонала больная мать; младший брат и сестренка спали на полу, прикрытые рваным тулупом; потемневший образ Николая-чудотворца глядел настороженными глазами; кучки тараканов шевелились на потолке и стенах.
После короткого разговора улеглись спать. Самохин лежал с открытыми глазами. Впервые за долгое время он думал ясно и осмысленно. Духота в избе донимала его — он с трудом дышал. Мать кашляла и стонала. Теленок, очевидно больной, вдруг начал хрипеть. Самохин, приподнявшись на локте, со страхом прислушивался к стонам матери, к хрипу теленка. Что-то смертельно-печальное чудилось ему в этой нищей халупе. Точно впервые увидел он ее такой, какой она была на самом деле, похожая на миллионы русских бедных изб. Он, живя здесь, никогда не замечал ни этой нищеты, ни этой грязи. И то прекрасное состояние, что владело им, пока он ехал и шел сюда, оставило его. Опять печаль и тревога проникли в душу, тянули куда-то вниз, в черную, злую ночь, и ему вдруг показалось, что настороженные глаза Николы-чудотворца — это глаза взводного Машкова.
Утром мать, охая, разводила маленький позеленевший самовар. Пришли соседи, узнавшие о приезде солдата. Было воскресенье, народ не выходил работать в поле.
Самохин уныло сидел за столом. Прежняя тяжесть сковала голову. Железные обручи еще туже стянулись, давили ее, тревожные мысли застилали мозг. Его о чем-то спрашивали, и он с трудом улавливал смысл слов. Вздохнул и спросил:
— Ну, как живете вы тут?
— Так и живем, — недобро усмехаясь, сказал кривоплечий крестьянин, мохнатый от волос, которыми заросли его голова, шея, лицо. — Вчера были голы, нынче голы, завтра опять же голы будем. Блох у нас много, блохами мы богаты. Ты вот лучше расскажи, солдат, что нового слыхать у вас? Мы ведь как в колодце, ничего не знаем, ничего не видим…
— Служу… — безразлично ответил Самохин.
— Служи, служи, — сдержанно посоветовал худой крестьянин с тонким, острым подбородком. — Ни себе, ни нам никакой радости не выслужишь.
— Война, говорят, будет, — угрюмо сказал кривоплечий мужичок, — с турками либо опять с японцами. Не слыхал?
— А про землю нет закона? — настойчиво допытывался старик с серыми, похожими на пыльную паутину волосами и красными, больными глазами. — Земли не прирежут нам?
Самохин сидел сгорбившись, плохо слушал, плохо соображал. С того часа, когда увидел он родную избу, отца и мать, всех этих людей — таких жалких и несчастных, мысли его спутались в темный липкий ком, и с каждой минутой он чувствовал себя все хуже, все тревожнее.
Что-то не осуществилось здесь из того, чего он ждал, не было ему никакого облегчения, никакого покоя в родном доме. Вот сидят вокруг родители, соседи, но никто не может помочь ему, а наоборот — еще горше, еще страшнее становится, когда смотришь на них… Тоска, тоска в этих черных стенах! Все они, эти люди, уставились на него, взгляды их так тяжелы, что нет сил сносить их.
— Пауки… — жалобно говорит Самохин. — Ой, пауки… сколько же их… На меня ползут… Давите, давите пауков!..
И, заметив страх на лицах сидящих в избе односельчан, он сразу умолк. И уже будто не изба это, а казарма. В тумане плывут перед ним фигуры Машкова, Руткевича, Смирнова, а в уши врывается хрип теленка, а за ним — голос мохнатого мужика: «Мы в колодце, ничего не знаем, ничего не видим…» Все смешалось, двинулось на него, сейчас сомнет, задушит. А чье это желтое, расплюснутое лицо с горячими дырами глаз налезает на него? Он быстро застегивает на золотые пуговицы с орлами свой сияющий мундир, трет рукой пуговицы, чтобы они блестели еще ярче.
— Смирно! — громко командует Самохин. — Стоять и тянуться передо мною!
Он важно влез на табуретку, затем — на стол, давя ногами блюдца, чашки.
Все сидевшие в избе вскочили в страхе, кто метнулся к дверям, кто забился в святой угол, быстро и мелко крестясь.
— Спортили человека, — испуганно пролепетал худой мужик. — Вези, его, Ефим, обратно, к царю. На что он тебе такой? Вези…
Потеряв сознание, Самохин тяжелым мешком повалился со стола на пол.
Бредов все еще не верил, что едет в Петербург. Перекладывая свои вещи в тесном купе, он с нежностью думал о Денисове, который устроил ему эту командировку. Выйдя в коридор покурить, он встретил там невысокого, кряжистого офицера, лет пятидесяти, с пышными усами и маленьким шрамом на правой скуле. Глаза у того чуть косили, и это придавало им ласковое и немного насмешливое выражение. Он пристально поглядел на Бредова и, выпустив в открытое окно дрожащее колечко папиросного дыма, мягко спросил:
— Сережа Бредов, кажется?.. Не узнаете?
Бредов подошел ближе, напряженно всматриваясь в лицо офицера, потом заулыбался и радостно протянул руку:
— Дядя Костя! Виноват! Господин полковник… Константин Иванович…
— Эге ж, — ответил полковник, здороваясь. — Можете звать дядей Костей. Подумать, сколько лет уже прошло с тех пор, как вы были юнкером и ухаживали за моей племянницей Зиночкой?
— Кажется, десять, — краснея, ответил Бредов, — или даже одиннадцать.
Через несколько минут, узнав все, что полагалось узнать друг о друге при внезапной встрече, они заговорили о беспокойной обстановке в стране.
— Сейчас Петербург в большой горячке, — сказал полковник, стряхивая пепел с папиросы. — Мы приедем туда к началу интересных событий.
Полковник был артиллеристом и работал в Петербурге в Главном артиллерийском управлении.
— Что-нибудь серьезное? — обеспокоенно спросил Бредов.
Косящие глаза полковника смотрели на него спокойно, внимательно, тоненькие насечки морщин сбоку придавали глазам выражение усталости.
— По-моему, мы накануне войны… Я только что обследовал приготовления, которые ведутся крайне спешно и, я бы сказал, нервозно… Пойдемте ко мне, Сережа. Я в купе один.
Они сели на диван и продолжали беседу.
— У каждого свое болит! — Полковник дружески положил руку на колено Бредова. — Честный офицер чувствует также и другую боль — ему дорога русская армия, ее мощь, ее доброе имя.
Он вопросительно посмотрел на Бредова умными глазами, и штабс-капитан горячо ответил:
— Совершенно правильно, Константин Иванович! Я дрался с японцами. Готов еще и еще драться с кем угодно, хоть с самим чертом, за славу русского оружия. Но пускай дадут нам возможность учиться военному делу. Пускай поставят армию на должную высоту…
— Высота, высота… — сердито и печально повторил полковник. — Утверждают, что мы стоим на самой что ни есть высоте боевой подготовки. Вот, не угодно ли?
Он достал из большого коричневого портфеля аккуратно сложенную газету.
— Прошу внимания, — сухо произнес он. — Статья заслуживает этого.
И начал читать выразительно, подчеркивая голосом те места, которым придавал особое значение:
— «Мы получили из безупречного источника сведения, не оставляющие сомнения, что Россия, по воле своего верховного вождя, поднявшая боевую мощь армии, не думает о войне, но готова ко всяким случайностям. С гордостью мы можем сказать, что для России прошли времена угроз извне, России не страшны никакие окрики… Россия готова…» — Полковник мельком взглянул на Бредова. — «В полном сознании великодержавной мощи нашего отечества, так нелепо оскорбляемого зарубежной печатью, мы только группируем главнейшее из сделанного по указаниям монарха за это время… Офицерский состав армии значительно возрос и стал однородным по образовательному цензу, весьма поднятому по сравнению с прежним. Нынешний офицер получает не только военные знания, но и военное воспитание».
Бредов сделал резкое движение.
— «…Русская полевая артиллерия, — продолжал полковник, — снабжена прекрасными орудиями, не только не уступающими образцовым французским и немецким, но и во многих отношениях их превосходящими. Осадная артиллерия сорганизована иначе, чем прежде, и теперь имеется при каждой крупной боевой единице. Уроки прошлого не прошли даром. В будущих боях русской артиллерии никогда не придется жаловаться на недостаток снарядов. Артиллерия снабжена и большим комплектом и обеспечена правильно организованным подвозом снарядов».
Он повел шеей, как будто воротник давил его. Дочитав статью, принялся искать спички, лежавшие возле него, и не находил их.
— Смелая статья, — заметил Бредов. — Автор, несомненно, опирался на самые достоверные, на самые проверенные сведения. Интересно, кто он?
Полковник не ответил.
— Курите! — Он раскрыл портсигар, нетерпеливо схватил спички.
Голубоватые облачка табачного дыма повисли в воздухе.
— Не берусь во всем оспаривать правильность этой статьи, — вполголоса сказал полковник. — Безусловно, она преследует политическую цель. Ее прочтут во всем мире. Кое-кому она даст понять, что с нами нельзя шутить. Хотя вряд ли военная разведка наших будущих противников позволит себя провести. Надо думать, что сведения о наших вооружениях у них самые точные. Но у нас-то, у нас, в России, тоже ведь прочтут эту статью! Повторяю, что в целом я не опровергаю ее. Но в той части, которая касается артиллерии, тут карты в моих руках. Да, да, это чистейшая правда: наша полевая артиллерия — лучшая в мире, и наши артиллеристы — молодцы!
Он провел рукой по седеющим волосам и мягко улыбнулся.
— Превосходнейшая артиллерия, но… чем она, позвольте вас спросить, будет стрелять через два месяца после начала войны? На легкое орудие установлена норма в тысячу снарядов. Фактически же у нас этой нормы нет! Киевский округ имеет только по шестьсот снарядов. И Главное управление генерального штаба считает эти цифры достаточными, исходя из опыта японской войны. Как будто за десять лет ничего не изменилось!
— Все же не так уж мало снарядов приходится на одно орудие, — неуверенно закончил Бредов.
— Чепуха! Это мизерная, гибельная цифра, особенно если учесть тот факт, что наши заводы не в состоянии заметно увеличить выработку снарядов. Еще Николай Первый (а он, к вашему сведению, огня терпеть не мог) и тот для своей гладкоствольной артиллерии еще тогда, шестьдесят лет тому назад, имел норму в пятьсот выстрелов на орудие! Так неужели же наша скорострельная артиллерия может обойтись тысячью снарядов на орудие? Да к тому же, повторяю вам, их нет, понимаете — просто нет! И вообще, о каком порядке может идти речь, если в одних гаубичных дивизионах нет снарядных ящиков, в других нет ни парков, ни снарядов паркового запаса, а тяжелый дивизион одного пограничного округа, к вашему сведению, совсем не мог мобилизоваться из-за полнейшего отсутствия материальной части… И это все в первоочередных частях, а во второочередных и вовсе — кукиш!
Лицо у полковника посерело, по-старчески отвисла нижняя губа.
— Вот тебе «наша артиллерия никогда не будет нуждаться в снарядах», — жалобно проговорил он. — Тяжелая артиллерия значится у нас в боевом расписании, а у нее совсем нет боевых комплектов! Пожалуйста — воюйте при таких обстоятельствах, заявляйте на весь мир, что Россия готова к войне!
— Кто же все-таки мог решиться написать такую статью? — Бредов развел руками. — И как разрешили ее напечатать?
— Кто? — иронически переспросил полковник и яростно посмотрел на Бредова. — Вам хочется знать? Извольте! Автор сей статьи — военный министр Российской империи генерал-адъютант Владимир Александрович Сухомлинов! Он напечатал ее в «Биржевых ведомостях» после того, как комиссия генерала Поливанова, его помощника (в которой, по несчастью, работал и я!), признала все эти гибельные нормы достаточными, признала, что на винтовку можно обойтись восемьюстами восьмьюдесятью патронами, и число всех запасных винтовок определила семьсот сорок тысяч! Чем же, спрашивается, будут вооружены пополнения, чем будет заполнена убыль в винтовках, неизбежная во время войны? Наконец, откуда возьмутся патроны, если все наши заводы могут изготовлять в год только по двести пятьдесят патронов на каждую из имеющихся винтовок?.. Вот, к вашему сведению, как мы готовы к войне! — глухо произнес полковник и, грызя мундштук папиросы, выплевывал его по кусочкам, не замечая того, что делает.
Вагон от быстрого хода поезда покачивало. В окне проносились деревья и телеграфные столбы. Бредов взглянул на полковника, перевел глаза на окно, и вдруг странное ощущение овладело им… словно всего этого не было; не было ни Константина Ивановича, ни его страшных признаний, ломающих устоявшиеся понятия, не было и этого поезда, идущего в Петербург, и никто не читал статьи военного министра… Есть полк — десятки офицеров, тысячи солдат, тысячи винтовок, один из многих полков, которые все вместе с артиллерийскими бригадами и дивизиями кавалерии образуют великую, непобедимую, русскую армию… Петр Великий, Полтава, Суворов, Кутузов, разгром Наполеона, Скобелев, Плевна, Карс — вот она, гремящая победами и музыкой доблестная история этой армии! Какой сладкий, холодящий трепет охватывал его, когда в Москве, в храме Спасителя, он читал имена героев, золотыми буквами начертанные на мраморных досках! Когда на каменных обелисках Бородинского моста он видел бессмертные фамилии тех, кто спас Россию в двенадцатом году, он снимал фуражку, как перед святыней. Вот это и есть армия, родная, храбрая, победоносная! Что же за кощунственные слова произносил здесь Константин Иванович? Разве мог, разве имел право так говорить старый штаб-офицер? Нет, нет! Какая-то дикая шутка…
Бредов поднялся. Молча отодвинул дверь, вышел боком, не глядя на полковника. Залез к себе на верхнюю полку и долго лежал лицом к стене. Было тяжело, неудобно. Пугали и мучили страшные мысли…
Никто не знал, куда пропал Мазурин. Ротное начальство не беспокоилось о нем, на вопросы солдат не отвечало или отделывалось неопределенными словами.
Больше всех тревожился Карцев. «Не случилось ли что-нибудь плохое с Мазуриным? Как он нужен мне в эти дни!» Раздача листовок, посещение нелегальной квартиры, беседы со многими солдатами и с офицером Казаковым — все это было для него новой, волнующей работой, которая пролагала путь в иную жизнь. Карцеву иногда казалось, что слишком тихо и кропотливо движется все вперед. Он знал, что нельзя спешить, но все же нетерпение часто охватывало его. Медленно и тяжело осваивал он, что подполье — это будни, повседневный, незаметный труд.
В версте от лагеря, вблизи железной дороги, в квартире рабочего Куропаткина (товарищи в шутку называли его «генералом Куропаткиным») была устроена подпольная читальня для солдат. Куропаткин жил изолированно, и ходить к нему можно было без особого риска. И вот здесь, через несколько дней после исчезновения Мазурина, Карцев узнал о его судьбе от поручика Казакова, изредка появлявшегося в читальне.
— Я еще не выяснил причину ареста, — сказал Казаков. — Думаю, не особо важная зацепка, потому что пока никого из наших не арестовали и квартиры не нашли. Но надо быть теперь вдвойне осторожными.
Поручик был неспокойный, подвижной человек. Работал он на доставке нелегальной литературы. Когда отбывал воинскую повинность (служил он вольноопределяющимся), ему партия поручила остаться на военной службе, чтобы оживить ослабевшую в армии подпольную работу. И, несмотря на отвращение к обществу юнкеров, большею частью поверхностных и мало развитых людей, он окончил училище и стал офицером. Не желая навлечь на себя подозрение в неблагонадежности и тем самым сорвать партийное дело, он держался осторожно, не фамильярничал с солдатами, тихонько прощупывал настроение офицеров и, связавшись с фабричным социал-демократическим комитетом, куда имел явки, понемногу организовывал ротные и батальонные кружки.
В июньские дни тысяча девятьсот четырнадцатого года в стране вспыхнули рабочие забастовки. Усилили свою деятельность и солдатские кружки. Отсутствие Мазурина сказывалось настолько заметно, что Казаков и Балагин, посовещавшись между собой, решили просить у подпольного фабричного комитета опытного агитатора, знакомого с местной военной жизнью. Балагин считал, что положение сейчас очень выигрышное и нельзя им не воспользоваться. Балагин нравился Карцеву. Стройный, с золотистыми волосами, чуть рябоватый, он хорошо рассказывал о Екатеринбургской большой стачке, в которой участвовал.
Пробовали привлечь к работе Орлинского, но тот не согласился вести беседы с солдатами о значении рабочих забастовок, о классовой борьбе, о приближающейся революции.
— Где вы видите революцию? — пренебрежительно говорил Орлинский. — По-моему, ею нигде и не пахнет. Забастовки происходят часто, но от них до революции — тысяча верст! Это случайные эпизоды, не больше, неразумные вспышки, не приводящие к цели. Надо раньше воспитать рабочих…
— Чепуху вы городите! — возражал Казаков. — Несомненно, мы стоим перед большим революционным подъемом. Почитайте хотя бы газеты, если не верите другим источникам. В Баку, в Риге, в Петербурге, в Иваново-Вознесенске, во всех промышленных городах бастуют сотни тысяч рабочих! Как здорово они держатся! Кто знает, может быть, мы перед повторением девятьсот пятого года? Значит, надо изо всех сил агитировать армию!
Куропаткинская квартира превратилась в боевой центр подпольной работы. Фабричный комитет присылал сюда своих лучших агитаторов. Больше других до своего ареста работал Мазурин. В беседах с солдатами он опирался на хорошо известные им события (покушение на Вернера, арест ефрейтора Защимы, побег Мишканиса, причины сумасшествия Самохина), обсуждая и объясняя их, переходил к обобщениям, наталкивая своих слушателей на ясные и простые выводы. Он доставал подпольную военную литературу девятьсот пятого и шестого годов, полную революционного огня, хорошо освещавшую солдатскую жизнь и во многом свежую и не устаревшую еще и сейчас, кропотливо подбирал газетные вырезки о забастовках, номера «Правды» и подробно рассказывал, почему и с кем борются рабочие и какая связь существует между ними и солдатами. В читальню приходили новые, приглашенные своими товарищами солдаты, смущаясь от непривычки, неловко садились, читали, разговаривали, неуклюже и робко задавали вопросы, спорили.
И вот — нет Мазурина… «Кем, кем его заменить?.. — не переставал думать Карцев. — Петровым? Нет! С ним творится что-то неладное».
Раза два заходил Петров к Куропаткину. Похудел, был угрюм. Карцев заботливо расспрашивал его, но тот сначала отделывался пустыми фразами, а потом как-то рассказал…
Однажды, гуляя по лагерю, он услышал знакомый хрипловатый голос, окликнувший его. В дверях маленького барака в расстегнутом кителе стоял Тешкин. Петров избегал с ним встреч. Тешкин казался ему большим, мохнатым насекомым с узенькими липкими щупальцами.
— Почему не заходите? — спросил штабс-капитан.
— Занят, — холодно ответил Петров.
— Интересная сегодня газетка, — вяло сказал Тешкин и взял номер «Русского слова», лежавший на скамейке. — Сербы укокали австро-венгерского престолонаследника Франца-Фердинанда вместе с женой… Да заходите.
Зажав газету в руке, он отступил в глубь барака.
Как и городская квартира, его лагерный барак носил следы грязи и беспорядка. Наливая вино в стакан, он говорил:
— Убили наследника. Ну и царство ему небесное! Нарушили этим убийством какой-то жизненный принцип? Сомневаюсь. Что такое жизнь? Медленное умирание, постепенное гниение на корню. А тут один миг! Надо рассматривать такую смерть как простое ускорение затянувшегося процесса.
И, исподлобья посмотрев на Петрова, спросил:
— Вы никогда не думали о том, что высшей силе, управляющей нами, следовало бы позволить человеку истратить сразу весь запас наслаждений, отпущенный ему на этой бренной земле, но, конечно, с условием, чтобы ощущения эти возрастали пропорционально к быстроте их расходования? Не думали, нет?
Он весь изгибался, длинный, какой-то скользкий, невыразимо противный.
Петрову не хотелось спорить. Он попросил газету и ушел. В палатке прочитал коротенькую телеграмму, не выделявшуюся среди других сообщений, об убийстве в Сараеве девятнадцатилетним сербским гимназистом Гаврилой Принципом австрийского престолонаследника.
— От маленькой спички большой пожар может вспыхнуть, — сказал Петров. — Понимаешь, Карцев!
— Да! И знаю: гнилое быстро горит.
Уже несколько дней Бредов жил в Петербурге. Он не был здесь два года — со времени своих последних неудачных экзаменов в академию генерального штаба. Как и прежде, он с восхищением рассматривал великолепные улицы столицы, стоял под аркой Главного штаба, обозревал царственную перспективу Дворцовой площади и на ней тонкую стройную колонну, увенчанную ангелом с крестом, — символ могущества России. Он прошел на Сенатскую площадь и долго разглядывал позеленевшего вздыбленного коня, ногами топчущего змею, и темную мускулистую руку всадника, протянутую к Неве.
В первый раз он вошел в помещение генерального штаба и был подавлен: все здесь — и массивная мраморная лестница, и величественные, как в храме, колонны, и легко несущиеся по коврам украшенные аксельбантами «жрецы» этого храма — показалось ему полным особого значения.
Ах, как горько сознавал провинциальный армейский офицер, штабс-капитан Бредов, свое ничтожество! Кто он, что представляет собой? Может ли он надеяться, что когда-либо будет командовать дивизией или хотя бы полком? Нет, нет! Вот этот стройный капитан, так уверенно идущий по самой середине ковра, этот наверняка будет командовать дивизией. Он — будущий полководец, академия раскрыла перед ним свои великие тайны, передала ему «святая святых» военного искусства. Как гордо держит голову капитан, как спокойны его движения! Если будет война — широкая дорога славы откроется перед штабным жрецом: рота, батальон, штаб дивизии, блестяще выполненная тактическая задача, ордена Анны и Владимира с мечами, Георгий и золотые зигзаги генеральских погон — высшая честь, высшая награда!
Бредов, сутулясь, охваченный слабостью, переступил порог кабинета. Там рассеянно прочитали его командировку, даже не бросили на него ни одного взгляда, красный карандаш черкнул наискось по бумажке несколько слов, и равнодушный голос произнес:
— В комнату через коридор. К капитану Новосельскому.
В комнате капитана его ожидал приятный сюрприз. Новосельский учился вместе с ним в юнкерском училище. Он сразу узнал Бредова и протянул ему обе руки. Это был широкоплечий, полноватый человек с мягкими карими глазами и светлыми вьющимися волосами. Портили его только чересчур крупные и частые зубы.
— Люблю случайности, — весело сказал Новосельский, — но, конечно, тогда, когда они приятны. Ну, ну, рассказывай, дружище, как живешь? Что занесло тебя во град Петров, где нам судьбою суждено в Европу прорубить окно! — перефразировал он пушкинские строки и рассмеялся. — Может быть, и ко мне какое дельце есть? Впрочем, вот что, дружище: не место здесь разговаривать.
Он пригласил Бредова пообедать с ним в ресторане. Через полчаса они вышли из штаба.
— Счастливый, — говорил Бредов, — тебе удалось то, над чем я напрасно бился. Должен сознаться — чертовски завидую тебе!
— Не в чем завидовать, — махнул рукой Новосельский, и веселость его как рукой сняло. Он нахмурился, не желая, видимо, договаривать своих мыслей, долго закуривал папиросу, и некоторое время они шли молча.
Морская улица кипела шумным, густым потоком людей и экипажей. Коляски, пролетки, пышные фаэтоны тянулись длинной вереницей и сворачивали на Невский. Широкие тротуары проспекта были забиты толпой. Люди шли тесно, чуть торжественно, в привычном для петербуржцев тягучем ритме, разговаривали, смеялись, шутили, раскланивались со знакомыми.
Новосельский и Бредов вошли в ресторан. Бородатый швейцар, низко поклонившись, принял у них фуражки. Метрдотель, похожий на министра, почтительно склонил лысую голову, оправил крахмальную скатерть на столике и положил перед Новосельским меню в роскошной кожаной папке.
Бредов настойчиво расспрашивал Новосельского, как проходит работа в генеральном штабе. Особенно интересовали его последние достижения военного дела, реорганизация армии.
Новосельский пил вино и, прищурившись, смотрел куда-то в сторону.
— Да как тебе сказать, — неопределенно ответил он. — Рекомендую… подлить шато-икем!
— Ну, как не стыдно! — укоризненно сказал Бредов, наливая в бокал золотистое вино. — Господи, Леонид, тебе ли быть недовольным? Ведь не в медвежьем уголке ты сидишь!
— А я вот подумываю как раз о том, что не плохо было бы послужить в армии, в одном из тысячи медвежьих уголков, о которых ты говоришь.
И положил на руку Бредова свою — широкую, белую, с выхоленными ногтями.
— Со стороны все кажется иначе, — как бы объясняя самому себе вдруг возникшую мысль, говорил Новосельский. — Ну да, существует генеральный штаб, который поставляет для армии полководцев, создает самую передовую военную науку, использует самое драгоценное из прошлого боевого опыта, совершенствует искусство управления войсками, проявляет творческую инициативу… так, по-твоему, обстоит дело?
— Конечно! — горячо подтвердил Бредов. — Я с тобой совершенно согласен, таким мне и кажется генеральный штаб. Новые идеи, новые знания. Ах, как хочется вырваться из провинциальной трясины! Я допускаю, что у вас в штабе есть свои слабые стороны, есть, конечно, и плохие работники, но, если взять в целом, все же свет к нам, в армию, идет от вас!
Новосельский медленно пил вино.
— Да, луч света в темном царстве… — чуть слышно сказал он и улыбнулся.- — Кажется, так Добролюбов назвал свою статью о «Грозе» Островского? Не думай, что… это я так, без всяких аллегорий… Че-еловек! — позвал он лакея. — Кофе нам, черного, с поджаренным миндалем! Кстати, на днях приезжает Пуанкаре. Я тебе достану билет.
Через час они вышли из ресторана и расстались у Казанского собора. Бредов решил прогуляться по городу. Прошел по Невскому до Садовой, потом сел в трамвай. Вылез где-то на окраине и остановился в удивлении. Казалось, что в несколько минут его перенесли в провинцию: так не были похожи эти низкие, грязные домишки, плохо мощенная улица, бедно одетые пешеходы на блестящий центр столицы. Он миновал величественную арку Нарвских ворот и медленно шел по узкому, заросшему по краям травой тротуару, досадуя на себя, что забрался в такую дыру. Улица упиралась в желтый двухэтажный дом и под крутым углом заворачивала вправо. Глухой шум вырвался оттуда, и Бредов увидел вдали красные корпуса и тяжелые черные трубы. Толпа колыхалась возле завода, доносились громкие крики. Бредов подошел к воротам. Слева от завода выполз трамвай, но толпа вдруг загородила дорогу. Из вагона выбегали люди. Тяжело качнувшись, облепленный с одной стороны плотными гроздьями людей, вагон начал медленно валиться и рухнул с грохотом, и скрежетом.
— Что такое? С ума я, что ли, сошел? — недоумевал Бредов.
Заметив городового, жавшегося к стене, он подозвал его.
— Бастуют, ваше благородие! — пояснил тот. — Уже третий день волнения. Разгоняют их, а они опять… Отчаянный народ эти путиловцы! Сейчас наряд приедет. По телефону сообщено.
Бредов смотрел, глубоко пораженный. На его глазах строилась баррикада, красный флаг взвился над ней, кто-то начал говорить, и толпа сразу затихла.
— Товарищи бакинцы, мы с вами! Ваша победа — наша победа!
«Кто такие бакинцы? — подумал Бредов. — Ах, да, ведь в Баку забастовка… Значит, все они заодно?.. Чего хотят они? Чем недовольны?»
Слышно было, как во дворе шумела толпа. Сторож выглянул в окошечко и торопливо отворил узкую калитку, очевидно приняв Бредова за полицейского. Бредов нерешительно шагнул, калитка сейчас же закрылась за ним, и через табельную он прошел во двор. Там его поразило огромное скопление людей, слушавших несколько ораторов. Он со смятением смотрел на решительные, взволнованные лица… Такие лица бывают у солдат перед боем.
Митинг кончился. Толпа хлынула к воротам, но они не открывались. Люди кричали, волновались, стучали в железный заслон. И вдруг ворота распахнулись. Конная полиция галопом бросилась на толпу, пешие отряды городовых с поднятыми шашками появились сбоку (вероятно, они раньше притаились на территории завода). Шашки и нагайки мелькали в воздухе, кони, храпя, напирали на толпу, метавшуюся по двору. Люди не знали, куда спрятаться. Ворота снова были наглухо захлопнуты. Где-то пронзительно и страшно крикнул тоненький, совсем мальчишеский голос. Выстрелы, крики, вой наполнили двор. Недалеко от Бредова стоял пристав и, наклонив толстую, вздрагивающую шею, стрелял из револьвера в толпу.
Бредов очнулся на улице. Он бежал по тротуару, ничего и никого не видя перед собой.
Это был день шестнадцатого июля тысяча девятьсот четырнадцатого года, день расстрела путиловцев…
Газеты мало писали о рабочих забастовках. Девяносто тысяч человек бастовали в одном лишь Петербурге, каждый день происходили столкновения рабочих с полицией, но все это отмечалось на последних страницах газет короткими заметками, набранными петитом. Зато передовые статьи, длинные корреспонденции и жирные заголовки извещали о предстоящем визите президента Франции Раймонда Пуанкаре.
В начале июля четырнадцатого года в Ревеле и Петербурге гостила английская эскадра под флагом адмирала Битти. Теперь Франция демонстрировала крепость своего союза с Россией, которую она считала в зените силы и славы. В прошлом году дом Романовых праздновал трехсотлетие своего царствования, и новые события словно подтверждали и укрепляли блеск династии. Дипломаты ставили последние точки в своих соглашениях, превращая тройственное согласие — Англии, Франции и России — в тройственный союз, Антанту.
Еще за год до сараевского выстрела русский посол в Бухаресте в интимнейшей обстановке уверял румынского министра иностранных дел, что Россия отдаст им Трансильванию, если Румыния вместе с нею выступит против Австрии. Министр иностранных дел Сазонов не уставал спрашивать Англию о Дарданеллах, и Бьюкенен, английский посол, советовал ему терпение и терпение, утверждая, что проливы от России не уйдут. Проливы — за гибель морского могущества Германии, дерзко захватывавшей лучшие рынки Англии! Миллиарды франков — за Эльзас и Лотарингию! Никогда еще перспективы войны не казались так заманчивы для России, никогда еще так горячо не работала военная партия при дворе, как теперь. Столица видела у себя в прошлом и позапрошлом годах толстого, усатого человека, с красным лицом сангвиника. Его с пышным почетом принимали русские генералы. Жоффр позволял себе многое. Он инспектировал планы русского генерального штаба, указывал, в постройке каких стратегических дорог на германской границе заинтересована его страна, и даже определял, сколько германских корпусов должна задержать в Восточной Пруссии русская армия. Его указания основывались на веских аргументах. В секретных бумагах генерала хранились копии писем председателя комиссии парижских биржевых маклеров де Варнейля к руководителям российской финансовой и иностранной политики — министрам Коковцову и Сазонову. Де Варнейль, от которого крепкие нити шли к крупнейшим французским банкам, к королям тяжелой промышленности и к пушечным заводам Шнейдера — Крезо, гарантировал России ежегодный выпуск в Париже обязательств на полмиллиарда франков. Эти деньги давались под двумя условиями, которые председатель парижской биржи поставил по предложению французского генерального штаба: во-первых, Россия немедленно приступает на своих западных границах к постройке стратегических железных дорог, признанных на совещании французского и русского генеральных штабов необходимыми для будущей войны; во-вторых, мирный состав русской армии будет значительно увеличен.
Жоффр приезжал как посланец военной силы Франции, опасавшейся воинственной Германии, но фактически он был полномочным лицом французской биржи. Нельзя зевать: вовсю разгоралась борьба между двумя металлургическими концернами. Столицей одного был Париж, другого — Берлин. Подогревая патриотические настроения своих соотечественников и давая деньги на увеличение русской армии, французские биржевики мечтали о саарском угле и лотарингской руде, без которых они не могли развивать металлургию.
Обе империалистические коалиции — Антанта и центральноевропейские державы — лихорадочно готовились к войне. В Германии и в Австрии тоже делали все, чтобы скорее зажечь военный факел. В Германии считали, что настоящий момент благоприятен для выступления. Боеспособность России там расценивали очень низко, новые русские корпуса еще не были сформированы, и немецким банкирам и их оруженосцам грезилась свободная дорога на Багдад, прорубленная победным германским мечом, владычество на Ближнем Востоке и далее — угроза Англии в ее наиболее уязвимых местах. В Берлине хорошо знали, что поддержка венского ультиматума Сербии — это война, и сознательно шли на это. Опасаясь, что Сербия может принять австрийский ультиматум и тем самым предотвратить войну, Вильгельм бешено толкал своего союзника на неуступчивость (тут он, впрочем, ломился в открытую дверь, так как Австрия с неприкрытой поспешностью сама ускоряла события), придумал требования, совершенно невыполнимые для Сербии.
Начальник германского генерального штаба Мольтке-младший уверял, что никогда не будет столь выгодного момента для выступления, как сейчас. В военном ведомстве были так предусмотрительны, что даже заручились согласием вождей социал-демократии не выступать против войны. Все было готово. Начиналась разбойничья драка, в которой обе стороны стремились ограбить своих противников, неся гибель и разорение народам воюющих стран, но прикрывая свои грабительские стремления высокими лозунгами о защите отечества. Россия мечтала о проливах, Германия — о богатых английских колониях, Англия — об уничтожении морского могущества Германии.
Двадцатого июля французский президент на крейсере «Франс» прибыл в Кронштадт, встреченный русским императором, а на следующий день его ждали в Петербурге. Городская дума готовила президенту пышный прием. Из Ниццы были доставлены живые цветы, заказаны обеды на тысячи приборов, украшены набережная и улицы, по которым должен был проехать Пуанкаре. Устроители торжеств с тревогой и опаской везли президента по петербургским проспектам. Каждую минуту можно было ожидать неприятностей. Второй Петербург — рабочий — не встречал Пуанкаре, он бастовал. С утра двадцатого июля Петербург принял облик, напоминающий дни девятьсот пятого года. Кроме казенных заводов, все остальные бастовали. Сто пятьдесят тысяч рабочих вышли на улицы с красными флагами. Стачка, начавшаяся в знак солидарности с бастующими бакинцами, после расстрела путиловцев стихийно разрослась. На улицах останавливали и опрокидывали трамваи, строили баррикады. Все усилия полиции сводились к тому, чтобы не допустить рабочих на Невский к моменту проезда Пуанкаре. И центр был пока спокоен. Окраины же полыхали огнем.
Бредов поехал в Сестрорецк к знакомым. Он сидел у окна, читал газету. Вдруг поезд остановился. Несколько человек побежали к паровозу, и вскоре оттуда донесся пронзительный свист и шипение: выпустили пар из котла. Бредов выскочил из вагона. Во все стороны бежали пассажиры. Толпа рабочих с красными флагами окружала поезд. Старый машинист вылезал из своей будки, не сопротивляясь двум рабочим, легко подталкивавшим его.
— Ваша сила, ваша сила, — громко и как будто весело говорил он, вытирая руки паклей. — Сам я машины не оставлял.
— Что вы делаете? — сердито спросил Бредов, подходя к паровозу. — Прекратите сейчас же это безобразие! Ведь вы мешаете движению!
— Почему же безобразие? — со спокойным недружелюбием сказал пожилой рабочий в узком пиджачке. — Война — это, господин офицер, война!
Бредов почувствовал себя нехорошо: с полной ясностью ему представилось, что он стоит среди чужих, непонятных ему людей. Они такие же русские, как и он, но живут и думают совсем по-иному; в их массе, как в вулкане, скрыто глухое, опасное брожение больших сил, и непонятно ему, что же именно движет эти силы, что заставляет их бороться со старой, налаженной веками жизнью. Он испуганно посмотрел кругом и медленно пошел прочь.
В городе не ходили трамваи. Только пройдя несколько улиц, Бредов смог найти извозчика.
Извещения о мобилизации были расклеены по всем улицам Петербурга. Появилось множество пьяных, какие-то подозрительные личности носились с царскими портретами, заставляли всех встречных обнажать перед монаршим ликом головы и петь гимн, избивали чуть ли не каждого, кто недостаточно быстро снимал шапку. К Зимнему шли тысячи людей, но полиция никого близко к ограде не подпускала. Народ, даже патриотически настроенный, был все же подозрителен: и десяти лет не прошло еще с тех пор, когда на этой самой площади стреляли в толпу, как и теперь шедшую с царскими портретами.
Офицеров приветствовали на улицах. Орущие краснолицые люди остановили Бредова на Суворовском проспекте и стали его качать, высоко подбрасывая в воздух. Толстый человек, по виду лавочник, и другой — в очках и чиновничьей тужурке, — держали его за плечи (было больно, неудобно и стыдно) и кричали вместе с другими:
— Да здравствуют русские офицеры! Да здравствует русская армия!
А чиновник визгливо добавлял, влюбленно стискивая Бредова:
— Живио Сербия!
В день объявления войны Германией самая многолюдная манифестация направилась к Зимнему дворцу. Она состояла главным образом из торговцев, мелких чиновников, гимназистов и людей неопределенных занятий. Было известно, что царь прибыл в Петербург. Во дворце шел молебен, громкое пение хора доносилось через открытые окна на площадь. Потом крики толпы усилились, в разных местах нестройно запели гимн и «Спаси, господи, люди твоя». На балкон вышел царь. Толпа опустилась на колени. Непрерывное «ура» перекатывалось с одного конца площади на другой.
Бредов стоял впереди. Он ясно видел лицо царя, его глаза, бородку, усы. Он пристально, с волнением разглядывал это лицо, искал в нем отражения тех великих чувств и настроений, которые, как в фокусе, должны были быть собраны в монархе. Но видел только равнодушные глаза, туповатый нос и толстые губы. Высокая женщина в белом платье вышла на балкон и остановилась немного позади царя. Бредова поразило лицо царицы. Очень белое, оно выражало неестественное напряжение, тонкие губы были сжаты, глаза смотрели куда-то вверх. Царь шагнул вперед и неловко поднял руку на уровень плеча. Казалось, что он хочет говорить, но, постояв, он поклонился, и торопливо ушел вместе с царицей.
Чувство недоумения и горечи овладело Бредовым. С удивлением он сознавал, что не испытывает особого патриотического подъема. Война была ему приятна, она раскрывала перед ним заманчивые перспективы, но в голову навязчиво лезли ненужные мысли о царе на балконе, о насмешливых разговорах Новосельского, о высказываниях полковника Константина Ивановича, в глазах вставала картина бастующих путиловцев и недавняя манифестация у Николаевского вокзала. Манифестация понравилась Бредову: она шла стройно и тихо, без грубых выкриков, в ее рядах было много студентов, интеллигенции. И внезапно со Знаменской площади, захлестывая стремительным, сильным движением памятник Александру III, выдвинулась рабочая демонстрация. Красные флаги почти закрыли грузную фигуру чугунного всадника, и пение «Марсельезы» смешалось с пением гимна. Какой-то человек проворно залез на цоколь памятника и звонко крикнул:
— Долой войну, долой самодержавие! Да здравствует революция!
Через несколько минут появились казаки. Бредов машинально подобрал кем-то брошенную листовку, прочитал, что это, оказывается, демонстрация против войны, организованная большевиками. «Как можно, — думал он, — в дни общего национального подъема и единения перед лицом врага писать такое!»
«…Ко всем рабочим, крестьянам и солдатам, — читал он. — Товарищи, кровавый призрак веет над Европой. Жадная конкуренция капиталистов («Какая чепуха — при чем тут капиталисты?»), политика насилия и захвата толкает правительства всех стран на путь милитаризма… Долой войну! Война войне — должно катиться мощно по градам и весям широкой Руси. Рабочие должны помнить, что у них нет врагов по ту сторону границ («Да ведь это измена, открытая измена!..»). Царское правительство заявило себя «покровителем и освободителем славянских народов», но мы здесь видим не покровительство, а жажду захвата новых владений… Правительство угнетателей русских рабочих и крестьян («Неправда, скольким крестьянам хорошо живется, есть немало богачей среди них»), правительство помещиков не может быть освободителем: всюду, куда оно ни проникает, оно несет с собой кабалу, нагайку и свинец. Еще не успели смыть рабочую кровь с петербургских мостовых, только вчера весь рабочий Петербург, а с ним и вся трудящаяся Россия объявлены «внутренними врагами», против которых пускали диких казаков и продажную полицию, — теперь их призывают к защите отечества («Да, да, но ведь вы русские, и перед грозной опасностью извне надо забыть все споры — не выдавать же родину на разграбление»)… Солдаты и рабочие, вас призывают умирать во славу казацкой нагайки, во славу отечества, расстреливающего голодных крестьян, рабочих, душащего по тюрьмам своих лучших сынов. Нет, мы не хотим войны! Мы хотим свободы России…»
Под листовкой стояла подпись: «Петербургский комитет РСДРП».
На другой день Бредов, закончив все свои дела, простился с Новосельским и поехал на вокзал. Город кипел. Толпы возбужденных наполняли улицы. Люди спорили, кричали, размахивали руками. Незнакомые останавливали друг друга. Пели хриплые, пьяные голоса. Развевались государственные трехцветные флаги. По Знаменской площади метались газетчики. Один сунул Бредову газету. Через всю полосу тянулись жирные буквы:
«Англия объявила Германии войну. Да здравствует благородная Англия, владычица морей!»
Он уезжал, полный тревожных мыслей, сильно потрясенный всем тем, что видел, узнал и пережил в Петербурге. И когда приехал к себе и увидел маленький тихий городок, полк и товарищей, которые готовились к отправке на фронт, услышал их наивные беседы о войне и ее причинах, он болезненно загрустил. Ему казалось, что он отравлен, что вся эта масса страшных, наступающих, как грандиозный смерч, событий не так уж проста и понятна. Мало того, что он — штабс-капитан Бредов — пойдет на войну драться за царя («Какой он был на балконе Зимнего дворца… хоть бы слово сказал тогда!»), за отечество, за веру («А верю ли я в бога?»), — мало, мало всего этого! Ах, все это не так просто, как считают его товарищи, как, может быть, сам он предполагал до поездки в Петербург. Горько улыбнувшись, Бредов подумал, что было бы, пожалуй, лучше не ездить ему в Петербург.
Был обычный лагерный день. После полевых занятий и стрельбы роты с песнями возвращались в лагерь, поднимая белую, похожую на дым пыль. Васильев был доволен сегодняшним учением. «Надо будет Карцева и Петрова произвести в ефрейторы, — решил он. — Не забыть завтра написать рапорт об этом».
Он остановил роту, скомандовал «бегом по палаткам» и, улыбаясь, смотрел, как, обгоняя друг друга, солдаты бежали с винтовками в руках.
Чухрукидзе и Гилель Черницкий помещались в одной палатке. Стаскивая потемневшую от пота гимнастерку, Черницкий вспомнил, что вечером надо идти на кухню чистить картошку, и сердито поморщился: наряд он получил не в очередь за то, что, читая полученное из дому письмо, не заметил фельдфебеля и не отдал ему чести. «Ничего, скоро все это кончится!» — подумал он и побежал мыться. Возле умывальников было шумно. Солдаты живо перекидывались словами, и кто-то недоверчиво, с досадой сказал:
— Болтают, болтают, а где правда? Опять брешут!
— Побрешут тебе, — насмешливо отвечал голый до пояса рыжеватый солдат, вытиравшийся грязным бязевым полотенцем. — В поход пойдешь — и то верить не будешь. Сказано, что снимаемся на зимние квартиры. Шутишь, что ли?
Новость эта подвергалась яростному обсуждению. Из газет, из разговоров все знали о том, что было тревожно, что в Австрии объявлена мобилизация, но надеялись, что дело до войны не дойдет.
— С кем воевать-то? С австрияками? Пускай они сами с сербами дерутся, нам-то что?
— Прикажут, вот тебе и «что»! Ты и будешь распутывать.
— Как же так, братцы, война? Скоро хлеб убирать, кто же в деревне-то останется?
— Никак в толк не возьму!.. Тихо все, погоды, слава богу, хорошие стоят, хлеба зреют, никакой у нас обиды ни к кому нет, и вот тебе — война! К чему она народу-то?..
— Так народ и спросили!.. Тут, брат, не народное дело.
— Вот оно, горюшко солдатское… Мне ж осенью домой идти, а тут на свадьбу зовут. Эх, землячки-братцы… кому горше солдата живется? Горе-горюшко!..
Заиграли на обед. Из палаток выбежали солдаты, построились повзводно и торопливо пошли к длинным столам под навесом. Обед был хорош — жирные мясные щи (их хлебали досыта, раза два бегая за добавком) и гречневая каша, заправленная говяжьим салом. После обеда пили кислый сухарный квас и, разговаривая, расходились по палаткам.
Карцев остановил Черницкого:
— Полежим в поле, Гилель, душно что-то под брезентом.
Они направились к дороге, проходившей близко от лагеря, перешли на другую сторону и легли в тени кустов. Закурили, и едкий дым махорки пополз, цепляясь о листья, как разорванная паутина.
— Читаю «Русское слово», — сказал Карцев, — каждый день теперь читаю. Знаешь, какая каша заваривается? Жмут сербов до отказа. Пользуются, что народ маленький, и притесняют. А чем сербы виноваты, что Принцип убил австрийского наследника? Разве может весь народ отвечать за одного человека? Обидно за сербов!
— Выбил я сегодня на «отлично», — продолжал Карцев, — но теперь придется иначе стрелять…
Черницкий поднял голову.
— Можно стрелять и без войны, — сказал он. — Вот в Баку и в Петербурге стреляли в рабочих. Зачем нам идти за границу стрелять? Это можно сделать гораздо ближе. Первая мишень — капитан Вернер. Если даже будет война, он, собака, все равно подохнет от русской пули!
Черницкий скоро уснул. Карцев лежал, подложив под голову руки, смотрел в бледное, точно выцветшее от солнца небо. Война представлялась ему далекой, неопределенной, похожей на маневры. Она не вязалась с чувством ленивого покоя, овладевшим им, с безоблачным небом, с мычанием коров, доносившимся из соседнего хуторка. Зачем, кому нужна война? Конечно, нельзя верить газетам, но все-таки нехорошо, что Австрия прижала маленькую Сербию… нехорошо…
Утром отменили занятия. Приказали солдатам укладывать вещи и разбирать палатки. Офицеры о чем-то тихо переговаривались между собой. Впрочем, не все они одинаково вели себя. Молодежь бравировала своей храбростью, молодые подпоручики маршировали, воинственно выпятив грудь, старые офицеры были сдержанны, некоторые даже грустны.
К вечеру лагерь представлял необычный вид. Брезенты, снятые с палаток, лежали на земле. Всюду валялось военное имущество: груды деревянных щитов, цинковые коробки с патронами, выданные для предполагавшейся в тот день стрельбы, учебные винтовки, мишени. Солдаты собирались кучками, испуганные тем новым и неизвестным, что готовил им завтрашний день. Хотя все знали, что полк идет на зимние квартиры, но официально об этом не сообщалось.
Заиграли сбор, и полк в полном походном снаряжении выстроился у разрушенного лагеря. Оркестр стоял возле первой роты. Подъехал на гнедом коне Максимов, поздоровался с солдатами и сказал:
— По приказу государя императора мы идем на зимние квартиры. Там будем ждать новых распоряжений. Время для России тревожное. Немцы грозят нашей великой родине, хотят нас задушить. Они натравили австрийцев на наших братьев сербов, насмехаются над православной верой. Мы им покажем, что такое святая богатырская Русь, покажем, как колет русский молодецкий штык.
Он грозно посмотрел на солдат и крикнул:
— Ура государю императору!
Вялое «ура» послышалось в ответ.
Максимов подал команду, заиграл оркестр, и полк поротно двинулся к станции. В тот же день полк был в казармах, а еще через сутки начали прибывать первые запасные. В помещении десятой роты, где жило около ста солдат, теперь скучилось человек двести пятьдесят. По всему коридору, одни на тюфяках, другие прямо на полу, лежали запасные. Большинство их состояло из пригородных крестьян, но было немало и фабричных рабочих, несколько служащих, чиновников. В городе происходили манифестации. Торговый люд шагал по пыльным немощеным улицам с иконами, царскими портретами и флагами. Среди запасных попадались и унтер-офицеры, но всех их, хотя там были и георгиевские кавалеры, участники японской войны, зачислили рядовыми под команду молодых ефрейторов. Карцева, которого Васильев представил к ефрейторскому званию, назначили отделенным командиром. Среди четырнадцати человек, подчиненных ему, оказался один старший унтер-офицер Голицын — бородатый, почти сорокалетний человек, любивший длинно говорить, но характера приятного и доброго. Он тут же подробно рассказал Карцеву, что дед и отец у него были крепостными князя Голицына и эта фамилия перешла к ним. Он хозяйственно расположился в углу, застелил тюфяк какой-то пестрой тряпкой, повесил на стенку образок Серафима Саровского и сказал, поглядывая на расположившихся вокруг запасных:
— Скушно без сундучка… Сундучок вроде как дом, солиднее с ним, а так — словно перышко: куда ветер, туда и ты.
Карцеву он говорил шепотком, чтобы не слышали другие:
— Плохо это начальство решило — унтер-офицеров рядовыми зачислить. Понадобимся мы им потом, да поздно будет. Ты хоть мне и начальник, а слушайся меня. Я, брат, на японской был и войну понимаю. Ты не гордися, а держись возле меня. Мне ты нравишься… Только одним виноват — молод. Но и здесь бог поможет — состаришься…
Он всегда так говорил — начнет серьезно и поучительно, а кончит шуткой.
Вскоре всех запасных обмундировали, и на занятия рота вышла в боевом составе — двести пятьдесят человек. Среди прибывших оказалось много таких, которые почти совсем позабыли строй, не умели действовать цепью, жались друг к другу, плохо маршировали и на полевых занятиях все путали.
Вернер и теперь остался верен себе: его рота маршировала весь день, и взводные следили за тем, чтобы все одновременно и крепко ставили ногу.
Большая радость ждала Карцева. Возвращаясь в роту, он увидел во дворе Мазурина, подбежал к нему, обнял и от радости не мог говорить — перехватило горло.
— Выпустили, — сказал Мазурин. — Не будь войны, отправили бы куда Макар телят не гонял!.. Ну, что у вас слышно? Я никого еще не видел.
Карцев жадно разглядывал его. Мазурин мало изменился, только слегка ввалились глаза да выросла бородка.
— Среди запасных есть, наверное, хорошие ребята? — озабоченно спросил Мазурин. — Ты не говорил с ними?
— Разве время теперь для этого?
— Почему не время? Теперь, по-моему, самый подходящий момент: пускай знают, за что идут проливать кровь. Нужна им, по-твоему, эта война?
— Но ведь напали на нас! — убеждал Карцев. — Как же теперь быть? Отдать немцам без боя всю нашу землю? Разве тогда лучше будет?
Он в смятении посмотрел на Мазурина.
Мазурин промолчал, закурил. Спросил про Балагина и Казакова. Потом они вместе вышли на Московскую улицу. Там, с пением гимна, неся впереди портрет царя, двигалась толпа. В первых рядах шли именитые горожане — купцы, крупные лавочники, врачи, чиновники, учителя гимназии. За ними — приказчики, мелкие торговцы, дворники. Манифестация остановилась на Соборной площади, перед домом городского головы фабриканта Князева. Тот вышел на балкон в сером английском костюме, бритый, похожий на иностранца, и, вытянув обе руки, приветствовал манифестацию. Наклонившись вперед, он кричал о том, что необходимо великое единение всего русского народа перед дерзким врагом, что нет теперь ни рабочих, ни хозяев, ни бедных, ни богатых, а есть только русские люди, и заявил, что жертвует десять тысяч рублей на нужды Красного Креста.
— Да здравствует победа! Ура его императорскому величеству, самодержавнейшему государю Николаю Александровичу! Боже, царя храни! Ура! — весь налившись кровью, орал он с балкона.
Грузные лавочники в жертвенном порыве лезли вперед. Дамы снимали с себя серьги. Купцы махали бумажниками. Учитель гимназии дирижировал хором, певшим гимн. Плакал усатый пожилой человек в позеленевшем, длинном, как пальто, сюртуке. Дворники сочувственно смотрели на своих хозяев. Соборный протопоп, стоя на паперти, крестом осенял идущих. Мазурин молча и сосредоточенно смотрел на манифестантов.
— Князев… — медленно проговорил он. — Во время забастовки вызывал войска против своих рабочих. Пойдем, Карцев, нам тут не на что смотреть!
Они молча прошли почти целый квартал. Карцев потупился, горечь и недоумение накипали в нем.
— Я вижу, Мазурин, ты сердишься, — наконец заговорил он. — Разве я вместе сними? Я не за царя и не за Князева воевать пойду, а все же я… — Он вдруг с удивлением понял, что не находит слов для выражения чувств, которые казались ему такими простыми и понятными. — А все же я… русский, — неуверенно продолжал он. — Россия — моя отчизна, в ней каждый листочек дерева мне люб и дорог…
— Нет, брат, — с неожиданной для Карцева мягкостью сказал Мазурин, — на этой земле не нам дует ветерок, не нам шумят деревья и не нас с тобою греет солнышко. Родину свою, настоящую родину придется завоевать в революционных боях. Вот так-то оно… Прощай! Потом повидаемся.
Карцев остался один. Ему было нехорошо. Он не спеша шел в казарму и обрадовался, увидев во дворе кучку солдат и между ними Орлинского и Петрова. Среднего роста человек, с розовым лицом и пушистыми усиками над пухлыми губами, говорил:
— Хотели меня назначить к оставлению, а я отказался. Зачем я в тылу буду, если другие идут отечество и веру защищать? Вот и назначили меня в полк.
Он явно ожидал сочувствия, но почти все смотрели на него безразлично, а некоторые — насмешливо.
— Заелся ты от хорошей жизни, вот тебе и плохой захотелось. Это можно. Пробуй на здоровье.
— А ты легче, дурень! Может, он пострадать хочет?
Начался шумный спор. Карцев услышал голос Орлинского:
— Война — это бедствие. Страшное бедствие! Но бывают положения, как сейчас, когда надо воевать.
Его маленькая фигурка выпрямилась, сиреневые глаза, теплые и живые, казались чужими на вялом лице.
— Много у каждого обид, — твердо сказал он, — и мы не собираемся их прощать. Но наш счет мы не предъявим сейчас, когда отечество в опасности.
— Это его капитан Вернер нашпиговал! — с веселым удивлением крикнул кто-то.
Орлинского выручил Петров.
— Орлинский прав, — сурово заговорил он. — Ему, может быть, труднее, чем нам, прийти к таким взглядам, тем более надо ценить их. Сейчас не должно быть у нас никакого различия: все мы русские солдаты и будем драться с немцами за родину нашу!
Красное большое солнце склонилось к западу. Липа на краю двора стояла в нежном зеленоватом сиянии. Облака, как парусные лодки, уходили в далекие воздушные заливы. Где-то недалеко выпустили голубей; они, шумя крыльями, подымались ровными кругами и, схваченные солнечными лучами, становились сверкающими, пушистыми. Карцеву не хотелось говорить ни с Петровым, ни с Орлинским. Оба были правы, оба высказывали как будто то же, что думал и он, но — странное дело! — неприятно звучали для него их слова, пробуждали в нем недоброе чувство к ним. И с особенной остротой ощутил себя одиноким и несчастным. Куда пойти? Что делать?
И вдруг теплое чувство охватило его. Тоня! Как он забыл о ней? Карцев даже засмеялся от радости и быстро вышел за ворота. Увольнительной записки не взял — перед войной можно обойтись без нее.
Тоня шила. Увидев из окна Карцева, вышла к нему. Она похудела, была печальна. Обнявшись, они пошли в маленький сад за домом, где широко разрослись бузина и сирень, и тоненькие, как нитки, тропинки с трудом пропускали их.
— Два дня не приходил, — укоризненно говорила Тоня. — Забыл, что ли?
Карцев промолчал о том, что мучило его, обнимал, целовал Тоню.
— Уйдешь, скоро уйдешь, — грустно сказала она. — И ты, и Мазурин… Тоскливо будет без вас. Вот и Катя крепится, а вижу — тяжело ей.
Они сидели в саду. Воздух налился темной синевой. Совсем близко засвиристел сверчок. Галки торопливо пролетели на ночлег. Тоня посмотрела им вслед, вздохнула.
— Семен Иванович говорит, что война — болезнь. Ее изжить надо… А как изжить?
Глаза у Тони потемнели, словно и в них завечерело, она гладила стриженую голову Карцева, твердый погон на его плече упирался ей в грудь.
— Не хочется уходить от тебя, — печально сказал Карцев.
Он вернулся в казарму на рассвете. Проходя мимо третьей роты, заметил под одиноким деревом маленькую фигурку, лежащую на земле. Наклонился. Это был Орлинский. Он плакал.
— Люди!.. Я думал о людях, — дрожащим голосом говорил Орлинский. — О миллионах людей!.. Не могу представить, что Вернер, этот палач, поведет меня в бой за Россию!.. А как не идти? Должен идти!
Жены и дети запасных толпились вокруг казармы, входили во двор. Дневальные не останавливали их — не до того было. А вечером, когда уходило начальство, многие женщины заходили в казармы к своим мужьям. Приехала жена и к сверхсрочнику унтер-офицеру Машкову. Карцеву было дико смотреть, как этот черствый человек, бездушный, жестокий с солдатами, сидел возле маленькой беременной женщины, нежно держал ее за руку, гладил по голове.
Ночью Карцев не спал. Было невыносимо душно. Люди лежали вповалку, многие разговаривали. Не верилось, что за окнами летняя ночь, спокойная прозрачная тишина. Он встал. Долго ходил по двору. Вышел на улицу. Дневальный у ворот попросил закурить. Близко придвинул молодое лицо и спросил:
— Не спишь?.. Встревожен?
— Душно! — ответил Карцев.
Им овладело неудержимое желание сейчас же повидать Мазурина. «Это ничего, что ночь. Мазурин поймет. Разбужу его».
Но Мазурина в роте не оказалось. Его койка была пуста.
Накануне выступления полка Максимов объезжал выстроенную четырехтысячную массу вооруженных людей и поздравлял солдат с отправкой на фронт для защиты веры, царя и отечества. Крестный ход из города приближался к полку, молящиеся еще издали кричали «ура», а подойдя к солдатам, начали совать им в руки папиросы, носовые платки, образки и разную снедь.
На фабрике было тихо. Стачка кончилась. Газеты сообщали, что германские социал-демократы голосовали за военные кредиты, что их примеру последовали французские социалисты, вождь которых, Жорес, был убит в день объявления мобилизации.
…Казаков прочитал письмо Вандервельде к русским социалистам, жирным шрифтом напечатанное в газетах:
— «…Для социалистов Западной Европы поражение прусского юнкерства есть вопрос жизни и смерти. Но в этой ужасной войне, разразившейся над Европой, вследствие противоречий буржуазного общества, свободные нации вынуждены рассчитывать на военную поддержку русского правительства. От российского революционного пролетариата в значительной степени будет зависеть, чтобы эта поддержка была более или менее решительной… Вы сами прежде всего должны решить, как вам поступить. Но я вас прошу, и наш бедный Жорес, если бы он еще жил, конечно, просил бы вас вместе со мной стать на общую точку зрения положения социалистической демократии в Европе. Мы считаем, что против подобной опасности настоятельно необходима коалиция всех живых сил Европы, и мы были бы счастливы узнать по этому поводу ваше мнение и более счастливы узнать, что оно сходится с нашим…»
Под письмом стояла подпись: «Эмиль Вандервельде — делегат бельгийской рабочей партии в Международном социалистическом бюро, а со дня объявления войны — министр».
Письмо произвело впечатление. Семен Иванович, ни на кого не глядя, жестоко теребил бородку. Балагин смотрел на Казакова с таким видом, точно не верил тому, что тот прочел. Мазурин тоже решал для себя тяжелую задачу.
— Не думаю я, — сказал Мазурин, — чтобы Жорес подписался под таким заявлением.
— Пожалуй, ты прав, — согласился Семен Иванович. — Вот когда добрый совет дорог. Придется, товарищи, самим разбираться. Тяжелое дело. Не шутка ведь, если такие, как Вандервельде, к войне зовут. Только я бы с ним поговорить хотел, по-простому, по-рабочему. Хорошо он про германских юнкеров говорит, а наших-то русских помещиков и фабрикантов куда девал? Забыл или не приметил? А нам они страшнее германских — мы их каждодневно на своей шее чувствуем. Что же про германских социал-демократов сказать, — он печально развел руками, — не знаю…
Он в волнении снял очки, протер их полой пиджака, быстро надел и глухо продолжал:
— Сильная у них партия, только боюсь, что она ошиблась. И Вандервельде тоже, — у них там конституция, свобода собраний, сам он министр, им, конечно, иначе, чем нам, живется, а только лучше бы он такого письма не писал…
Старик говорил с трудом. Откуда было ему знать, что царский посол в Бельгии Кудашев редактировал письмо социалиста?
— Что вы, что вы, — сказал посол, прочитав в письме Вандервельде фразу «поражение германских империалистов», — ведь у нас тоже император, как же можно писать против империалистов? Вы напишите лучше вместо этих слов — поражение прусских юнкеров.
И Вандервельде немедленно заменил неудобные слова теми, что посоветовал посол, и царская цензура пропустила письмо в русскую печать.
Долго спорили. Критиковали письмо. Колебался Казаков, считавший, что германские социалисты находятся в трудных условиях и нельзя поэтому осуждать их раньше, чем будут известны причины, побудившие их к такому голосованию. Не все соглашались с Мазуриным, называвшим голосование немцев изменой. Решили выпустить листовку с протестом против войны и распространить ее среди рабочих и солдат.
— Упустили время для протеста, — с горечью сказал Мазурин, — уходим на фронт. Придется тебе, Семен Иванович, в тылу знамя большевистское крепче держать, за молодых, за ушедших работать.
Семен Иванович поднялся.
— Другого пути не знаем, — в волнении проговорил он, — путь у нас один — рабочий, большевистский. Одиннадцать годочков большевик я и с этого пути не сойду… Но и вы, друзья, там, на войне, нашего дела не забывайте. Будьте и там на революционном посту! Будьте…
У него сдавило горло.
— Связь с нами поддерживайте… Себя берегите…
Через день, провожаемый музыкой, пением гимна и плачем женщин, полк отправился на запад.
Узкая полевая дорога вывела батальон к редкой осиновой роще. За рощей лежал луг. Кочки покрывали его и, как резиновые, приминались под ногами. Было утро. Крестьянская телега с задранными оглоблями стояла на лугу. Она была завалена свежим, еще зеленоватым сеном. Солдаты вдыхали его мирный запах, с тоскою косились на телегу: домой бы, хоть на чуток! Солнечные лучи плавили туман, висевший над лугом. Сочная трава хрустела под ногами, сапоги мокли от росы. Откуда-то, рыча, выскочил молодой рыжий пес и озадаченно присел, пораженный таким скопищем людей. Началось болото. Ряды расстроились. Каждый старался ступать по кочкам, солдаты сталкивались друг с другом, упал Самохин, попав ногой в яму (он за неделю до выступления в поход вернулся в роту из госпиталя).
Машков по старой привычке ударил его:
— До сих пор, сволочь, не научился ходить!
Но вот болото кончилось, показались кусты, редкие деревья, покатый, со срезанной вершиной холм, а за ним — желтая песчаная дорога. Солнце медленно ползло по синеватому, с белыми лоскутьями облаков небу. Шли уже больше двух часов. Становилось жарко. Все мучились от жажды. Черницкий размашисто шагал, завалив штык, неутомимо шутил с товарищами. Уставший Карцев удивлялся его бодрости. Пользуясь тем, что рота шла вразброд, он пробрался к Черницкому. Возле него, прихрамывая, ковылял Чухрукидзе: новые сапоги были ему велики, портянки сбились у пальцев, и он натер ногу. Черницкий посоветовал ему присесть и перемотать портянки, но Чухрукидзе, застенчиво улыбаясь, мотал головой: боялся взводного.
Впереди роты на серой лошадке ехал Васильев. В двух шагах от него бодро выступал Бредов. Штабс-капитан был рад начавшейся войне. «Здесь моя академия, — рассуждал он, — я окончу, окончу ее, и только смерть может мне помешать». Он нетерпеливо продумывал блестящие боевые планы. Сколько бессонных ночей провел он за книгами и картами, теперь все это должно окупиться.
С ласковой снисходительностью поглядывал он на прапорщика запаса, шедшего неумелым подпрыгивающим шагом. Что понимает этот юнец в сложной и прекрасной науке войны? Идет он, полный петушиного самодовольства, гордый своим офицерским званием. Пишет, наверно, какой-нибудь Верочке, восхваляя войну, влюблен в свои погоны, и если не трус, то бросится по молодой горячности вперед, в первом же бою и пропадет, как Петя Ростов… Нет, он, Бредов, так дешево себя не отдаст. Прятаться не станет и, когда понадобится, подставит грудь пулям, но только, конечно, в том случае, если иного выхода не будет…
Рысью проехал пожилой и толстый подполковник Супрунов. Протяжно скомандовал остановиться. Приклады винтовок нестройно стукнули о землю.
Это был первый привал — получасовая остановка.
Солдаты торопливо сняли походные мешки и повалились на землю. Голицын (он, как и все запасные унтер-офицеры, был в строю рядовым) проворно стащил сапоги и перемотал портянки.
— Вот так-то, паренечки, — весело сказал он, поворачивая к солдатам круглую, коротко остриженную голову, — сорок годочков скоро мне стукнет, проделал я и японскую и китайские кампании и многому там, паренечки, научился. Главное в походе, чтобы ногам удобно было. Тогда воевать легче.
Он критически смотрел на переобувающегося Чухрукидзе и показал ему, как лучше завертывать портянки. Карцев, отделенный командир, заботливо оглядел своих людей. Чухрукидзе, Рогожин, Самохин — все это свои, близкие по казарме ребята. Самохин лежал на спине, подложив под голову скатку, и хватал воздух открытым, жалобно искривленным ртом. Солнце сильно напекло ему голову. Карцев посоветовал положить под фуражку мокрый платок.
Время подходило к полдню. Прошли длинную деревенскую улицу, но не остановились, хотя всем хотелось пить и низкие срубы колодцев мучительно привлекали. Некоторые солдаты воровски выбегали из строя, крались к колодцам. Женщины одаривали солдат яблоками.
Песчаная дорога то подымалась на холмы, то опускалась в низины. Редкие заросли тянулись по сторонам. Вдруг послышалось густое шмелиное жужжание, тонкая хвостатая тень появилась в небе. Солдаты закинули вверх головы, и когда кто-то крикнул, что это германский аэроплан, поднялась суматоха. Раздались отдельные торопливые выстрелы. Охваченный боевой яростью, Машков собрал свой взвод и приказал стрелять залпами.
Васильев на коне ворвался в ряды.
— Стой, стой! — кричал он. — Это наш аэроплан! Прекратить огонь!
Мимо проехал казачий разъезд. Казаки ехидно подтрунивали над пехотой, их начальник, молодой, рябоватый хорунжий, иронически откозырял Васильеву, по-пехотному сидевшему в седле, и, щегольски изогнувшись, галопом поскакал вперед. Обдавая пылью солдат, казаки скрылись за холмом. Наконец скомандовали остановиться. Составили винтовки, дозоры разошлись по сторонам. Васильев, сердито посматривая на дорогу, что-то сказал подпоручику Руткевичу. Тот вскочил на капитанского коня и поехал назад. Прошел час. Никто не знал, долго ли еще останутся тут. Офицеры совещались возле одинокой избы, стоявшей на опушке дубового леска, солдаты сидели и лежали на земле. Чухрукидзе, морщась, рассматривал стертую ногу. Голицын осторожно доставал щепоть махорки из кисета, а Самохин спал, уткнувшись лицом в походный мешок. Только к вечеру приехали кухни, найденные Руткевичем. Оказалось, что они не имели точного маршрута и двигались по другому пути. Роты мгновенно разобрали котелки.
Во время обеда послышался гудок. К избе подъехал серый запыленный автомобиль. Из него вышел начальник дивизии генерал Потоцкий и заговорил с офицерами. Подполковник Супрунов стоял вытянувшись, кивком головы показал на солдат, но генерал махнул рукой, как будто отказывался от чего-то, сел в машину и уехал.
Приказали строиться. Загибин, потерявший свой щегольской вид, справлялся у Машкова, скоро ли придут на ночевку, но взводный сам ничего не знал. Рогожин, шедший возле Карцева, с завистью вспомнил вольноопределяющегося Петрова, которого перед самым выступлением в поход отправили в Иркутское военное училище.
Не спеша надвигался августовский вечер. Темнело небо, сыростью веяло из леса, галки низко кружились над деревьями, готовясь к ночлегу. Вблизи виднелась деревня. Нарядный дом, крытый черепицей, форпостом стоял в поле. Плетеная изгородь окружала его. Белая лохматая собака яростно залаяла на солдат. В сумерках видно было, как остановилась и отошла в сторону, в поле, девятая рота. Васильев слез с коня. Через минуту стало известно — ночевать будут здесь, в поле. В мягкую, много раз паханную землю вбивали низенькие колышки, растягивали серые полотнища палаток. В них пробирались ползком, мешки клали под головы, ложились прямо на землю, кутаясь в шинели.
Карцев был назначен в полевой караул. Вместе с Рогожиным, Чухрукидзе и Самохиным его отвели шагов за шестьсот от стоянки. Руткевич показал, откуда можно ждать противника, и, нахмурясь, сказал:
— Вы не думайте, что если мы на русской земле, то нет опасности. Возможно, что германские разъезды пробрались уже к нам и бродят где-то тут недалеко. Смотреть в оба. Винтовки зарядить. В случае чего — немедленно послать ко мне связного.
Туман стлался по низине. Босоногая девчонка промчалась мимо, гоня гусей в деревню. Гуси бежали, вытянув шеи, распустив крылья, гоготали. Мычание коров, лай собак, громкие женские голоса, доносившиеся из деревни, стреноженная лошадь, щипавшая невдалеке траву, — все это было мирное, успокаивающее.
Карцев осторожно исследовал местность. Наткнулся на изгородь вокруг нарядного дома, крытого черепицей. Подумал, что из-за дома могут легко подобраться к караулу. Хорошо бы поставить Рогожина здесь — пускай наблюдает за полем и леском. Он так и сделал: Рогожина поставил за домом, Самохину и Чухрукидзе приказал быть на месте, а сам все ходил, настороженно прислушиваясь, в ожидании чего-то, что непременно должно случиться. Самохин начал тихо посапывать и захрапел. Карцев подошел к Чухрукидзе:
— Что, страшно?
— Нет, ой нет!.. Война лучше, чем казарма.
Из-за дома донесся резкий, злой крик. Крик перешел в визг, и вдруг прогремел выстрел. Карцев схватил винтовку, грубо толкнул спавшего Самохина и, вытянув голову, прислушался. Ему показалось, что он слышит стоны, возбужденные голоса. Выстрелов больше не было. «Неужели германцы?»
Послышались торопливые шаги. Подбежал Рогожин.
— Неспокойно там, — доложил он, показывая рукой в ту сторону, откуда раздался выстрел. — Ушел я, знаешь, от греха. Все-таки вместе лучше. Побьют еще по отдельности.
Самохин крестился. Чухрукидзе спокойно улыбался. Ночь молчала — черная, загадочная, опасная. Поколебавшись, Карцев решил, что останется здесь. Он приказал всем быть в боевой готовности. Несколько минут было тихо. Тяжелая рука легла на плечо Карцева, и кто-то (он не сразу узнал голос Самохина) глухо прошептал:
— Идут, ей-богу, идут…
— Погоди… — Карцев приложил ухо к земле.
Шаги зловеще стучали все ближе и ближе. Шли сюда. Щелкнул затвор. Самохин, трясясь, подымал винтовку.
— Это ты оставь, — сказал Карцев, с радостью чувствуя, как к нему возвращается спокойствие. — Без моего приказа не стрелять.
И когда шаги, неспокойные и как бы прячущиеся, затихли довольно близко от них, он спросил четко и медленно:
— Кто идет?
— Свои, свои, — ответил знакомый голос. — Не стреляйте, голубчики, свои.
Две фигурки показались на холмике. Плачущим голосом ефрейтор Банька из пятой роты говорил:
— В первом месте по-человечески встретили… Проверяли мы дозоры эти проклятые, прямо звери, а не люди там сидят. В одном завопили — стой, стрелять будем, в другом, не спрашивая, прямо бабахнули, человека у нас испортили, грудь ему прострелили.
Он присел, попросил махорки и передал приказ ротного командира: смотреть строго, не курить.
— Приказ передаешь, а сам куришь, — усмехнулся Карцев.
— Разволновался я очень, — доверчиво объяснил Банька. — Как же это так, прямо в своих человеков стрелять? Вот и воюй с таким народом!
Ночь прошла спокойно. Перед самым рассветом Карцев, сидя на корточках и глядя в неясно проступавшие контуры леса, в пустынное небо, чувствуя, как холод пробирает его всего, как равнодушно и неуютно лежит вокруг эта страна, ощутил страшное одиночество и спросил сам у себя: зачем он здесь?
Карцев обрадовался, когда высокая фигура Мазурина, его серые спокойные глаза возникли перед ним. Он крепко сжимал широкую мазуринскую руку и думал — отчего так сильно тянет его к этому человеку?
Он знал, что Мазурин считает войну ненужной для народа, помнил тот холодок, который прошел между ними перед самым выступлением полка в поход. Ему неудержимо захотелось говорить с Мазуриным, опять почувствовать на себе его бодрящее влияние. Он рассказал про ночной случай и все ждал, что Мазурин спросит его о главном — об отношении к войне, но тот так просто и с таким интересом его расспрашивал о походе, о полевой ночевке, о ранении солдата в дозоре, что видно было, как именно все это занимает его и ни о чем другом сейчас он не хочет говорить.
— А как Черницкий? — весело спросил Мазурин и засмеялся: — Ведь он парень горячий, гляди, всех немцев один побьет!
В это время как раз к ним подбежал Черницкий. Он обнял Мазурина, хлопнул его по спине. Черные его глаза сияли.
— Теперь можно воевать! — говорил он, улыбаясь. — Без тебя, Мазурин, я не найду дорогу в Берлин.
Воздух был чистый, свежий, пронизанный солнечными лучами. Вокруг лежали мирные поля, дымились трубы деревенских изб — ничего страшного и пугающего не было в это прекрасное утро. А тут еще появился Банька, попросил закурить и, таинственно оглядываясь, сообщил важную новость: говорят (от верных людей слышал!), полк будет все время в резерве; мол, сильно бился он и здорово пострадал в японскую войну, за это такая ему и милость, а в первой линии пускай повоюют другие, что пороху на японской не нюхали!
Некоторые усмехались, но многие поверили Баньке: уж очень хотелось поверить! День выдался хороший. От походных кухонь вкусно пахло мясным наваром. Все поле, насколько охватывал глаз, было покрыто зелеными гимнастерками. Винтовки, составленные в козлы, походили на узкие коричневые стога. Весело дымились костры. На краю поля стояла артиллерия. Сытые крупные лошади, помахивая хвостами, жевали сено. Окрашенные в защитный цвет орудия глядели уверенно и грозно. С хохотом пробежали два солдата и опустились на землю. Один достал из-за пазухи бутылку, ударом о ладонь вышиб пробку. Водку наливали в казенную алюминиевую чашку, формой похожую на лодку. Несколько человек, узнав, что их товарищи ухитрились добыть «святой водицы», побежали за ней в деревню.
Орлинский при каждом удобном случае навещал десятую роту. С ним подружился Голицын, особенно после того, как Орлинский угостил его махоркой.
— Да ведь ты не куришь? — удивляясь, спросил Голицын. — Откуда она у тебя?
Орлинский объяснил, что табачок он держит для курящих товарищей. Но когда через пару дней махорка рассыпалась у него в вещевом мешке, Голицыным овладела ярость.
— Эх,-ты! — со злобой сказал он Орлинскому и посмотрел на него, как строгий учитель на провинившегося мальчишку. — А я тебя за серьезного человека считал!
Ворча и ругаясь, он взял мешок Орлинского и, перетряхнув его вещи, до крошки собрал махорку.
…В деревнях, которые проходили войска, было пустынно. Крестьяне прятались в избах, боялись, что их заставят возить войсковую кладь за десятки и сотни верст. Однажды послышались глухие, далекие выстрелы.
— Пушки! — сказал Голицын. — Значит, до немца дошли.
У Карцева стукнуло сердце, тяжелый ком метнулся к горлу. Как будто кончился один этап войны, похожий на маневры, и начался другой — настоящий, страшный.
В тот же день повстречались первые раненые. Их везли на крестьянских телегах. Солдаты стонали, когда телеги подбрасывало на кочках. Промчалась щегольская коляска: в ней рядом с молоденькой сестрой в белой наколке с красным крестом сидел казачий офицер с забинтованной головой.
Прошли еще несколько деревень. Большинство изб было покрыто старой, почерневшей соломой. Плохо жилось в этих деревнях, но не лучше было и вокруг них. Клеймо безвыходной нужды, запущенности и уныния лежало на всем. Узкие проселочные дороги в рытвинах и ямах. Земля на полях — серая, мелко вспаханная, неурожайная. Часто попадались болота. В лесах и болотах артиллеристы и обозники рубили ветлы, валили деревья, настилали гати, но орудия и зарядные ящики все же застревали, и часто армия отрывалась от своих оперативных обозов на пятьдесят и больше верст.
Пушечные выстрелы теперь доносились чаще, крупные кавалерийские отряды обгоняли полк. Навстречу тянулись телеги, доверху набитые убогим скарбом, за ними плелись облезлые, худые коровы. Дети с любопытством смотрели на войска, взрослые с обреченным видом шагали возле обоза. Это были беженцы.
Перед вечером устроили привал. Солдаты разбрелись. Некоторые тайком пошли к ближайшей деревне. Черницкий и Карцев побежали к избам, надеясь раздобыть курева. На буром, скупо поросшем травой пригорке возле низкого плетня толпились люди. С каждой секундой здесь все больше и больше собиралось народа.
— Что там такое? — спросил Карцев у пробегавшего мимо солдатика.
— Немцы пленные!
Два немца (один — молодой, другой — лет сорока), оба небольшие, в плоских бескозырках с круглыми кокардами, в зеленоватых до колен шинелях и сапогах с короткими прямыми голенищами, сидели на земле и растерянно, видимо не зная, как себя держать, поглядывали на русских. Часовой с винтовкой уговаривал солдат отойти подальше. Но его никто не слушал. Тут были те, кого обозначали волнующим словом «противник», с кем они должны были встретиться в смертной схватке, те, кого называли варварами и злодеями. Их вид будил в солдатах любопытство, удивление, разочарование — уж очень не были похожи эти плохо одетые люди на гордых, свирепых врагов, какими рисовало их воображение.
— Скорее всего, из запаса, — сказал Черницкий и осторожно, не желая пугать пленных, потрогал их за сапоги: — Дерьмовые… Кожа на голенищах невыделанная.
Пленным сунули махорку, дали сухари, хотя сами были голодны.
Когда показался офицер, солдаты нехотя разошлись. Барабанщик заиграл сбор.
Верхом приехал генерал Гурецкий. Он поговорил с Васильевым, потом подошел к солдатам, отпустил похабную шуточку и роздал пачку папирос.
— Уж я знаю, — хитро подмигивая, сказал он командиру третьего батальона, подполковнику Дорну, — с солдатом надо пошутить, иногда дружески покалякать, и он за вас, за отца-командира, в огонь полезет.
Гурецкий был уже стар, гордился своим чином, заработанным тридцатилетней службой, и глубоко верил в свой полководческий талант. Генерал почти все время проводил в штабе полка, наседал на Максимова, вмешивался в его распоряжения. У него был твердый план: скорее бросить полки своей бригады в бой и личным руководством добиться победы.
Васильев и Дорн отошли в сторону. Они давно знали друг друга. Оба были на японской войне, оба любили военное дело. Дорн выписывал военные немецкие журналы и нередко читал Васильеву выдержки из сочинений покойного начальника германского генерального штаба графа Шлиффена.
— Видели когда-нибудь «петрушек»? — спросил Васильев.
— Как-то раз, на ярмарке… — улыбнулся Дорн.
— На ярмарке они к месту, а тут…
Утром поход продолжался. Приближались к германской границе. Издалека доносились редкие выстрелы, несколько раз пролетали аэропланы, и солдаты, не разбирая, чьи они, открывали по ним бешеный огонь.
Прошли по скверной песчаной дороге, вступили в лес. Старые сосны стояли как медные колонны. Мшистые бугорки, похожие на зеленые бархатные подушки, были разбросаны под ними. Добрались до просеки и остановились. Прискакали Гурецкий и Максимов. Генерал, показывая коротенькой рукой на столб с черным орлом, прокричал:
— Солдаты! Ребятушки! Русские боевые орлы! Поздравляю вас со вступлением на вражескую землю! Отсюда путь нам один — на столицу Германии, на Берлин! Ура!
Ударив плеткой коня, он наскочил на столб, пытаясь свалить его конской грудью, но столб был крепок, конь, хрипя, топтался на месте, и генерал, хлестнув по распростертым крыльям черного орла, приказал немедленно свалить столб.
Вышли из леса. Поле, расстилавшееся по сторонам, было вспахано огромными глыбами, — очевидно, вспашка производилась машинами. В версте от леса кучкой белых сверкающих пятен лежала прусская деревня. Солдаты пристально смотрели — все ближе становились чистые оштукатуренные домики с красными черепичными крышами, массивные строения, развесистые яблони, Полк вступил в деревню. Солдаты с любопытством разглядывали добротные чистые постройки, выметенную улицу, круглые каменные колодцы. Большой сад тянулся за деревней, желтые и красные яблоки выглядывали из-за листьев.
Мужчин не было видно. Женщины испуганно косились на русских солдат…
В тот же день, верстах в двух от полка, на лесистом взгорье, появился конный разъезд немцев и, сделав несколько выстрелов, скрылся. Максимов приказал батарее выпустить шрапнелью очередь по леску, в котором предполагался неприятель. Батарея развернулась позади полка, снялась с передков, и шрапнели со скрежещущим металлическим визгом низко пролетели над головами солдат.
Гурецкий распорядился выделить роту и занять лесок. Первая рота рассыпалась в цепь, капитан Федорченко повел ее в атаку. Видно было, как перебегали солдаты, как, скучиваясь, они бежали к лесу, ложились на землю. Из леса не стреляли. Там не оказалось ни одного немца. Гурецкий хвастался, что прогнали неприятеля. Офицеры подсмеивались над ним:
— Воздух атаковал!
Солдаты нервничали, становились беспокойнее. Упорно говорили о двух эскадронах немцев, которые где-то поблизости и могут каждую минуту напасть.
Гурецкий, получив из штаба дивизии сведения, что небольшие силы германцев занимают село Вилиберг, решил взять его с налета. До села было пятнадцать верст, и, несмотря на то что приближался вечер, генерал приказал Максимову двигаться вперед. Денисов, бывший при этом, в отчаянии посмотрел на командира: это же безумие — наступать по неразведанной местности! К тому же сведения о силах противника были неопределенны и не проверены. Но Максимов не возражал. По настоянию Гурецкого взяли проводника из местных крестьян — пожилого поляка. Низко кланяясь и ни на кого не глядя, поляк уверял, что дорогу в Вилиберг знает всякий ребенок и что он доведет туда в одно мгновение.
Шли по хорошей шоссейной дороге, в сумерках втянулись в лес. Там было уже совсем темно. Передовые дозоры жались к главной колонне, разведка не высылалась.
Дорн пытался отговорить Максимова от рискованного маршрута, но полковник упрямо не соглашался.
— Сказано же вам, — говорил он, — что там слабые силы. Что могут нам сделать две роты? Не беда, если солдаты немного и устали. Удачный бой оживит их. Увидите, как все будет хорошо.
Васильев с согласия Дорна решил снарядить разведку. Карцев и Рябинин — солдат из запасных — были посланы вперед. Васильев толково объяснил им, что надо сделать.
— Уж вы не беспокойтесь, ваше высокоблагородие, — сказал Рябинин, — я — природный охотник. Выслежу, разнюхаю и доложу.
Взяв с собой только винтовки и подсумки с патронами, они скрылись в темноте. Рябинин шел мягким широким шагом, ступая косолапо — по-медвежьи. Часто останавливался, прислушивался, иногда ложился, прикладывая ухо к земле. Пробирались не по тропинкам, а стороной. Напряжение, которое испытывал Карцев, выходя на разведку, понемногу исчезало: было приятно идти лесом. Как-то не думалось, что в спокойной тишине, в бодрящем смолистом запахе сосен может скрываться опасность. Прошли уже версты четыре, когда услышали голоса. Карцев невольно взялся за винтовку, Рябинин остановил его.
— Стрелять для нас самое последнее дело, — сказал он. — Нам это ни к чему.
Они поползли в трех шагах друг от друга. Карцева царапали по лицу ветки кустов. Черненький комочек с писком промелькнул под самым носом. Карцев, держа винтовку в руке, все оглядывался на Рябинина, которого скорее чувствовал, чем видел. На немцев наткнулись неожиданно. Человек шесть их сидело возле лесной сторожки, на них падал красноватый отблеск из окна. Карцев замер, сжал винтовку. Рябинин помахал рукой, показывая, куда ползти, и они начали обходить сторожку.
— Дозор… — прошептал Рябинин. — Теперь пойдем дальше, посмотрим, откуда их корень растет.
Он был совершенно спокоен, а Карцев от волнения едва переводил дыхание. За сторожкой продолжался лес, между деревьями с трудом обозначались сероватые просветы. Разведчики часто останавливались, каждый шорох заставлял их ложиться на землю. Лес кончился, вдали мелькнули крошечные огоньки. С каждым шагом огоньки становились ярче. Вот послышался железный грохот, какие-то темные массы двигались возле длинных строений. Пыхтение автомобилей доносилось ясно. Одна за другой двенадцать тяжелых машин с потушенными фарами проехали по дороге.
— Много их тут, немцев-то, — шепнул Рябинин. — Давай обходить село. Похоже, с другой стороны высаживаются.
И они, пригибаясь, выбирая места потемнее, опять сделали обход и увидели, как из рощи, по ту сторону села, выходили германские колонны. С полчаса разведчики лежали за кустами, наблюдая за противником. Когда последние его ряды поглотила тьма, Рябинин поднялся.
— Пожалуй, с полк будет, — отметил он. — Надо шибче пробираться к своим.
На обратном пути, делая еще более глубокий обход, чем раньше, они вышли прямо к полянке, где расположилась германская артиллерия. Увидев русских солдат, стоявший под деревом часовой в каске от ужаса раскрыл рот. «Только бы не успел поднять тревогу», — мелькнула у Карцева мысль, но в эту же секунду Рябинин, отшвырнув винтовку, прыгнул на часового. Упали оба. Карцев услышал хрип. Ноги часового вытянулись. Рябинин поднялся.
— Ходу! — хрипло приказал он, поднял свою винтовку, взял и немецкую.
Карцев и Рябинин бежали, пригибаясь к земле. Они не ощущали усталости. Страх подгонял Карцева, ему хотелось как можно скорее и дальше уйти от того места, где, как ему чудилось, притаилась смерть, готовая каждый миг схватить его. Два раза им пришлось красться ползком, уходя от германских дозоров. В лесу было так темно, что нужно было двигаться ощупью, вытянув перед собой руки. Только спустя час Рябинин остановился, внимательно посмотрел кругом и опустился на землю.
— Выбрались… — облегченно проговорил он, достал кисет, скрутил «собачью ножку», с наслаждением затянулся дымом и молча протянул кисет Карцеву.
…Васильев внимательно выслушал доклад Рябинина, подробно расспросил о численности немцев, об их артиллерии, о примерной длине колонн. Затем пошел к Дорну, и они вдвоем отправились к Максимову, ехавшему в центре колонны. От командира полка Васильев вернулся бледный, глаза его зло поблескивали. Он невнятно ругался, много курил, но никому, даже Бредову, с которым давно дружил, ничего не сказал.
Полк продвигался вперед. Теперь шли полем. Вернеровская рота была в авангарде. Вернер чувствовал себя уверенно, его не тревожило даже и то обстоятельство, что передовые дозоры шли совсем близко от главной колонны.
Но когда красный, тугой огонь пробил черный воздух и затем послышался визг шрапнели, Вернер растерялся. Немцы били прямой наводкой, очевидно, по заранее вымеренным целям, шрапнели рвались низко над землей, паника сразу овладела всем еще не обстрелянным в боях полком. Офицеры кричали, приказывали окапываться. Сотни людей бросались на землю, с бешеной энергией работали лопатами. Рыли в темноте, без всякого плана, каждый зарывался на том месте, где упал. Огонь затих, потом начался сразу с двух сторон. Офицеры потеряли всякую власть над солдатами, сами не зная, что делать. Васильев спокойно, не повышая голоса, пытался отвести свою роту в кусты, чтобы там, под их прикрытием, окопаться. Черницкий насыпал перед собой целый холм земли и кричал Карцеву:
— Иди ко мне! Ко мне иди!
Выстрелы, стоны, крики, ругательства неслись отовсюду. Германский огонь то затихал, то начинался с новой силой. Частая дробь пулеметов перемежалась с редкими орудийными выстрелами, пули свистели над головами солдат.
С первым проблеском рассвета обнаружилась неприглядная картина. Поле в самых разных направлениях было изрыто маленькими ямками. Одни окопались лицом друг к другу, другие — во фланг, третьи — спиной к неприятелю. Максимов со своим штабом сидел в центре поля, в небольшой ложбине. Гурецкого не было. При первых выстрелах он уехал в штаб дивизии.
На рассвете огонь усилился. Дорн, Васильев и Бредов старались организовать оборону, к третьему батальону присоединилось много солдат из соседних рот. Ободренные хладнокровным видом офицеров, они около часа отстреливались от германцев. Но надо было отступать. Из леска, заходя во фланг, появились неприятельские цепи.
Максимов исчез.
Дорн приказал отходить на юго-восток. Остатки третьего батальона (было больше убежавших, чем убитых и раненых) шли редкой цепью, часто ложились на землю, отстреливались.
Васильев в бинокль наблюдал за противником.
Весь день продолжалось беспорядочное, разрозненное отступление полка.
Двое суток ушло, пока усталых солдат собрали и привели в порядок. В ночь на третьи сутки полк опять был двинут вперед, так как вторая армия, в которую он входил, выполняя план главного командования фронта, должна была форсированным маршем вторгнуться в Восточную Пруссию со стороны реки Нарева, обходя с юга Мазурские озера, и там соединиться с первой армией генерала Ренненкампфа, наступавшей с севера, взяв в клещи германскую восьмую армию.
В тот день, когда полк, собранный после ночной катастрофы, двинулся вперед, солдаты впервые увидели командующего армией и корпусного командира. Они проезжали на автомобилях, и Самсонов, приказав остановиться, мощным голосом произнес короткую речь. Он называл солдат молодцами и героями, приказывал крепче беречь славные традиции полка и бить врагов отечества и православной веры.
По дорогам, двумя лучами сходившимся к деревне, подходили остальные полки дивизии. На большом лугу Самсонов приказал пропустить войска церемониальным маршем. Через час, когда дивизия была построена, заиграли полковые оркестры. Самсонов, окруженный штабом, стоял на пригорке. Широкие колонны, отбивая шаг, проходили мимо командующего. Офицеры с обнаженными саблями шли впереди частей. Развевались знамена. Карьером проскакал казачий полк. Рысью пронеслась артиллерийская бригада — сорок восемь орудий, сильные, толстоногие лошади, зарядные ящики, бравые ездовые, усатые фейерверкеры. Самсонов улыбался, гладил белые усы.
— Хорошая армия, — как бы думая вслух, сказал он.
И генерал Нокс — английский представитель при штабе, не отнимая от глаз бинокля, кивнул головой:
— О да, очень хорошая…
Полк продолжал свой марш. Опять потянулись песчаные дороги, перемежаясь болотами. Опять возникали деревни, и с порогов черных, непохожих на человеческие жилища изб старики и женщины кланялись офицерам.
В сумерки Максимов дал полку короткий отдых и вызвал к себе Васильева. Сопя и тяжело вздыхая, он приказал капитану идти со своей ротой в авангарде.
— Знаю вас как опытнейшего офицера. Знаю, что на вас можно положиться. Только осторожнее, ради бога осторожнее. Не наткнуться бы опять на какую-нибудь неожиданность.
Он крепко стиснул Васильеву руку, поцеловал его.
Десятая рота беглым шагом прошла вперед, обогнув голову колонны.
— Ну, ребята, — сказал Васильев, обращаясь к роте, — нам дано почетное поручение, дружно выполним его!
Он объяснил солдатам, в чем заключается их задача, выделил сильную разведочную команду, сам пошел с ней, а Бредова оставил в роте. Команда выслала дозоры. Васильев остался с ядром разведки, назначил связных между ядром и дозорами и приказал выступать. Карцев был при командире. Дозоры ушли, Васильев с остальными людьми двинулся за ними.
Стемнело. Облака медленно плыли над лесом. Душная сыроватая теплота подымалась от земли. Карцев подошел к командиру. Ему хотелось поговорить с ним. И когда Васильев спросил (как часто он вообще спрашивал солдат), хорошо ли тот чувствует себя в походе, Карцев решительно ответил:
— Покорно благодарю, ваше высокоблагородие, хорошо! Разрешите спросить: ведь не может быть, чтобы мы и эту войну, как японскую, проиграли? Россию подняли и разворотили… Ваше высокоблагородие, если разворошить сумели, должны и великие дела сделать?
Васильев сбоку посмотрел на Карцева.
— Что же это ты, братец? — сказал он, и в его голосе послышались жесткие ноты. — Какой же ты солдат, если так рассуждаешь? Ты думаешь, что война как свадьба: заиграла музыка, и повели молодых к венцу? Нет, тут каждый шаг надо выстрадать, купить его кровью и муками. Ты русский, и у нас с тобой одна родина, которую мы должны оборонять. Вот, братец, как нам надо с тобой думать.
И, как бы подстерегая и угадывая те мысли, что могли укрыться в солдатской голове, он близко наклонился к Карцеву и строго закончил:
— Иначе думать не смеем! Думать иначе — это измена. Запомни — измена!
Карцев ничего не ответил. Кто-то осторожно коснулся его плеча, и, оглянувшись, он увидел смутные очертания лица, удлиненного бородой. Присмотревшись, узнал Голицына. Голицын пошел рядом.
— Слышал я, как ты разговаривал с ротным, — сказал он. — Над чем ты мучишься? Какие тебе великие дела нужны? Чего тебе от войны надо? Или ты от нее хорошее ждешь?
Голицын начал спокойно, даже иронически, но затем слова его зазвучали едко и злобно. Карцев хотел ответить, но не успел. От правого дозора прибежал связной, шепотком что-то доложил Васильеву, и капитан велел Карцеву и Голицыну идти на усиление дозора.
Они шли гуськом, и каждый раз, когда под ногами скрипела ветка, связной шипел:
— Тише вы!.. К девкам, что ли, идете?
Дозор залег на опушке леса. Карцев увидел ефрейтора Баньку и еще трех солдат, лежавших в кустах. Вдалеке мелькали тусклые точки огоньков, и трудно было угадать их происхождение.
— Рябинин туда пополз, — сообщил Банька. — Черт их знает, какие там огни. Вы, ребята, вдвоем пройдите шагов двести к ним. В случае чего — один беги ко мне с донесением.
Карцев и Голицын отправились. Карцев пробирался уверенно — сказывался опыт, приобретенный за эти дни. Мокрая трава брызгала в лицо прохладными капельками. Оба притаились в узкой, точно корытце, ложбине, и Карцев следил за огоньками, ни на секунду не выпуская их из поля зрения. Длинная огненная палка пролетела по черному полотну ночи, и донесся треск выстрела.
— Надо разузнать, — сказал Карцев. — Я поползу, а ты смотри не зевай, а то сразу снимут.
Голицын, кивнув ему, положил перед собой винтовку, поставил ее на боевой взвод. Сжавшись, щупая глазами тьму, он напряженно лежал, положив палец на спусковой крючок. Тревога оказалась напрасной. Стрелял солдат передового дозора во что-то белое, что появилось перед ним и, несмотря на окрик, продолжало двигаться. Белое оказалось заблудившимся гусем. Гусю свернули шею и опять залегли. Скоро послышался шорох: кто-то полз. Окликнули, наставив винтовки по шороху, и едва не застрелили Рябинина.
Вызвали Васильева. Рябинин доложил, что в деревне, расположенной в трех верстах отсюда, неблагополучно.
— Нет ни одного огня, а в проулке чьи-то голоса. Похоже, что немцы.
Васильев приказал остановить колонну, а сам вместе с Карцевым, Рябининым и Банькой отправился к деревне. Он быстро и легко шагал рядом с Рябининым, и оба они, небольшие, коренастые, казалось, были схожи, шли одинаковой охотничьей походкой. Впереди обозначилась черная масса строений. Согнувшись, они свернули с дороги и поползли. Близко залаяла собака.
— Не на нас, — прошептал Рябинин. — Брешет, не заливаясь.
Васильев полз впереди, за ним Рябинин; Карцев и Банька — немного позади. Вот в упор встало первое строение. Улица, как просека в лесу, светлела чуть заметно, тишина была такая чистая и ясная, что звенело в ушах. И вдруг — выстрел!
Они лежали, прижавшись к земле, и слышали голоса. Кто-то, грассируя, по-немецки ругался и грозил. Васильев пополз в сторону, за ним — остальные. Отползли к полю, обошли всю деревню. Вернулись к роте.
Максимов отказался от предложения Васильева окружить деревню и захватить неприятеля.
— Нет, голубчик, — вяло сказал он, — зачем нам ввязываться в авантюру? Нельзя ли нам как-нибудь миновать эту проклятую деревню? Ведите полк, капитан, ведите, родной мой! Я вам верю…
Васильев вынул карту (шинелями огородили свет электрического фонарика) и показал маршрут, которым следовало, по его мнению, идти. Денисов и Дорн возражали ему, остальные офицеры молчали, очевидно плохо ориентируясь в местности.
Итак, полк двинулся в сторону от деревни. Но нервное и тревожное настроение, которое было у командира полка и офицеров, не могло не передаться солдатам. Слух о том, что вблизи — германцы, а в засаде целый полк, каким-то неведомым путем распространился по колонне. Люди нервничали, жались в рядах друг к другу, испуганно всматривались в темноту. Каждая тень казалась им вражеским разведчиком, каждый шорох — щелканьем затвора или шагами крадущихся немцев.
При первых выстрелах, не проверив, в чем дело, Вернер с кучкой людей бросился на край дороги, залег с ними и приказал открыть огонь. Эти выстрелы еще больше увеличили панику.
Спасла случайность. Горнист несколько раз громко и отчетливо проиграл отбой. Дорн с молчаливым презрением оглядел Вернера.
— Эх, вы, — сказал он, — к маршировочке небось больше привыкли? То-то оно и сказывается.
Утром шел дождь. Прискакал забрызганный грязью ординарец и отдал Максимову срочный пакет. Полковник прочел, позвал батальонных и ротных командиров и объявил, что из штаба дивизии получен приказ: выбить противника из деревни Кунстдорф. Офицеры, внимательно слушая командира, проверяли маршрут, делали пометки.
Полк развертывался в боевой порядок: на правом фланге — первый батальон, на левом — третий, немного сзади, уступом к нему, — второй и в полковом резерве — четвертый батальон. Батарея, приданная полку, двигалась со вторым батальоном. Максимов со штабом и конными ординарцами расположился на краю деревни. Десятая рота была в авангарде батальона и наступала на левый угол Кунстдорфа, где за добротными сараями легко мог укрыться неприятель. Разведочные команды, приблизительно выяснив силы германцев, отошли к своим ротам. Цепи залегли и, перебегая под редким огнем немцев, продвигались вперед.
Вся картина боя отчетливо раскрывалась перед Карцевым. Поле, по которому они наступали, мохнатое, с рыжеватой шерстинкой от скошенных колосьев, шло под уклон к деревне, лежавшей в долине. Второе село, где расположился Максимов, осталось в двух верстах позади. Слева, на маленьком пригорке, тесно сбилась молодая сосновая роща. За ней, укрытая от неприятеля, стала на позицию русская батарея.
На правом фланге усилились выстрелы. Наступал первый батальон. Карцев ясно видел Вернера, бегавшего вдоль цепи. Вот он выхватил шашку, взмахнул ею, и третья рота, поднявшись, побежала к деревне. Германские пулеметы затакали часто и горячо, и вдруг ряд коротких громовых ударов, следовавших один за другим, потряс воздух. Третья рота, оторвавшись от батальона, бежала вперед, и простым глазом было видно, что до первых строений ей оставалось еще шагов четыреста, не меньше. Вернер очутился позади солдат, потом опередил их, замахал шашкой, и «ура», выкрикнутое им, донеслось до десятой роты. Потом он сразу исчез, точно провалился в яму. Рота валилась под пулями. Шагах в двухстах от деревни она залегла и до конца боя уже не двигалась вперед. Из-за рощи ударили русские пушки, и Карцев услышал радостный голос Васильева:
— Ай да молодцы артиллеристы! Как бьют, как бьют!..
Десятая рота пошла вперед, но Васильев изменил направление: он вел ее во фланг, в обход деревни.
— Возьмем их, возьмем! — уверенно говорил он. — Ползите к ним, прячьтесь за каждой кочкой, за каждым кустиком. Вперед, ребятушки! Чем скорее достигнем немцев, тем безопаснее.
Он управлял движением солдат, шутил, переходил от одного взвода к другому, заговаривал с самыми робкими и вел роту все ближе к тому рубежу, за которым уже не могло быть отступления, а только стремительный удар по противнику.
— Ну, вот и время! — прокричал Васильев звенящим голосом. — По передним равняться! С богом, за мной, в атаку! Ура!
Карцеву показалось, что кто-то поднял его и бросил вперед. Он, крича, скачками несся вперед, и рядом с ним, и обгоняя его, бежали с винтовками наперевес и тоже кричали солдаты. Он увидел Черницкого без шапки, Чухрукидзе — с оскаленными зубами, Голицына — ощетинившегося и колючего, наклонившегося вперед, с подрагивающим штыком, Рогожина — красного, с раскрытым в крике ртом. Все они бежали, охваченные желанием бить и колоть врага.
Карцев перескочил через канаву. Фуражка дернулась у него на голове, точно ее хотели сорвать, но он все бежал и бежал вперед. Шрапнель с визгом пролетела над ним и разорвалась шагов за сто впереди, и он, ликуя, с глубокой благодарностью подумал, что это русская шрапнель, которая охраняет его, действует с ним заодно. Он уткнулся в забор, с размаху, как на гимнастике, перескочил его.
— А, то-то же! — злобно крикнул он, наблюдая, как люди в зеленоватом обмундировании улепетывали что было силы. Опустившись на колено, он вскинул винтовку. И сейчас же несколько человек стали стрелять в немцев.
Сзади кричали «ура». Восьмая рота набегала правее от них на деревню, и в цепи Карцев заметил знакомую высокую фигуру.
— Мазурин! — крикнул он, как будто тот мог его услышать.
Мазурин стрелял навскидку и, наклонив штык, бежал к дому, откуда раздавались выстрелы.
Карцев снял фуражку, вытер потный лоб. Фуражка была прострелена.
Первый батальон, отставший из-за неразумного удара Вернера, атаковавшего противника со слишком большой дистанции, поздно вступил в бой. Но резервные роты, двинутые Денисовым, уже обошли деревню, и смелая атака третьего батальона решила дело. Деревня была взята, и батарея, галопом выскочив на улицу, снялась с передков и начала прямой наводкой бить по отступающим германцам.
Рябинин шел, прихрамывая. Пуля оцарапала его, но он, перевязав ногу, остался в строю. Солдаты расходились по избам, по садам, с любопытством отыскивая следы недавнего пребывания германцев. Чухрукидзе показывал черную островерхую каску, которую он нашел в маленьком окопе. Голицын рассматривал плетеную фляжку с ромом, осторожно отпивал из нее.
Третий батальон остался в деревне. Кухни расположились возле самых изб. Солдаты тесными группами расселись и разлеглись на земле, недалеко от сарая, довольные исходом дня.
Голицын угощал товарищей ромом. Рябинин рассказывал о раненом германском офицере, которого он на плечах притащил в штаб.
— Обязательно крест дадут, — уверял Голицын.
Мимо прошел солдат, опечаленно смотря в фуражку, которую держал в руках.
— Что, земляк, — весело спросил Голицын, — покойник у тебя там?
— Вроде того… Подобрал яйца с трещинкой. Вытекают… Жалко — яичница пропадает… Не знаю, где пожарить?
— Жарь в фуражке! — рассмеялся Голицын. — Ей-богу, жарь!
Все дружно захохотали.
Издалека донеслись выстрелы. В стороне, жужжа, пролетел аэроплан.
Чухрукидзе рукавом чистил каску — на ней был матовый рыжеватый след крови — и что-то напевал себе под нос. Воробьи пищали и возились на соломенной крыше сарая. По небу ползло белое облачко, похожее на разрыв шрапнели. По улице два солдата тащили за рога упиравшуюся корову.
Максимов, красный, вспотевший, тянул воду из фляжки. Испуганно озираясь, к нему подошел Денисов и стал шептать на ухо. Полковник снял фуражку, перекрестился.
— Жалко, — сказал он, — очень жалко! Но что поделаешь — война!
— Да нет же, — пробормотал Денисов, — не в том дело. В спину, понимаете, в спину убит… А шел впереди роты…
Полковник ошалело посмотрел на него, слабо махнул рукой, словно отводя то страшное, чего он боялся и чему не хотел верить, и, бросив взгляд на проходивших мимо солдат, тихо спросил:
— А они… нижние чины видели… тело?
— Поставил фельдфебеля, не велел никого подпускать. Разве я не понимаю? Ах, подлецы…
— Пойдемте, капитан. Вы проводите меня к убитому, — сказал Максимов, трясущимися руками поправляя пояс.
Максимов и Денисов пошли в поле. Вернер лежал на груди, широко раскинув ноги. Конец шашки высовывался из-под рыжей бороды. Фельдфебель — сорокалетний человек, скуластый, с висячими усами, — с выражением страха, виноватости и отчаяния смотрел на офицеров. Они наклонились над трупом. Защитная суконная рубашка на левой части спины была пропитана кровью. Открытые глаза застыли в выражении ярости, голова была повернута набок, будто Вернер, умирая, хотел оглянуться. Денисов опустился на колени и перевернул мертвеца.
— Не вышла пуля, — глухо проговорил он. — Надо найти.
Офицеры расстегнули пояс на убитом, подняли рубашку. Рыжие волосы блеснули золотом, рана была и на груди. Она чернела чуть ниже правого соска. Пуля прошла навылет, но на гимнастерке не было никакого отверстия. Денисов нащупал бумажник, вытащил его из внутреннего карманчика рубашки. Хмыкнув, показал Максимову на дыру в бумажнике. Пуля лежала в тугой пачке красненьких ассигнаций. Денисов молча протянул пулю командиру. Она немного сплющилась. Тяжело задумавшись, Максимов рассматривал маленький кусочек свинца, заключенный в никелевую оболочку. Винтовые нарезы остались. Русская пуля — кто выпустил ее? Он вздрогнул от охватившего его бешенства и, тяжело ступая, пошел прочь.
У каменного двухэтажного дома, где помещался штаб корпуса, стояли автомобили. Корпусной командир генерал Благовещенский сидел в маленькой комнатке и, пальцами расчесывая окладистую бороду, изучал недавно вышедшую книгу Черемисова «Действия корпуса в полевой войне». Книга с трудом давалась ему. Оперативные распоряжения были для него всегда тяжелым и неприятным делом, но зато он хорошо усваивал те страницы книги, где говорилось о месте командира корпуса на ночлеге и об указаниях, которые он должен в это время давать. Автор рекомендовал корпусному штабу для большей безопасности ночевать в районе расположения одной из дивизий, и Благовещенский был крайне благодарен ему за мудрый совет. В горячие моменты он, под видом корпусного резерва, держал при себе целый полк и не отпускал его, боясь остаться без достаточной охраны. Это был тихий по виду человек, с седой бородой и мышиными глазками, внимательно смотревшими из-под мохнатых бровей. Всю свою жизнь он провел в канцеляриях и был свято убежден в том, что ни одно распоряжение не достигнет своей цели, если будет отправлено без исходящего номера. Он был автором руководства для адъютантов под названием — «Правила выдачи литеров для бесплатного проезда воинских чинов по железным дорогам». Руководством этим Благовещенский весьма гордился и сорок экземпляров его с собственноручными надписями разослал виднейшим генералам, начиная с военного министра и начальника главного штаба.
Сейчас корпус находился в трудном положении. Одна дивизия, атакованная с фронта и флангов, с большими потерями отступила на десять верст. По плану в этом бою должен был участвовать весь корпус. Вторая дивизия шла на соединение с первой, но на марше поступил приказ Благовещенского вернуться в исходное положение.
Карцев наблюдал, с какой неохотой возвращались войска по уже раз пройденной дороге.
— Идем туда, идем сюда, — говорили они, — а кто знает, зачем надо по два раза идти, чтобы очутиться на том самом месте, откуда вышли? Высокая стратегия!.. Солдату не понять…
Поздно вечером пришли в деревню, откуда выступили утром. Васильев нервничал. Невнятно ругаясь, он ходил перед ротой и, когда появился Дорн, заговорил с ним шепотом:
— Долго ли это будет продолжаться? В чем, наконец, дело? Знакомы вы с положением корпуса? Почему мы вернулись сюда?
Дорн молчал. Сняв очки, он долго протирал их платком и горбился, как очень уставший человек.
В полночь, когда солдаты спали прямо на земле, положив под головы походные мешки и укрывшись шинелями, офицеры и взводные принялись будить их. Ошалевшие, плохо соображающие люди с трудом подымались, перебрасывали через головы лямки мешков, брали винтовки, покорно строились. Солдаты не знали, что корпусной командир, встревоженный донесениями о наступающем неприятеле, решил отойти. Обнажался правый фланг армии, о чем не был извещен соседний корпус. И даже командующий второй армией узнал об отступлении своего правого фланга только на следующий день.
Сталкиваясь друг с другом, налезая на передние ряды или растягиваясь, шли по ночной дороге колонны солдат. Часть войск двигалась проселками. В третий раз в течение одних суток корпус выполнял противоречивые приказы своего командира. Не только солдаты, но и офицеры не представляли себе, в каком положении они находятся: отступают или идут на сближение с противником? Смешались роты. Слышалось тяжелое дыхание. Многие спали на ходу. Люди три дня не принимали горячей пищи, догрызали последние сухари… Обозы и походные кухни были далеко в тылу. В спину Карцева равномерно тыкалась чья-то голова, и, оглядываясь, он видел черную фигуру, все время валившуюся вперед, но идущую, идущую. Странное ощущение овладело им. Плывет, покачиваясь, множество круглых голов. Над головами почти не видны тонкие полоски штыков. Под синим полушарием августовского неба, под россыпью звезд, мимо лесов, мимо чужих строений плывет и он, и голова его тоже тихо качается на поверхности полевого моря, широко и ровно разлившегося кругом. Восходит луна. Свет ее тревожен, он подобен цвету раскаленной меди. Свет этот ширится, захватывает большое пространство и вдруг возникает с другой стороны неба.
— Пожар! Пожар! — шепчут солдаты, смотря на далекие зарева.
Ночь наливается темно-багровой мутью, уже видна дорога, ведущая к черному массиву леса. Где горит? Кто поджег? С какой стороны неприятель? Солдаты расспрашивают друг друга, офицеров. Зарева сдвигаются, окружают дорогу, пожары выдают присутствие войск. Карцев видит сухое лицо Васильева, его внимательные, в напряжении сощуренные глаза и спрашивает:
— Германцы, должно быть, подожгли, ваше высокоблагородие?
Капитан молча кивает головой и смотрит на зарево, появившееся с другой стороны дороги. Карцев понимает: Васильева тревожит, что пожары начались сразу с двух сторон, это похоже на планомерный поджог.
Лес впереди страшен. Грозная его темнота проглатывает колонну. Кто-то толкает Карцева. Это Черницкий показывает ему головой: иди за мной. В темноте легко это сделать, нужно только замедлить шаг. И вот они оба идут рядом, вне своей роты.
— Один человек хочет тебя видеть, — говорит Черницкий. — Догадываешься — кто?
Карцев разглядывает в темноте высокую фигуру и радостно спрашивает:
— Мазурин?
Широкая сильная рука сжимает его руку, и он слышит низкий грудной смех Мазурина.
— Еще не убили?.. Крепок же ты, Карцев, в землю врос, никак тебя не выдернешь!
Он спрашивает о делах обыденных, но голос у него такой теплый, он с таким вниманием слушает ответы Карцева, что все его слова приобретают особое значение. По-прежнему Мазурин ровен и спокоен. По-прежнему исходит от него обаяние сильного человека, хорошо знающего, что ему надо делать. Он слушает, потом рассказывает о последних боях, о товарищах по роте.
— Орлинского не видел? — интересуется Карцев. — Несколько дней ничего о нем не слыхал.
— Вчера видел, — отвечает Мазурин. — Он был легко ранен, но остался в строю. Даже в полковой околоток на перевязку не пошел. Теперь же нет Вернера…
Вернер официально считался павшим в бою, но весь полк знал, что командир третьей роты убит своими солдатами. Знали также, что негласно велось следствие и что поручик Журавлев и фельдфебель следят за нижними чинами и подслушивают их разговоры. Из сорока кадровых солдат третьей роты на подозрении человек семь-восемь, и среди них — Орлинский. Фельдфебель прямо указывал, что их высокоблагородие покойник так сильно донимали Орлинского, что не иначе как тот, ожесточившись, застрелил его.
— Плохо его дело, — задумчиво сказал Мазурин. — Расстреляют. Пускай лучше сдается в плен.
— Что ты говоришь! — воскликнул Карцев. — Как это так — сдаться в плен? Ты ведь воюешь, не сдаешься?
— У меня и тут дела найдутся, — не сердясь, ответил Мазурин и положил руку на плечо Карцева. — Ты думаешь, я за царя воюю?
Карцев, пересиливая себя (не хотелось этого говорить), сказал:
— Видел я, как ты в атаку шел. Стрелял, кричал «ура». Значит…
— Значит, воюю, — согласился Мазурин. — Что же тут поделаешь? Хочу не хочу, но я солдат, и некуда мне от этого уйти. Когда другие стреляют, и я стреляю. Я знаю, — продолжал он, движением плеча поправляя за спиной винтовку, — что мне, тебе, всем им, — он показал рукой на солдатские колонны, — да, всем им не за что воевать, но они воюют, воюют потому, что у них нет своей воли. И я здесь для того, чтобы помочь им эту волю добыть!
— Помочь? — с горечью произнес Карцев. — Как же ты им поможешь? За одно острое слово тебя расстреляют. Да разве такую машину свалишь?
— Все придет в свое время, — ответил Мазурин. — Думаю, что на войне дело скорее делается. На своей крови учится солдат. Да, я стреляю, я воюю. Но если хоть чуточку повеет новым духом, если почую я, как солдат становится другим оттого, что доела, догрызла его война, тогда я буду на своем месте, буду в открытую действовать. Вот почему я на фронте воюю. За себя, за тебя, за всех нас, за народ!
Они шли по тропинке, тянувшейся рядом с дорогой. Глухо лязгали штыки, мерный тяжелый топот тысяч сапог был похож на шум морского прибоя.
Пушечный выстрел донесся с запада — оттуда, где горело. Зарево усилилось. Как рана, багровело оно на темно-синем небе. Сквозь густую сеть деревьев на дорогу и на лица солдат ложились неровные тусклые блики. Лес казался еще темнее. Он уходил к оврагу, к пожару, и вдали, на самой лесной опушке, уже виделись нарастающие пухлые клубы дыма.
Сзади в колонне что-то началось. Донеслись крики, потом редкие, а затем все учащающиеся выстрелы.
— Немцы! Кавалерия! — послышались испуганные голоса.
И вдруг темная, грохочущая масса, опрокидывая все на своем пути, вынеслась из-за поворота.
Одни бросились в лес, другие стреляли, сами не зная куда и в кого.
— Стой! Стой! — завопил кто-то таким голосом, что сотни голов повернулись к нему. — Это же наш обоз! Что вы, черти, стреляете?!
Приказали остановиться. В стороне от дороги какой-то офицер кричал:
— Говорили же, сто раз говорили, что не нужно без крайней необходимости назначать ночные марши! Не умеем мы их проводить!
— Прошу не нервничать, полковник! — ответил резкий картавящий голос. — Что за бабья распущенность на войне? Надо же подтянуться наконец, господа!
— Подтянешься с таким корпусным, — с горечью ответил первый. — Скажите мне, какой маневр мы сейчас выполняем? Пытаемся восстановить положение или просто удираем? Мы дрались вчера весь день. А где в это время была вторая дивизия? Почему она не поддержала нас? Хотите, скажу, почему? Потому что командир корпуса не имеет представления, что такое современный бой.
Вспыхнула спичка и осветила небритый мускулистый подбородок и вытянутые губы, зажавшие папиросу.
— Я ушел из штаба корпуса, — продолжал первый, — так как не мог дольше всего этого выносить. Назначили помощником командира полка, пусть хоть батальон дадут, я все равно не остался бы там. Не могу я — полковник генерального штаба — быть свидетелем того, как корпус ведет бой на основах тактики прошлого века! Командир корпуса приказал вести наступление в густых строях, с тем чтобы потом, по-драгомировски, броситься в штыки. Все резервы велел нагромоздить в тылу и посылал их в бой пакетами. Понимаете, какой ужас? И такому человеку вверяют больше сорока тысяч жизней, больше ста орудий!
Несколько секунд было тихо, только по разгорающемуся и затем тускнеющему огоньку можно было видеть, как усиленно затягивался папиросой полковник. Картавящий голос неуверенно спросил:
— Почему же вы ничего не сделали, не доложили куда следует, что-де нельзя терпеть такого корпусного?
Папироса, прочертив в воздухе светлую дугу, упала на землю.
— Докладывал… Докладывал лично начальнику штаба армии. Мне ответили, что тогда придется сменить девяносто процентов генералов, и, кроме того, в данном случае есть еще одно обстоятельство, так сказать, частного характера: Благовещенский был назначен самим государем… Перед войной он был за несоответствие занимаемой должности представлен главным штабом к увольнению. Говорят, что при помощи самого Распутина он добился аудиенции у государя и был оставлен на службе. Вот и все. Понятно теперь вам?
Ветер зашелестел в лесу. Небо светлело, но оставалось желтовато-бурым, необычным, и невольно возникала мысль, что таким оно бывает только во время стихийных бедствий. Офицеры, разговаривавшие на краю дороги, медленно шли обратно. Один из них сказал:
— Теперь можно не сомневаться. Мы отступаем. Что будет с армией?
Другой ответил почти спокойно:
— Знаете, что мне сказал Благовещенский, когда я несколько дней назад докладывал ему, что наше отступление ставит под угрозу всю армию? Он сказал, что ничего не знает об общем положении на фронте и беспокоится только о своем корпусе.
Они скрылись в темноте.
Начальник корпусного штаба в эту минуту уже в третий раз спрашивал дежурного офицера, установлена ли связь со штабом армии, и дежурный в третий раз отвечал, вытянувшись и с выражением отчаяния на молодом энергичном лице, что никак нет, связь не установлена.
Начальник штаба постоял, барабаня пальцами по маленькому стеклу окна деревенской избы, где в эту ночь остановился штаб. Последние радиограммы, полученные из штаба армии, после неумелого их расшифрования оказались настолько бессмысленными, что в них ничего нельзя было понять. Выяснилось, что такие же случаи бывали и в других корпусах, и теперь, по неофициальному разрешению командующего армией, радиограммы посылались в незашифрованном виде. Но в последний день не приходили и они.
Восьмая германская армия, сосредоточенная против армии Самсонова, представляла собой в эти дни нечто вроде коромысла, на концах которого висели большие гири. Линия коромысла была тонкая и слабая линия германского фронта, противостоящего русским, а гири — мощные ударные группы, нависшие над русскими флангами и сбивавшие их тяжелыми ударами.
В то время, когда корпус, в котором служил Карцев, отступал на правом фланге армии, на левом происходили еще более трагические события.
Первый корпус атаковали германцы. Атаки были отбиты. Командиры двух русских полков, находившихся в нескольких верстах от места боя, по своей инициативе двинулись на выстрелы и, неожиданно напав на противника, разбили его и обратили в бегство. Охваченные паникой, начали отступать и другие германские части, поспешно двинулся назад обоз, и положение русских, имевших крупные резервы, стало на короткое время исключительно благоприятным. Солдаты, возбужденные успехом, дрались великолепно. Но успех не был использован. Командир первого корпуса генерал Артамонов держался пассивно, хотя в его распоряжении были силы, превосходящие противника. Ключ к русской позиции был в Уздау. До самого полудня русские сражались упорно, несколько раз бросались в штыки и сумели отбросить наседавшего врага. Артамонов со своим штабом находился в это время за несколько верст от места боя. (В мирное время он был хорошо известен солдатам как «иконный генерал». При посещении казарм, небольшой, плотный, с расчесанными усами, он тихо шел по помещению, выставив грудь, всю увешанную орденами, и заглядывал в углы. Его интересовало, достаточно ли икон имеется в ротах и хорошо ли знают солдаты молитвы.)
Канонада усилилась. Артамонову доложили, что надо послать гвардейские части. Генерал, закрывая руками уши и болезненно морщась, ответил, что нельзя трогать гвардию и лучше отступить… Уздау был оставлен русскими весь в пламени. Войска отходили неохотно, они были разгорячены удачным для них боем. Первый корпус откололся от армии — второй ее фланг был сбит. Главнокомандующий Северо-Западным фронтом за день до этого поздравил Самсонова с победой под Орлау, которая (как и все выигранные в этой операции бои) ничего не дала русским. А Самсонов хотя и беспокоился за свои фланги, но не считал еще положение опасным.
В тот день, когда Артамонов своим отступлением открывал германцам путь на Нейдебург, где был стратегический центр армии, Самсонов прибыл в этот город со всем своим штабом. В шесть часов вечера в богатом каменном доме, принадлежавшем бургомистру, подавали парадный обед. Рядом с Самсоновым — полным стариком с красивыми белыми усами — сидел генерал Нокс. Он разговаривал с Новосельским о последних операциях. Нокс, знакомый с планом русского командования, считал, что дела идут хорошо. Он пил коньяк из высокой хрустальной рюмки и, глядя на Новосельского помутневшими глазами, объяснял свою точку зрения на военные события.
— Немцы идут на Париж, — говорил он. — Пускай идут!.. Они думают, что там, как в тысяча восемьсот семьдесят первом году, лежит решение войны. Они скинули со счетов такую мелочь, как Англия. Но поверьте, дорогой мой, что мы немцев достанем, где бы они ни были — в Париже или Берлине. Германии незачем было лезть в море. Море — это не германская стихия. И мы перережем все кровеносные трубы, которые тянутся через море к Германии. Я думаю, что ваши храбрые войска сломают им ноги, прежде чем они смогут предпринять что-нибудь серьезное против Англии, не правда ли?
За столом становилось все шумнее.
— Пьем за героев Орлау! — провозгласил Самсонов, подымая бокал.
И начальник штаба, улыбаясь, показывал телеграмму главнокомандующего с поздравлением по случаю победы и говорил:
— Во всяком случае, мы идем вперед. Уже отхватили порядочный кусок немецкой земли и отхватим еще больше. Завтра будем в Алленштейне, а оттуда прямой путь на Берлин!
— Из Гумбиннена — дальше, — сказал кто-то.
Этот намек на медленное продвижение первой армии после победы Ренненкампфа под Гумбинненом офицеры встретили смехом.
— Вперед, вперед, вперед! — вполголоса запел полный, очень красивый офицер, дирижируя стаканом, и сразу умолк, с недоумением уставившись на дверь.
Дверь полуоткрылась, и армейский офицер, в плохо пригнанной гимнастерке, смущенно выглядывал из передней, видимо не решаясь войти. Начальник штаба заметил его и позвал рукой. Сутулясь под взглядами блестящих военных, вбирая внутрь носки запыленных сапог, офицер подошел к начальнику штаба и подал запечатанный конверт. Тот вскрыл его, прочел, и все увидели, как дрогнули его руки. Привстав, он протянул Самсонову развернутый листок и что-то сказал. Полная, не по-стариковски гладкая шея Самсонова налилась кровью. Это была телеграмма Артамонова о том, что Уздау взят немцами и левый фланг армии через Сольдау отступает на юг.
Самсонов тяжело встал (за ним вскочили все присутствующие) и, с трудом скрывая волнение, сказал:
— Продолжайте, господа, прошу вас, продолжайте! — и вышел вместе с начальником штаба.
Они долго сидели перед картой, висевшей на стене в комнате Самсонова. Цепь красных флажков, изображавших линию фронта, тянулась через карту. В центре цепь сильно выдавалась вперед, на флангах же, особенно на левом, она круто загибалась назад. Но кое-где флажки отсутствовали — штаб армии не имел сведений о точном нахождении некоторых частей.
— Как же, скажите мне, как же могло так получиться? — спросил Самсонов. — Ведь мы заходим левым плечом, отбрасываем противника на север, на Ренненкампфа, а наш левый фланг оказался позади центра! Стало быть, мы совершенно не так двигаемся и маневрируем, как это нужно?
Начальник штаба молчал. Он лучше Самсонова понимал, что армия в эти дни фактически не управлялась.
В утреннем воздухе, синем и необычно прозрачном, была свежесть, предвещавшая осень. Трава уже утратила летнюю окраску, стала тусклой, вялой. Береза, одиноко росшая среди елей, резко выделялась, точно была посажена здесь по ошибке. Три солдата, укрывшись двумя шинелями, спали под елью. Карцев приподнялся, протирая глаза. Черницкий еще спал, лежа между ним и Голицыным, — среднее, самое теплое, место досталось ему по жребию.
Уже двое суток полк метался на пространстве в пятнадцать — двадцать верст, то наседая на немцев, то вдруг по непонятным для солдат причинам отступая в леса. В этот глухой овражистый лесок с маленьким озерцом посредине они попали ночью после утомительного марша и сразу же, без ужина, без глотка воды, легли спать — где кто стоял. Не было видно ни одного дозора. Карцев удивился беззащитности полка, так беззаботно подставившего себя неприятельскому нападению. Он сделал несколько шагов по едва различимой тропинке, как вдруг маленькая фигурка радостно бросилась к нему и крепко обняла. Он узнал Комарова, солдата их роты, уволенного в запас за несколько месяцев до войны.
— Это я, — говорил он, — я, Комаров! Козявка человеческая… Помнишь, как ты меня в казарме папиросами угощал? Ох, все-таки ничего жили, сыты были, хоть и доставалось… Конечно, в карман плохого не спрячешь, оно из дыры вылезет.
И, весело ощупывая Карцева глазами, поглаживая его по руке, он деловито осведомился:
— Машкова, стервь эту, не убили? Полезно было бы… А Черницкий живой?
Услышав свою фамилию, Черницкий вылез из-под шинели. Комаров подбежал к нему и так же, как и Карцева, по-дружески обнял. Красноватые, лишенные ресниц его глаза сияли. Обычной своей скороговоркой он начал рассказывать, что полк, в который его назначили, призвав из запаса, не был намечен для боевых действий, и половину солдат поэтому вооружили берданками. В полку оказались сплошь бородачи, рассыпного строя они еще не знали и в первый же день после высадки из вагонов, услышав артиллерийскую стрельбу, разбежались. Пустился наутек и он, Комаров, два дня бродил в лесу.
— Определюсь к вам, — решительно сказал он. — Вы свои ребята. Разве я ополченец, чтобы мне во второочередных частях служить? Я же самый что есть кадровый солдат!
— Перестань молоть, сорока, — остановил его Черницкий. — Расскажи лучше, что слыхать в России? Что там люди о войне говорят?
— А ничего не говорят, — беззаботно ответил Комаров. — Провожали нас, подарков понадавали, а бабоньки, конечно, плакали. Раз только погнали нас на один заводик военный… Забором окруженный, поверху колючая проволока, у ворот, значит, часовой. Ну и так далее… Вошли это мы, значит, с прапорщиком, целый взвод, и повел нас инженер рабочих арестовывать. Глядим, машины у них остановленные, работать не хотят, а на самой главной машине, значит, красный флаг. Прапорщик у нас был образованный, говорун человек, он сейчас же к рабочим речь держать: стыдно, мол, вам, люди вы русские, братья ваши проливают за вас кровь, а вы чего такое делаете? Рабочие, значит, мнутся, много ли скажешь, коли взвод с винтовками стоит! Но все же один выступил. «Мы, говорит, господин офицер, требуем, значит, чтоб нас отсюда отпустили. Не хотим тут работать, и вся недолга!» Тут, значит, прапорщик ему кричит, что он, мол, не русский, коли так думает, а немец, значит, шпион, я приказал всем браться за работу. Поставили посты у машин, а парня этого забрали и прямым ходом — в маршевую роту. Вот, значит, какой случай был… А так — никто ничего не говорит.
Полк подняли. Не было ни хлеба, ни чая. Солдаты размачивали сухари в воде. Офицеры завтракали мясными консервами, сыром, пили кофе с коньяком. Полковым офицерским собранием заведовал прапорщик, сын ресторатора. Он за свой счет покупал продукты, лебезил перед командиром полка, кормил его роскошными обедами и все это делал для того, чтобы не попасть в строй. Толстый, с опухшими глазками, он носился по своей столовой-палатке, обслуживал офицеров с таким вкусом и ловкостью, как будто дело происходило в ресторане.
Комаров доложился было прапорщику как помощник повара. Бегло оглядев маленького, исщипанного солдата, тот молча взял его за плечи, повернул и толкнул прочь от палатки. К солдатам он относился с инстинктивной боязнью — так же, вероятно, боятся в голодное время владельцы ресторанов тех нищих, что бродят под их окнами.
Вернулся с разведки Рябинин. С тех пор как он вместе с Карцевым принес важные сведения о высадившихся германцах, его часто посылали в разведку, и он охотно и хорошо выполнял свое дело. Рябинин был весел; покряхтывая, снял сапоги и сообщил, что с севера идут германцы — никак не меньше дивизии. Хитро улыбнувшись, достал из-за пазухи узенький сверток и положил на землю. В свертке было сало, неведомым путем добытое им. Нарезая его тонкими ломтиками, он говорил:
— Ешьте, ребята, не часто сальце перепадает солдату…
Офицеры еще были возле своей палатки, когда вдруг все услышали тяжелый, низкий гул. Он повторился через минуту, и сотни испуганных людей вскочили с земли. Гул напоминал артиллерийские выстрелы, но был необычайно силен, зловещ. В нем таилась ужасающая неизвестность, коварный сюрприз хитрого врага. Земля вздрагивала от ударов.
Пришел Васильев.
— Что, ребята, страшновато? — спросил он, пробежав взглядом по бледным солдатским лицам. — Это тяжелая германская артиллерия. Бояться нечего.
— Пушки, пушки-то какие! — нервно поеживаясь, прошептал Рогожин. — У нас таких нету. Не дай бог, попадет ихний тяжелый снаряд — все ведь разворотит!
Рогожин точно накликал. Высоко в воздухе послышался быстро растущий рев. Снаряд с чудовищной силой пронесся над лесом. Взрыв всех ошеломил. Короткий вихрь рванул воздух. Потом наступила мертвая тишина. Полк двинулся вперед. Шли по прекрасной лесной дороге. Ели и сосны ровными, вымеренными рядами, как бы в почетном карауле, стояли вдоль нее. Промчалась артиллерия. На опушке леса орудия снялись с передков. Крупных, взмыленных лошадей отвели в лес, и подполковник в очках, наблюдая в бинокль что-то, не видное колоннам, громко подал команду. Полк на опушке леса поспешно развернулся в боевой порядок. Впереди расстилалось поле, и солдаты увидели, как с правой стороны леса выбежали русские цепи, а с левой — выскочил казачий полк. Донцы лавой, с гиканьем помчались вперед. Их маленькие кони стлались в бешеном намете. Всадники, стоя на стременах, клонились к конским головам, и клинки шашек сверкали, как искрящиеся на солнце водяные фонтанчики.
— Вперед, с богом вперед! — закричал Дорн, скача вдоль фронта на рыжей лошадке. — Теперь-то мы их поймали!
Пригибая головы, солдаты побежали в поле. С германской стороны почти не было огня, там как будто стреляли в другую сторону.
— Во фланг, во фланг берем! — услышал Карцев радостный голос Васильева.
Германская часть, на которую они шли, была повернута к ним боком — германцы отражали атаку с другой стороны, и нападение отсюда было для них неожиданным. Это походило на захватывающую игру. Вокруг себя Карцев чувствовал (чувствовал, а не видел — смотреть кругом нельзя было) возбужденные лица товарищей, они делали то же, что и он, как и он, были охвачены острым желанием скорее броситься, ударить, захватить врасплох, выиграть игру. Выскочил вперед Руткевич, размахивая саблей, неловко, как жеребенок, подпрыгивая на длинных, тонких ногах. В цепи на секунду показалось сосредоточенное лицо Бредова и перекошенное дикой гримасой лицо Машкова. Васильев шел деловито, уверенно.
«Вперед, вперед!» — думал Карцев и вдруг смутно различил перед собой напряженное лицо, очень сердитое, по-собачьи тонкое у подбородка, но с синими, чистыми глазами. Лицо это не пропадало несколько секунд, толстые губы смешно топырились на нем, и серая полоска пронеслась в воздухе. Серая полоска была германским штыком, чуть не проткнувшим Карцева, но Рябинин прикладом свалил немца. «Я не один. Вот как меня защищают… Эх, родные!» — мелькнула мысль у Карцева. В горячности, в боевом запале он мало примечал, что творилось вокруг. Только узенькое пространство, на котором он действовал, существовало для него. Чувство счастья охватило его, когда он ощутил локоть Голицына, твердый, дружеский локоть. Он не хотел отставать от товарищей, рвавшихся вперед. Его привычные солдатские руки лезли в сумку за обоймами. С суховатым треском закрывался и открывался затвор, прочно и удобно входил в плечо приклад. Вид бегущих немцев заставил кричать «ура», но он уже не стрелял в них, незаметно для себя переходя к иному, более спокойному настроению. Чаще осматривался вокруг, замедлял бег.
Наступала перемена в бою. Опрокинутые фланговой атакой, немцы бежали. Убитые и раненые лежали в поле, в тыл вели пленных, и четыре русских солдата тащили на плечах (чтобы все видели!) германский пулемет. Но чаще доносились выстрелы орудий, шрапнель рвалась над русскими цепями. А цепи, скучившись, топтались на месте, и младшие офицеры, потеряв связь со штабом полка, не знали, продолжать ли наступление. Русская батарея била из лесу, и снаряды визжали в воздухе, как сверла, режущие металл. Поле было ровное, и только в одном месте оно горбилось холмиком. Десятая рота заняла этот холмик. Карцев, лежа на земле, услышал команду. Солдаты поднялись. Васильев решил вывести роту из пункта, который сильно обстреливали. За холмиком хриплый знакомый голос ругался, и Карцев, посмотрев туда, вскочил и побежал. На земле, подогнув под себя ногу и опираясь на руки, сидел Чухрукидзе. Взвод уже шел вперед, и Машков кричал, чтобы солдат подымался. Чухрукидзе, взглянув на взводного, рванулся. Ноги его вытянулись, спина глухо стукнулась о землю, руки прижались к бедрам. Он лежал навытяжку, как поваленный манекен. Лицо его желтело и морщилось от боли, но горячечные глаза не отрывались от глаз Машкова. Карцев наклонился над Чухрукидзе. Синие губы солдата раскрылись, он, должно быть, хотел улыбнуться, но вместо улыбки застонал.
— Ранен? Ранен? Отвечай! — спрашивал Карцев, весь стиснутый щемящей жалостью к товарищу. — Да брось же, брось тянуться, — почти плача прокричал он и нежно отвел руки раненого от бедер.
— Ты что, санитар? — побагровел Машков. — В бой иди, сволочь! В бой! Плакальщики и без тебя найдутся!
Карцев поднял голову. Горло у него сдавило. Он смотрел на взводного — человека с медным, тупым лицом, долгие месяцы мучившего его и Чухрукидзе, отравившего им жизнь, смотрел как на врага. Молча нагнулся над Чухрукидзе, поцеловал его в губы и, схватив винтовку, побежал вперед.
Бой продвигался дальше. Все чаще и чаще стреляла германская артиллерия. Карцев шел к лесу, догоняя наступающую цепь, припадал к земле, когда свистели пули. Но идти уже не хотелось, и, увидев заминку в наступающих цепях, он лег в окопчик, очевидно наспех вырытый кем-то совсем недавно, и лежал там долго, спрятав в прохладной ямке лицо.
Русское наступление затихло. До леса так и не дошли. Прибежал рыжий прапорщик, исполняющий обязанности помощника полкового адъютанта, и передал приказ. Полк был обойден с тыла, требовалось скорее отходить. Лежа в окопчике, Карцев услышал глухой топот бегущих ног и увидел расстроенные цепи, поспешно отходившие назад. Одни шли, сжав плечи, другие ругались и часто останавливались, с колена стреляли по лесу.
Небо было голубое, ласковое. Далеко на западе виднелось белое пятно германского привязного аэростата.
Полевая почта привезла письма. С удивлением смотрел Бредов на маленький голубой конверт, на тонкие, знакомые буквы, которыми был написан адрес.
Жена, покинутая где-то квартира и вся мирная жизнь казались ему маленькими, как кажутся маленькими предметы, когда смотришь на них в большие стекла бинокля. Он прочитал письмо, не содержавшее в себе, как он подумал, ничего значительного, и, вспомнив, что еще ни разу с начала войны не смотрел на портрет жены, достал ее фотокарточку из бумажника и с любовью, даже с любопытством стал рассматривать. Он подумал, что надо ответить на письмо, и решил сделать это завтра.
Недалеко от него на шинели лежал Васильев и читал письмо. Лицо у него было размягченное, добрые морщинки собирались у носа.
— Вот-с, — растроганно сказал Васильев, — пишут мои… кланяются, целуют… жена, дочка.
Бредов сочувственно улыбнулся и медленно пошел в лес, хотя знал, что идти туда опасно. С небольшими паузами раздавались пушечные выстрелы, точно где-то били страшные, гигантские часы. Всматриваясь в кусты, часто разросшиеся здесь, он шел по узенькой, малохоженой тропинке. Его окликнул дозор. В невысоком широкоскулом солдате Бредов узнал Рябинина.
— Что, близко? С этой стороны? — спросил он.
Рябинин усмехнулся:
— И с этой, и с той, ваше благородие! Далеко не ходите.
Бредов, хмурясь (неприятно было, что солдат так ясно видел плохое положение полка), кивнул Рябинину и пошел дальше. И, словно развязанные солдатским ответом, давно мучившие его мысли, которые он с болезненной старательностью глушил в себе, овладели им. Какой прекрасный день был вчера! Противник, взятый во фланг, сотни захваченных пленных, радостные лица солдат, сладостное чувство удовлетворения. Победа, победа! Что может быть радостнее? Потом неожиданный приказ об отступлении, обход с тыла, беспорядок, молча идущие колонны, зарева пожаров… Ужасно!
Он незаметно для себя ускорил шаги. В кустах что-то зашумело, послышался треск ветвей, и Бредов увидел угреватое лицо Тешкина.
— А, Бредов!…
Тешкин вынул портсигар и предложил папиросу.
— Сядем, — сказал он. — Приятно поговорить с интеллигентным человеком. Не знаю, как вы, но я себя чувствую здесь таким же одиноким, как и в гарнизонной жизни. Противно наблюдать этих старых болванов, этих верблюдов в мундирах. Блинников — командир, Федорченко — командир, Максимов — командир. Боже мой, как можно эти ничтожества посылать на дело, требующее точности, знаний и решительности! Я невежда в военном деле, не понимаю и не люблю его, но и мне ясно, что играем мы на проигрыш. Да, да — на проигрыш!.. Видели вы нашего корпусного командира? Ему бы в музее торчать, а он ведет сорок тысяч солдат, да каких солдат — героев! Нет, знаете, лучше не вмешиваться во все это. Черт с ним! Пережить как-нибудь — вот что главное.
— Как же не вмешиваться? — вскипел Бредов. — Да вы понимаете, что говорите? Разве вам все равно — выиграем мы войну или проиграем?
Тешкин посмотрел на докуренную свою папиросу, небрежно бросил ее и сказал:
— Пожалуй, что все равно!.. Здесь лес, никто нас не слышит, и я честно говорю вам: да, мне все равно, выиграет или проиграет Россия эту войну! Меня интересует только моя собственная судьба. Слышите — моя собственная!.. И я никогда не видел, чтобы Россия заботилась о ней. России все равно, что будет с Иваном Андреевичем Тешкиным. Россия никогда не пеклась о нем, не помогала ему строить его жизнь, и Тешкину все равно, что будет с Россией.
— Как вы смеете так говорить?! — в бешенстве воскликнул Бредов. — Что за цинизм?.. Вы — русский офицер, русский человек!..
— Чепуха! — махнул рукой Тешкин. — Вот русские солдаты убили Вернера. Разве от этого они стали менее русскими? Неужели вы так отождествляете себя с Россией, что должны кричать на меня потому, что я чувствую себя отдельно от нее? Россия не так широка, как вы это представляете. Для одних это Петербург, дворцы, скачки, кутежи. Для других — выгодные гешефты на военных и интендантских подрядах, для третьих — жалованье двадцатого числа, церковь, квартира из пяти комнат, для четвертых — голодная деревня, для пятых — каторга или тюрьма.
Бредов вдруг растерялся. Ему вспомнилось многое из того, что он охотно забыл бы теперь. Неудача с академией, чванные петербургские гвардейцы, для которых он был черной костью, разговор с Максимовым об академии… Какую же Россию он, Бредов, любит и защищает? С горьким удивлением смотрел он на угреватое лицо Тешкина, на язвительные его губы, на узкие глаза и молчал.
— Всю жизнь меня отталкивали… — проговорил Тешкин. — Позвольте же мне самому позаботиться о себе.
Он поднял с земли фуражку, не отряхнув, надел ее на голову и, не попрощавшись с Бредовым, вялой походкой ушел, скрывшись в кустах.
Лес был тихий, предосенний. Грустный запах гнили исходил от опавших листьев.
Ночь провели в брошенной жителями деревне, ночевали в чистых немецких домиках, в сараях, еще полных сена. Черницкий жарил гуся, насадив на штык. Костер горел во дворе. Маленькие злые искры с треском вылетали из бронзового, чуть задымленного огня и пропадали в ночи. Где-то стреляли, но никто на это не обращал внимания, как не обращают внимания городские жители на уличный шум. Солдаты нашли в подвале несколько бочонков пива и щедро угощали всех, кто к ним подходил. Пьяненький Банька привалился к костру, вытянул из походного мешка резиновый пузырь, в какой обычно кладут лед больным, и, любовно подкинув его на ладони, отвинтил крышку.
— Удобная штука! — сказал он. — И для пива и для водки — лучше не надо.
— Умные всегда хорошее придумают, — проговорил кто-то с украинским акцентом, и Карцев с Черницким быстро обернулись.
— Защима!
Карцев вскочил и, не веря себе, смотрел на знакомую фигуру ефрейтора. Всего несколько месяцев прошло с тех пор, как они виделись, но Карцеву казалось — прошли годы. Защима, тот самый, что накануне ухода в запас оскорбил фельдфебеля и был осужден за это к шести месяцам дисциплинарного батальона, стоял перед ним похудевший, осунувшийся.
— Ты чего так смотришь? Цэ ж я, Защима — бывший государственный ефрейтор, а теперь рядовой из разряда штрафованных. Во как! Прийшел защищать отечество и начальство. Разумеешь?.. Для того и отпустили раньше срока…
Привычным движением он снял скатку и опустился возле костра. Голицын, не знавший Защиму, подвинулся, уступив ему место, и сказал, щуря серые глаза:
— Диспиплинарным ты нас не удивишь. Когда я на действительной был, троих товарищей туда спровадил и сам едва не угодил.
— Я и не удивляю, — равнодушно заметил Защима. — Мы уже давно не удивляемся.
Принимая от Черницкого покрытый аппетитной корочкой жирный кусок гуся, он спросил:
— Ну, как вы тут, братики, воюете? Не продырявили еще вас?
Он слушал, медленно прожевывая гуся. Было в нем что-то спрятанное от людей, что-то выстраданное и горькое, что он свято берег. Глаза невеселые, но в их взгляде не было надломленности.
— Жил, слава богу, — ответил он Карцеву, спросившему, как служилось ему в дисциплинарном батальоне. — Жил так, скажем, как на доброй каторге. Всюду же фельдфебели есть, господа офицеры есть, тюрьма есть и при тюрьме поп — все как полагается. Сорок человек нас освободили и — на передовые. Речь нам говорили. Хорошую речь. И отправили на вокзал под конвоем и без оружья. Просились там некоторые дурни — нельзя ли с родными попрощаться. К одному жинка приехала, всю дорогу рядом шла, а к мужу так ее и не допустили. «Когда свою вину отвоюешь, — сказал наш командир, — тогда сколько хочешь с жинкой цацкайся, а теперь нельзя…» Музыка даже нам поиграла, поп крест целовать давал… одним словом, проводили честь честью. Ну, вот мы и здесь…
Костер догорал, серый пушистый пепел осторожно покрывал столбики огня, точно укутывал их от холодеющего ночного воздуха. Вдруг сильный взрыв поколебал воздух. Деревья во дворе зашелестели, как от порыва ветра. На севере небо налилось багровым светом, точно там — не на обычном месте и без времени — всходило солнце. Взрыв повторился, тоненько зазвенели стекла в домах, и настала тишина. Она длилась долго. Потом взрывы возобновились, и север все шире заливался расплавленным металлом, точно выдавала его без счета какая-то чудовищная домна. На западе начался пожар. Два зарева сближались, и между ними тянулся черный коридор еще не освещенного неба.
Из хат поспешно выходили офицеры. В штабе полка началась суетня. Туда вошел Дорн. Через минуту он показался в дверях вместе с Денисовым, сердито что-то ему говорил, тыча рукой в комнату, где помещался командир полка, а Денисов пожимал плечами и отвечал, наклоняясь к уху подполковника. Старшие офицеры торопливо подходили к штабу, слышались их громкие, возбужденные голоса. Вышел Максимов — сутулый, с небритым, отекшим лицом. Он говорил мало, больше слушал Денисова и тряс в знак одобрения головой. Штабс-капитан Блинников, заменивший убитого Вернера, повел третью роту.
Августовская ночь переходила в рассвет. Было свежо, в небе, как льдинки в голубой воде, таяли звезды. На правом фланге загремела русская артиллерия. Под шрапнелями валились тонкие садовые деревья. Тяжелые германские снаряды падали совсем близко. Позади рощи проходила железная дорога. Там, за буграми и холмиками, около будки путевого обходчика залегла немецкая пехота, и пули с визгом и цоканьем проносились над русскими цепями. Группы раненых тащились обратно в деревню, на перевязочный пункт. За дорогой протекала речка, красиво поросшая кустами. Внезапно из-за кустов выскочили немцы и, крича, бросились в атаку. Русская батарея била по ним прямой наводкой. Восемь полковых пулеметов татакали непрерывно, и простым глазом было видно, как падали скошенные немцы, как в смятенье бежали они назад и прятались у речки, в рытвинах и кустах. Артиллерийский огонь усиливался, сражение происходило на широком фронте.
В деревню въехал автомобиль. Худощавый генерал с маленькой коричневой бородкой долго и внимательно выслушивал доклад другого генерала — остроносого, в черепаховых очках, смотрел на карту, разложенную на сиденье автомобиля, и негромко отдавал распоряжения. Потом, стянув с правой руки серую лайковую перчатку, вылез из автомобиля и прошелся по дороге, по-птичьи наклонив набок голову, прислушиваясь к артиллерийской стрельбе. Прискакал запыленный ординарец с донесением. Рыжий конь тяжело водил боками, пена белыми хлопьями падала с его боков, с тонких, вздрагивающих ног. Генерал ласкова похлопал коня по шее, сказал ординарцу: «Спасибо, спасибо, родной мой» — и, прочитав донесение, быстро пошел к автомобилю. Он продиктовал приказ, который торопливо записывал офицер генерального штаба, и уехал.
Через час на фронте в несколько верст двинулись в наступление три полка, имея четвертый в дивизионном резерве. Это была операция, предпринятая командиром пятнадцатого корпуса генералом Мартосом. Она принесла русским победу: несколько орудий и больше тысячи пленных.
Третий батальон атаковал на правом фланге полка. Дорн шел вместе с двенадцатой ротой, державшейся уступом позади одиннадцатой. Батальон охватывал маленькую рощу, в которой засели германцы. Васильев беглым огнем прижал противника к земле и бросился в атаку. Солдаты так дружно и стремительно рванулись вперед, что Дорн не удержался, крикнул:
— Вот молодцы!
Через минуту и двенадцатая рота была в огне. Блестя очками, тяжело подпрыгивая на кочках, Дорн спешил за солдатами.
«Нет, Васильев не выдаст… Не выпустит их!» — думал он, весело поглядывая вперед.
Молодая, стройная сосна, мимо которой он пробегал, вдруг затрепетав вершиной, повалилась на землю. Дорн посмотрел с удивлением: он не слышал разрыва снаряда. И тут, в трех шагах от него, вспыхнули два дымка — белый и розовый.
Дорн лежал на земле.
«Ранен?… Нет, не может быть!» — хотел крикнуть он, но слова не слушались его, какая-то противная слабость поползла от груди к голове, и, увидев наклонившееся над ним испуганное лицо батальонного адъютанта и чувствуя, что жизнь уходит от него, он сказал:
— Бейте, бейте их!.. Батальон… примет… Васильев…
Бредов вел десятую роту. Небо синело чисто и спокойно. Далеко позади, в красноватых лучах утреннего солнца, виднелся Грюнфлисский лес. Темная его громада тянулась далеко по горизонту. Отдохнувшие солдаты шли бодро. Грохот артиллерии доносился справа и слева, близко рвались неприятельские снаряды, дзинькали пули, но чувство счастливой уверенности, охватившей Бредова, было так сильно, что он шел в рост, веря, что ни одна пуля не может сегодня попасть в него. Он видел, как по обе стороны от него наступали девятая и одиннадцатая роты.
Все хорошо. Он вел к победе двести человек. Двести человек! Через связных передавал приказы взводным, следил, чтобы при перебежках солдаты не скучивались, бросился вперед, когда сблизились с германцами, сам восхищаясь четкостью своих действий, своим хладнокровием и храбростью.
Вот побежали от русских штыков согнувшиеся, совсем не страшные фигурки, поспешно легли (или упали), когда пулеметы захлестнули их, бегущих. Вот они, вот!.. Подымают руки, бросают на землю винтовки. У них серые, покорные лица, расширенные от ужаса глаза.
Но что это такое? Прапорщик отчаянно кричит, показывает рукой направо. Бредов припал к биноклю. Среди редких сосен и колючей ежевики, растущей между соснами (как хорошо все это видно!), появились немцы… Они обходят десятую роту!.. Нет ни одного резервного взвода, чтобы остановить их!.. Бредов стиснул зубы. Сейчас зайдут, ударят, засыплют пулями!.. И в голове ясно возникает: военное училище, занятия по тактике, чертеж на доске; противник охватывает фланг, и охват парируется резервом, который выдвигается уступом, удлиняя фронт батальона… Хватит ли времени сообщить Васильеву? И, не успев выдернуть из сумки полевую книжку и карандаш, он радостно вскрикнул: согнувшись, с винтовками наперевес, из резерва бежали на правый фланг солдаты! Васильев бросил их навстречу обходящему неприятелю. Ура, Васильев! Как быстро и верно оценил он обстановку, как чудесно совпали их мысли!..
Бон окончился в сумерки. Солдаты и офицеры возбужденно разговаривали. И в первый раз за все время войны Бредов почувствовал, что он и солдаты — одно целое, огромная, слаженная сила, которая может все ломать, все крушить, что становится ей поперек пути. Он ходил среди людей, пропитанных дымом боя, и трепетал от радостного возбуждения. Затем повели пленных, повезли взятые орудия, и незнакомый полковник, гарцуя на коне, задорно кричал:
— О, это еще не все! Посмотрели бы, сколько взяли их по всему фронту! Здорово дрались мы сегодня, ох и здорово!
— Ваше высокоблагородие! — выкрикнул курносый солдат, показывая в улыбке белые, крепкие зубы. — Кабы нам всегда так воевать… Ей-богу!.. Всех врагов разобьем!
Полковник засмеялся и поехал дальше.
Надвигался вечер. Колонны оживленных людей входили в немецкий городок. Тихие улицы наполнились шумом, квартирьеры не успевали отводить помещения. Упоенные победой офицеры не следили за порядком размещения, и, как только сами устроились, их денщики начали повсюду шнырять, разыскивая вино и продукты. Войска должны были пройти весь город и расположиться по другую его сторону, но они не выполнили приказа и остались в городе. В погребах нашли пиво. Солдаты выкатывали толстые бочки, разбегались по своим помещениям с полными пенистым пивом котелками. Какой-то поручик остановил было солдата, тащившего ведро с пивом, но потом махнул рукой и быстро ушел. Через час на улицах встречались изрядно пьяные солдаты, а еще спустя некоторое время все спали мертвым сном.
Генерал Мартос подъехал к дому бургомистра, где расположился штаб корпуса. Он выбрал для себя одноэтажный флигелек во дворе и, сбрасывая китель, спросил у начальника штаба, выставлено ли сторожевое охранение и вообще приняты ли меры по охране корпуса.
— Так точно, приняты, — ответил начальник штаба. Он так устал, что, поднявшись на второй этаж дома, где помещался штаб, и помня, что надо проверить, все ли сделано для охраны ночевки, присел на минутку и задремал. В полусне перебрался на приготовленную постель, разделся и сразу уснул.
Мартос еще некоторое время постоял у окна, смотря на слабо освещенный фонарем двор, где возле лошадей возились конвойные казаки, и, раскрыв окно, приказал, чтобы не расседлывали, только отпустили подпруги. Потом стащил с себя сапоги и лег не раздеваясь. Оседланные лошади во дворе напомнили ему последнюю охоту в его имении. Как хорошо тогда было! Ему ясно представилась большая столовая с камином, жена, разливающая чай, любимая борзая Душка, разлегшаяся перед камином, и на стене — копия репинских «Запорожцев».
«Ах, как чудесно!» — думал он, умиляясь и вытягивая усталые, старческие ноги и понемногу засыпая.
В штабе корпуса дежурный офицер спал сидя, опустив голову на стол, на котором стоял полевой телефон. Его разбудили, осторожно похлопывая по плечу. Он вскочил. Уже светало. Немецкий офицер, спокойно улыбаясь, смотрел на него, а в полуоткрытой двери виднелись солдаты в касках, с винтовками.
— О, не беспокойтесь, — сказал немец совершенно свободно по-русски, — все уже совершено.
Он был не совсем точен. В задней комнате громко стукнула дверь, что-то тяжелое упало с грохотом, и вбежал седой человек в нижнем белье, у него были сумасшедшие глаза, и он закричал:
— Так-то вы дежурите, капитан? — и умолк, растерянно смотря на немца. Тот вежливо осведомился, кого он имеет честь видеть. Узнав, что перед ним начальник штаба корпуса, немец иронически поклонился, но тут во дворе послышались выстрелы, крики, и он бросился к открытому окну. Генерал и за ним четыре казака скакали к воротам.
— А… а! — хрипло крикнул немец и, выхватив пистолет, стал стрелять в генерала, повторяя свистящим голосом: — Не уйдешь!.. Не уйдешь!..
Капитан, схватив со стола тяжелую мраморную пепельницу, ударил ею немца по голове. Тот повалился, пистолет глухо стукнул о пол.
— Что вы сделали?! — растерянно спросил начальник штаба. — Ведь нас расстреляют!
— Оделись бы лучше, ваше превосходительство, — грубо произнес капитан. — Поглядите на себя, в каком вы непристойном виде!
В эту ночь германцы захватили врасплох пятнадцатый корпус, по-домашнему ночевавший в Нейдебурге. Несколько тысяч человек были убиты, взяты в плен. Командир корпуса Мартос убежал с четырьмя казаками, но через два дня в окружающих город лесах попал в руки немцев.
Темнело. Белыми искорками сверкали звезды. Чуть светлела в ночи песчаная дорога. Спотыкаясь, без всякого строя, растянувшись на несколько верст, брели солдаты. Каждую минуту, шатаясь, отходили в сторону черные фигуры и валились на землю. Давно уже Карцев не видел вокруг себя ни одного знакомого лица. Он слышал дыхание смертельно усталых людей, слышал ругательства, стоны. Пытался найти Черницкого, Голицына, но тщетно. Он дремал на ходу и наконец упал, наткнувшись на человека, лежавшего посреди дороги.
— Ложись, землячок, земли на всех хватит, — сонно проговорил лежащий и сейчас же захрапел.
Карцев, опираясь на винтовку, встал на колени. «А в самом деле, — подумал он, — почему не лечь, не уснуть? Только не на дороге…»
Он заставил себя встать. Это было очень трудно. Земля влекла к себе. Перебрался через дорогу, толкая попадавшихся по пути людей, ощутил под ногами траву, последним усилием сдернул со спины мешок и повалился. Теплое влажное дыхание коснулось его лица. Что это или кто это — он не сознавал, не в силах был сознавать.
Проснулся от толчка. Два коричневых мохнатых столбика стояли перед глазами. Все тело казалось опутанным тугой жесткой сетью. Он поднял голову, с любопытством и недоумением посмотрел на коричневые мохнатые столбики и осторожно отполз шага на два: всю ночь он спал возле ног лошади.
Заночевавший в лесу обоз уже приходил в движение. Заспанные обозники, почесываясь, ходили между телегами. Никто не обращал внимания ни на Карцева, ни на сотни других солдат, лежавших на земле. Карцев поднял винтовку, рукавом отер росу на штыке и на затворе. По свежести, по особой молодой прозрачности воздуха, по нежной, чуть посеребренной тонкими облачками синеве неба, по красноватым, еще не ярким лучам солнца, не дошедшим до земли, а только золотившим вершины деревьев, он понял, что сейчас раннее утро. Зевота судорожно растягивала ему рот, в ногах ощущалась тяжесть, неловкость. Взяв винтовку на ремень, он медленно пошел по лесу. Вышел на дорогу. По ней брели солдаты. Увидел на их погонах номера и своего полка и пошел за ними. Маленький солдат без фуражки грыз желтую тугую репу. Карцев ощутил жгучий голод. Закружилась голова… Он шел все дальше и дальше. Наконец-то деревня! Свернул на зады, остановился возле большого сарая. Из открытых дверей пахло сеном. А что это за серая кучка? В решете лежала мелкая вареная картошка, положенная здесь, вероятно, для свиней. Он сел на землю и стал есть картошку, даже не очищая кожуры. От жадности горло сжимали спазмы. Он ел и ел…
Звякнуло ведро. Карцев увидел молодую женщину, жалко улыбнулся ей ртом, набитым картошкой. Она тихо ахнула и убежала. Вернулась с глиняным кувшином молока, с хлебом и молча поставила перед ним еду. Он протянул женщине руку. Она робко, лопаточкой вложила в его ладонь свою маленькую жесткую руку и, видимо не желая мешать ему, ушла. Он до последней крошки съел хлеб, выпил все молоко и, отяжелевший, сонный, отравленный еще не прошедшей усталостью, прошел в сарай, забрался в самый угол, раскидал сено, зарылся в него, положив под голову походный мешок, а рядом винтовку.
Он не знал, долго ли спал. Проснувшись, еще полежал несколько минут, прислушиваясь к шуму и крикам, доносившимся снаружи. «Войска проходят…» — понял он, тяжело вздохнул, встал, взял мешок, винтовку и вышел.
По улице, а также по дорожкам, криво и узко проходившим сзади дворов, непрерывно, беспорядочно и шумно двигались солдаты, повозки, орудия. Люди были запылены, как каменщики на стройке. Карцев шел вперед, ничего не видя перед собою. Вдруг сильнейший грохот ошеломил его. Солдаты бросились врассыпную, кто-то кричал, показывая рукой вверх; бородатый солдат крестился. Высоко над лесной дорогой плыла длинная серебристая рыба с толстой, кругловатой мордой. Рыба неуклюже описала полукруг и поплыла обратно. Маленький темный предмет отделился от ее брюха, точно она метнула икру, и полетел к земле.
— Ложись! — закричали повсюду.
А Карцев, как зачарованный, смотрел на серебристое чудовище и лег уже тогда, когда черный косматый столб поднялся с земли, расширяясь кверху, с громом рассыпался вокруг.
Цеппелин медленно уходил на запад.
Третий батальон оторвался от своего полка. Васильев вывел его из моря растрепанных, перемешавшихся между собой войск. Бледный, с перекошенным лицом, шел во главе своей роты Бредов. Он сильно страдал от мучивших его мыслей. В самом деле: была победа, гнали неприятеля, брали пленных и все же разбиты?! Ему стыдно было смотреть в глаза солдатам: ведь он сам был одним из тех, кто своим плохим управлением лишал их плодов самоотверженной работы, разрушал веру в командиров.
С трудом мог он представить, как же все это случилось. Положение резко ухудшилось за каких-нибудь два-три дня. Стремительно, под натиском врага, отступила соседняя дивизия. Затем, лишенные поддержки, покатились и они назад. Казачий офицер, задержавшийся со своей сотней возле стоянки полка, сообщил, что наши фланги сбиты, что немцы прорвались в тыл, мы наступали, а они обходили нас.
Это был худой, жилистый человек с веснушчатым лицом. Садясь на коня, он повернулся к офицерам и показал нагайкой на запад:
— Мы были верст за сто отсюда. Ей-богу, думали, что через месяц загуляем в Берлине… Ведь как дрались, как наступали!.. Я не поклонник пехоты, но должен признать — классически воевали! Хорошие видел полки, превосходнейших офицеров… Как же все-таки получилось это, господа?
И, не дожидаясь ответа, поехал прочь впереди сотни.
На опушке леса стояли три автомобиля, окруженные маленькой группой казаков. Васильев, заметив их прежде, чем доложил ему об этом головной дозор, подошел к автомобилям развалистым охотничьим шагом, щуря глаза, привыкшие к темноте.
— Что за часть? — спросил повелительный голос.
Васильев, сдвинув каблуки и взяв под козырек, отдал краткий рапорт. Он вглядывался в спросившего его человека и все яснее различал тяжелую, плотную в груди и в плечах фигуру, опиравшуюся на борт автомобиля.
— Останьтесь пока при мне.
Васильев узнал Самсонова — командующего армией, которого видел в самом начале кампании. Полный тревожного чувства, Васильев не смел, однако, спросить, почему полевой штаб армии очутился ночью в лесу, вдали от жилых мест, очевидно лишенный связи с корпусами, подвергаясь угрозе неприятельского нападения. Насупившись, он отошел к батальону и вполголоса начал отдавать распоряжения. К нему подошли офицеры, и он отрывисто объяснил им, приказал им идти к своим ротам, явно не желая ни с кем больше разговаривать.
Но слух, что в лесу находится командующий армией, сразу распространился среди солдат. Они с любопытством поглядывали на автомобили, подходили ближе, пытались поговорить с казаками, догадываясь, что раз штаб армии, который должен был находиться где-то далеко позади, попал в массу отступающих войск, — дело, стало быть, плохо.
Так оно действительно и было. Самсонов ехал в Нейдебург, чтобы руководить наступлением своих центральных корпусов. В дороге ему донесли, что шестой корпус отошел, а левый и правый фланги его армии обойдены германцами. Офицер, который привез Самсонову это известие, доложил о тяжелых боях с превосходящими силами противника. Самсонов слушал молча. Только по его чуть дрожавшим плечам и все более красневшей шее чувствовалось напряжение, которое он с трудом подавлял.
— Передайте, полковник, командиру корпуса, — проговорил он, — что какой угодно ценой надо удержаться в районе Ортельсбурга. От вашей стойкости зависит успех наступления тринадцатого и пятнадцатого корпусов…
Самсонов болезненно заметил, с каким недоумением переглянулись офицеры штаба.
«О каком наступлении может идти речь? — спрашивали их взгляды. — Ведь мы обойдены с флангов. Отступать, скорее отступать, чтобы избегнуть окружения!»
С кем, куда отступать?.. У Самсонова уже не было армии. С того момента, когда он снял «юз», соединявший его с командованием фронта, почувствовав себя раздавленным стихийно надвинувшимся на него хаосом, и бросился в самую гущу боя, он потерял управление армией.
Тянулась ночь. Вокруг стояли зарева пожаров, то тут, то там били орудия. На сиденье автомобиля, скорчившись, спал адъютант, по-детски сопя. Самсонову казалось, что никогда не наступит утро. Он не мог сидеть, ходил по дороге, видел истомленные лица штабных офицеров, конвойную сотню, расположившуюся кругом, и пехотный батальон, которому он неизвестно зачем приказал остаться при себе. Маленький армейский офицер с соломенными усиками, в сопровождении двух солдат, возвращался по лесной тропинке. Они встретились, и Самсонов остановился. Ему понравилось, что батальонный командир сам ходил в разведку, понравились его неторопливые движения, его умные глаза.
— Какие новости, капитан? — отрывисто спросил он.
Васильев, всю ночь проведший в разведке, доложил, что в деревне Мушакен находятся артиллерия и пехота противника, что перед деревней Саддек им обнаружены кавалерийские разъезды германцев, что окружающие дороги заняты отступающими русскими и забиты обозами. Самсонов выслушал молча и кивнул головой, как бы отпуская Васильева. Но капитан не уходил. Он сделал шаг к генералу, вытянулся и голосом, в котором были преданность, просьба и служебная суховатость, сказал:
— Ваше высокопревосходительство, я хорошо знаю местность. Вам надо выбраться отсюда, я могу выполнить это.
Самсонов молча смотрел на него, и вдруг испуганное выражение появилось на его лице.
— Нет, зачем же, — как бы защищаясь от предложения Васильева, сказал он и быстро пошел к автомобилям.
Там уже толпились офицеры. Среди них выделялась высокая, одетая в хаки, сухая фигура генерала Нокса.
— Генерал, — сказал Самсонов, отводя Нокса в сторону, — считаю своим долгом осведомить вас (тут он запнулся, подыскивая слова)… Да, да — осведомить вас, что положение моей армии критическое. Мое место при войсках, но вас прошу вернуться, пока еще возможно это сделать. Передайте, что я остался на своем посту…
Нокс протестующе поднял руку, но Самсонов, отвернувшись от него, приказал, чтобы все автомобили шли на Вилленберг. С упрямым выражением лица он следил за тем, как, подымая пыль, машины уходили по лесной дороге, и слабым движением поднес руку к козырьку, отвечая на приветствие Нокса, сидевшего в последней машине.
— Мы верхом поедем в Надрау, господа, — тихо сказал Самсонов, ни на кого не смотря.
…Командир конвойной сотни, есаул со смуглым восточного типа лицом, исподлобья посматривая на Самсонова, точно не веря отданному приказанию, отбирал восемь лучших лошадей и шепотом ругал казаков, неохотно слезавших с седел.
Самсонов тяжело перенес грузное тело через круп маленького донского коня, поймал правой ногой стремя.
Васильев решил двигаться за генералом, держась от него на расстоянии версты. Он обошел батальон, шутил с солдатами, старался показать им, что ничего плохого не случилось, но сам отлично понимал, что это — катастрофа, что армия обезглавлена, окружена немцами.
Они вышли на дорогу, ведущую из Мушакена в Янов, всю забитую повозками, орудиями, зарядными ящиками, походными кухнями. Перекинув за плечи винтовки, без всякого строя, толпами шли солдаты. Одни молчали, другие громко разговаривали. Тут же с безучастным видом лежали на траве и под деревьями сотни людей. Среди солдат попадалось немало офицеров. Они угрюмо посматривали на Самсонова и окружавших его штабистов, которые пересекали шоссе, углубляясь в лес.
Со стороны деревни послышались выстрелы. Через час галопом прискакал офицер и доложил, что Вилленберг занят неприятелем, выходы в тыл отрезаны. Оставалось пробиваться силой. Самсонов слез с седла, сгорбившись, пошел в лес. Пройдя немного, он услышал за своей спиной чьи-то легкие шаги и оглянулся. Это был Васильев.
— Ваше высокопревосходительство! — сказал он. — Вы вчера ночью приказали мне остаться при штабе…
Самсонов сделал рукой отстраняющее движение:
— Не нужно, никого не нужно!..
Но Васильев не уходил.
— Ваше высокопревосходительство! — чуть громче сказал он, вытягиваясь. — Я поступаю не по правилам, вы можете взыскать с меня, но сейчас я говорю с вами как русский офицер со своим начальником в страшную минуту ответственности перед отечеством, которое мы оба защищаем. Ваше высокопревосходительство! Тыл отрезан, но там, — он показал на запад и на север, — там идут два наших корпуса. Может быть, их еще можно собрать (это нужно сделать!), сосредоточить в одном направлении, вырваться с ними из кольца. Кольцо очень слабое… немцы рассредоточили свои силы. Ведь армия еще цела, надо только взять ее в руки. Прошу вас, ваше высокопревосходительство, все еще можно спасти…
Голос Васильева дрогнул, осекся.
Самсонов прислонился спиной к дереву.
— Вы думаете? — медленно спросил он. — Нет, нет, я не знаю, как это можно сделать. Ведь все развалилось, нет никакого управления, нет связи с частями… — Самсонов говорил, как в забытьи. — А потом, Артамонов, Благовещенский… они же мне фланги проиграли… Другие не лучше… Как же воевать при таких условиях? Нет, теперь ничего нельзя исправить, теперь можно только умереть, чтобы не влачить куропаткинское существование, — горько усмехнулся он. Потом шагнул к Васильеву, поцеловал его и пошел, склонив голову, по-старчески сгибая колени.
С каждым часом размеры катастрофы, постигшей русскую армию, становились яснее. На небольшом пространстве лесов и болот, все больше сгущаясь в своей массе, теснились десятки тысяч растерянных и голодных солдат, многие из которых вели успешные бои с немцами и до сих пор не могли понять, как это вышло, что они, наступавшие и бравшие пленных, очутились в таком положении. Между тем слабый кордон первой германской дивизии был растянут на несколько километров по шоссе Нейдебург — Вилленберг, и два русских корпуса, теснившиеся в районе Грюнфлисского леса, не пытались даже прорвать этот кордон. На севере в полном бездействии пребывала первая армия Ренненкампфа. Но еще ближе, всего в пятнадцати километрах от окруженных корпусов, дралась третья гвардейская дивизия. Против нее действовали всего три батальона германцев, и, потеснив их, дивизия заняла Нейдебург. Ей нужно было сделать еще одно последнее усилие — захватить деревни Мушакен и Напивода, и тонкое германское кольцо вокруг центральных корпусов Самсонова было бы разорвано, положение германцев могло стать критическим.
Но это усилие не было сделано.
Армия никем не управлялась.
В ту же ночь, когда третий батальон наткнулся на Самсонова и его штаб, Бредов встретил Новосельского. Удивительная перемена произошла с этим некогда блестящим офицером генерального штаба: лицо осунулось, щеки ввалились, в глазах был нездоровый блеск. Бредов, подавленный событиями последних дней, ни о чем не спрашивал Новосельского. Но тот сам начал разговор.
— Помнишь, как ты, прости за откровенность, высокопарно говорил о генеральном штабе? Мозг армии — называл ты нас, и вот смотри, как точно мыслит этот мозг, как прекрасно управляет он всем организмом армии!
Они сидели на поваленной сосне. Высоко над ними горели звезды. Липкая смола пачкала их одежду, но оба не замечали этого.
— Я состарился за эти дни, — глухо продолжал Новосельский, ковыряя стеком землю. — Еще в начале войны мне пришла в голову проклятая мысль: вести дневник всей нашей операции. Думал, что получится замечательная вещь, так сказать — памятник нашего героизма, нашего военного искусства. Я копировал, собирал все приказы по армии, по фронту, по корпусам, делал выписки из полевых книжек наших высших начальников. И знаешь, — он сухо рассмеялся, — ужасно все то, что получилось!.. Мерзко!
Новосельского позвали, и он ушел, горбя плечи, вяло передвигая ноги. Бредов смотрел ему вслед, чувствуя, что все сказанное Новосельским, эта ночь, окаймленная далекими заревами, суровые, ставшие чужими солдатские лица — ломают его, путают так, что он ничего, ничего не может понять!.. Он бродил по лесу, натыкаясь на деревья. Косматые тени метались перед ним, ночное небо приняло буроватый, зловещий оттенок.
…Весь следующий день батальон дрался в Грюнфлисском лесу. Тут затухала жизнь армии. Иногда отдельные части делали отчаянные попытки прорваться. Батальоны, полки развертывались неровными цепями, храбро бросались вперед. Но это была уже агония…
Васильев ехал на пегой толстоногой лошадке, сбочившись, в рассеянности опираясь левой рукой на окованную медью луку седла. В рядах батальона шли Карцев, Черницкий, Голицын, Рогожин.
Два солдата, стоя в стороне от лесной дороги, разговаривали. Они одновременно повернули головы, и Карцев узнал их: Мазурин и Мишканис! Черницкий тоже заметил их, направился к ним. Карцев пошел вслед. Мишканис был спокоен, тепло пожал руки товарищам.
— Как тебе служится? — спросил Карцев.
— Вот — домой собираюсь, — просто ответил Мишканис. — Но не знаю, куда идти. Нет у меня дома…
— Дом мы тебе найдем, — сказал Мазурин. — И товарищей — тоже!
Третий батальон остановился. Вся дорога, весь лес были забиты солдатами.
— Когда уезжали на фронт, — заговорил Мазурин, — один хороший старик сказал мне, что война учит людей жестокой наукой. Много будет у нас ученых после этой войны, ох, много…
— Чем же все-таки это кончится? — спросил Черницкий. — Если было начало, должен быть и конец. Боюсь только, что невеселый для нас будет конец.
— А я не буду дожидаться конца, — упрямо сказал Мишканис. — Меня много били в жизни, причиняли много несчастий. Мне противно терпеть за тех, кто гнул меня к земле. Да, я ухожу с войны!
Тяжелый германский снаряд разорвался над лесом. Совсем близко с треском рухнуло дерево. Зеленые, точно испуганные, листья трепетали несколько секунд. Офицеры подымали солдат, говорили, что немцев на шоссе совсем мало и молодецкий удар может вывести из окружения.
— Бодрей, бодрей, ребята! Кто останется, тех побьют, как куропаток!
Конные ординарцы скакали по узким тропинкам, развозя приказания. Батарея, грохоча колесами, выскочила на самую опушку леса, и первая очередь шрапнели брызнула по шоссе. Солдаты цепями выбегали из леса и бросались на немцев. Васильев с винтовкой шел впереди батальона. Громкое «ура» доносилось справа. Батареи галопом выезжали на позиции.
Это была последняя атака окруженных самсоновских корпусов — левой колонны, состоявшей из 36-й дивизии и примкнувших к ней частей.
Рядом с собой Карцев видел яростного Черницкого, ощерившегося Рогожина, сурового бородатого Голицына. Луг перед лесом был болотист, покрыт кочками. Сапоги у солдат наполнились водой, но люди, ничего не замечая, бежали в атаку и атаковали так стремительно, что германские шрапнели рвались далеко позади, пули летели высоко над головами.
— Достигли, достигли! — кричал Голицын. — Бей их, братушки!..
Карцев увидел шоссе, низкие брустверы, каски германцев. Одни бежали, другие падали, третьи бросали винтовки и подымали вверх руки. Германская бригада генерала Тротта, застигнутая врасплох, была разбита, двадцать орудий и сотни пленных достались русским. Но когда кончился бой, войска остановились, не зная, что делать. Никто ими больше не руководил. Штаб дивизии куда-то исчез, очевидно усомнившись в успехе предпринятого маневра. И тут же появились свежие германские батальоны. Растерявшись, солдаты побежали обратно в лес. Германцы не преследовали их.
…Медленно надвигалась ночь. Грюнфлисский лес, укрывший десятки тысяч людей, был тих. Армия умерла морально. Девяносто тысяч солдат, пятьсот орудий, огромное количество боевого материала — все это было захвачено противником без всяких усилий. Само далось в руки. Так погибла непобежденная армия…
Когда штаб армии оторвался от своих частей, Самсонов почувствовал, что вот он — конец! Ночью, пробираясь со своими офицерами пешком через лес, он незаметно отстал. Постояв немного, свернул с тропинки в гущу деревьев, в страшную темноту. Скорее, скорее нужно оплатить последний, самый тяжелый счет!
Послышался треск ветвей, кто-то шел прямо на него.
— Кто идет? — слабо спросил Самсонов.
Шаги затихли.
— Свой! — ответил надтреснутый голос. — А ты кто?
Самсонов промолчал. Тогда неизвестный осторожно приблизился, чиркнул спичкой. Овальный огонек осветил бородатое лицо, солдатскую фуражку. Спичка погасла. Солдат опустился на корточки, оперся спиной о дерево, закурил.
Самсонов утомленно закрыл глаза. Темнота, покой… Если бы так было вечно!..
— Хлеба гибнут, — сокрушался солдат. — Поля какие неубранные… Ай-ай-ай!..
«Армия погибла, а он о хлебе думает, — усмехнулся Самсонов. — О господи…»
— Растут они, молодые наши, — как бы думая вслух, продолжал солдат, — уберут хлеб за нас. Новый посеют…
Самсонов в отчаянии двинулся к солдату:
— Голубчик! Какие это молодые посеют новый хлеб?
Никто не ответил ему. Только вдали как будто чуть хрустнула ветвь.
— Погоди! — крикнул Самсонов. — Не оставляй меня одного, ради бога, не оставляй!..
Он прислушался. Нехорошая, мертвая тишина.,.
— Никого… — прошептал он. — Померещилось. Никого… Один!..
Ночь была черная, густая, как смола. Беспросветная.
Самсонов поднес к виску револьвер.
Третий батальон с сотнями других солдат, приставших к нему из разных полков, с боями прорывался сквозь редкие цепи германцев.
Десятая рота шла в атаку в центре батальона. Бредову представлялось, что мир рушится вокруг него, что он ступает по его обломкам.
— Скорее, скорее!.. — бормотал он, прислушиваясь к тонкому, как щенячий визг, свисту и вою германских пуль. — Скорее… Скорее бы конец!..
И когда больно хлестнуло его по груди и стало тянуть к земле, он не сделал никакого усилия, чтобы удержаться на ногах, и упал с чувством успокоения, сразу овладевшим им после долгих и унизительных мучений.
…Два дня блуждал батальон в лесах и болотах и все же не сдался врагу. Васильев ночью вывел остатки батальона сквозь узенький коридорчик, замеченный им в германской линии.
Перед рассветом на опушке леса встретились Васильев и Новосельский. Грязные, измученные, они остановились под деревьями и докуривали последние папиросы.
— Да, — сказал Васильев, — теперь можно подвести некоторые итоги… Вторая армия действовала плохо, но скажите мне — где была первая, где был Ренненкампф? Почему он, победив, остановился под Гумбинненом? Почему позволил немцам бросить против нас все силы и, не шевельнув пальцем, не произвел ни одного наступательного маневра, чтобы сковать противника на своем фронте? Ведь если говорить прямо, ведь это… — он понизил голос, — предательство, измена!
Новосельский молчал и глядел поверх деревьев на восток, где слабо намечалась серая дымка рассвета. Бросил окурок на землю, затоптал его, сказал:
— Да, может быть, и так… Вторая армия действовала плохо, но это не относится к солдатам, к нашим русским солдатам. Они дрались хорошо, по-настоящему хорошо. Их вины нет в том, что случилось. Если бы командование сделало столько, сколько сделали солдаты, не было бы такого позора… не было!
Он повернулся и пошел в сторону. У подножия большой старой сосны, тесно прижавшись друг к другу, крепко сжимая в руках винтовки, спали солдаты.
Из ворот серого четырехэтажного дома в Денежном переулке в Москве вышел Мазурин — сильно похудевший, заросший бородой. Кожа на его лице была белая, с тем нездоровым оттенком, который свойствен людям, долго находившимся в тюрьме или больнице. Он нерешительно поглядел вокруг, точно улица пугала его, и пошел направо, к Арбату.
Узкий Арбат был полон шумного движения — люди, повозки, пролетки, трамваи. Среди пешеходов попадалось много военных, на домах часто встречались флаги с красным крестом на белом поле.
Мазурин шел, держась возле стен: боялся, что от слабости упадет. Кто-то толкнул его или он кого-то зацепил в уличной тесноте — трудно было понять. Но вот чья-то рука схватила его за плечо. Небольшого роста круглолицый офицер с возмущением смотрел на него. Офицер был совсем зелененький, вероятно только что призванный. Новые ремни скрипели на нем, новенькая кобура болталась сбоку, погоны сияли на плечах. Мазурин вспомнил, что одет в солдатскую шинель, и поднес руку к фуражке, всем видом показывая, что он виноват.
— То-то же! — пробурчал офицер. — Должен знать, как вести себя на улице!
Мазурин вошел в подъезд высокого, с готическими башенками дома и поднялся на третий этаж. Перед дверью немного подождал, тяжело дыша: после ранения трудно было одолеть эту лестницу. Прочитав медную табличку на дверях, позвонил. Дверь открыла маленькая, очень толстая женщина, подозрительно взглянула на солдата. Ласково улыбнувшись, Мазурин спросил, можно ли увидеть господина Чантурия.
— Серго Иванович! — громко позвала толстушка и, прислушавшись к чему-то, чего не слышал стоявший на площадке Мазурин, неохотно пропустила его.
В дверях комнаты, выходящей в коридор, появился среднего роста смуглый человек с черными вьющимися волосами. Он пригласил Мазурина в комнату, плотно притворил за ним дверь, прислушался к тому, что делалось в коридоре, потом сухо спросил:
— Чем могу быть полезен?
— Я из военного госпиталя, — сказал Мазурин. — Сегодня впервые вышел. Ваш адрес мне дал Абрам с Прохоровки. Я — Мазурин. Служил в Моршанском полку. Вот… пожалуйста — документы.
Чантурия как бы с недоумением бросил взгляд на бумажку, в которой значилось, что рядовой Мазурин находится на излечении в военном госпитале, затем внимательно посмотрел на него и протянул руку.
— Знаю тебя, — сказал он и сразу сделался другим. Смуглое лицо помолодело. — О тебе Абрам сильно беспокоился, думал — убили. Рассказывай, как там на фронте.
— Лучше ты рассказывай, — обрадовался Мазурин. — Я ведь сто лет не знаю, что делается в России!
— Особых новостей нет. Загнали нас в подполье, всех наших депутатов в Думе арестовали…
Он говорил о страшных делах, о провалах и гибели товарищей, но его крепкое, с горбатым носом лицо было овеяно энергией и добродушием: так врач говорит о тяжелой болезни, в благополучном исходе которой он безусловно уверен. Потом вынул откуда-то листок, покрытый убористым шрифтом пишущей машинки, и протянул Мазурину:
— Садись, читай!
Мазурин несколько раз пробежал глазами первую фразу — смысл ее трудно давался ему. Мозг, ослабевший от долгой болезни, тяжело, без обычной упругости, воспринимал сочетания слов.
«Тяжелее всего в теперешнем кризисе, — напрягаясь, читал Мазурин, — победа буржуазного национализма, шовинизма над большинством официальных представителей европейского социализма…»
«Значит, плохо, — подумал он, — раз национальное берет верх, какой же может быть тогда международный союз рабочих? Но это я знал, я перед самой войной читал письмо Вандервельде. Что же надо делать теперь, какой теперь выход?»
И продолжал всматриваться в черные ряды букв:
«У немцев картина ясна: оппортунисты победили, они ликуют, они «в своей тарелке». «Центр» с Каутским во главе скатился к оппортунизму и защищает его особенно лицемерными, пошлыми и самодовольными софизмами… Буржуазия одурачивает массы, прикрывая империалистический грабеж старой идеологией «национальной войны». Пролетариат разоблачает этот обман, провозглашая лозунг превращения империалистической войны в гражданскую войну».
Мазурин взволнованно поднялся.
— Товарищ Чантурия! Ты понимаешь, что эти слова для нас означают? Ведь я фронтовик, я их воспринимаю иначе, чем те, которые здесь живут. Мы войну в другое русло должны направить, в другое… Если еще хоть полгода повоюем, половина солдат наверняка поймет, какую им войну надо вести. Кто написал эту статью?
— Кто? — помедлил Чантурия. — Ленин! Из Женевы прислали.
«II Интернационал умер, побежденный оппортунизмом… — читал Мазурин. — III Интернационалу предстоит задача организации сил пролетариата для революционного натиска на капиталистические правительства, для гражданской войны, против буржуазии всех стран, за политическую власть, за победу социализма!»
— Я без этой статьи на фронт не вернусь, — заявил Мазурин, близко подойдя к Чантурия. — Не вернусь! — настойчиво повторил он. — Что хочешь делай со мной!
Он гладил листок, не желая выпускать его из рук.
— Сейчас оставь, — сказал Чантурия. — А возьмешь, когда на фронт поедешь.
Прощаясь, он предложил:
— Если хочешь в Петроград поехать — устроим. Может быть, там работа найдется…
Мазурин вышел на улицу. Вечерело. Синие тучи ползли над городом. Загорались первые огни. У Арбатских ворот его чуть не сшибли санки, крытые меховой полостью. Санки остановились возле ресторана. Густой пар подымался от рысака, красная кучерская шея выпирала из воротника. Двое мужчин стали вылезать на тротуар. Один, высокий, с рыжей бородой, помогал выйти другому — черненькому, в золотых очках и дорогой шубе. Черненький выкатился из санок и почти упал на Мазурина, проходившего в этот момент по тротуару.
— С-солдат! — пьяно выкрикнул он, подымая кверху палец левой руки (правой он крепко держался за своего спутника). — П-приветствую с-союз фронта и т-тыла. Д-дай я тебя поцелую!..
Мазурин поспешно отступил. Вид у пьяного был в высшей степени благодушный. Бобровая шапка сдвинулась на лоб, носик торчал красным веселым пузырем, и от всего человечка несло хмельным теплом.
— Н-ну? Н-не хочешь?
Мазурин оттолкнул его и пошел дальше. Широкие окна ресторана были залиты светом. Всплески музыки доносились из-за них. Он перешел улицу и несколько минут смотрел, погруженный в невеселые мысли. С удивлением подумал, что для многих жизнь становится острее и ярче, они не желают замечать ничего, что могло бы помешать их веселью, и по-новому ощутил себя — слабого, раненого, в помятой солдатской шинели, стоящего тут, на московской улице.
— Ну-ну, — сказал он сам себе, — подтянись, Мазурин.
И, оторвавшись от стены, зашагал через площадь. Яркие потоки света ослепили его. У здания кинематографа вспыхнули огненные кольца, и перед ним всплыло знакомое лицо Макса Линдера. Мазурин подошел ближе к дверям.
— Солдатик, солдатик! Ты с фронта, да? Бедняжка, какой он бледный, небритый. Там же ужас, там же страдают… Да? Расскажи, как вы там живете?
Розовую шершавую ткань лица просекали тонкие лучи морщин, синие подведенные глаза пытались сиять по-молодому. Мазурин попятился от женщины, от душистого меха ее воротника. Но вокруг него уже сдвигались любопытные лица, чья-то завитая барашком бородка приблизилась к нему вплотную, кто-то вздохнул глубоко и сладко, в предчувствии патриотической беседы.
Мазурин ушел, и лицо Макса Линдера смеялось ему вслед.
«…Так вот они и живут, — думал Мазурин. — Кино, театры, рестораны… Миллионные подряды на нужды фронта… Рубашки, кальсоны, гимнастерки, шаровары для солдат… Патроны, шрапнели, гранаты… Орудия. Походные двуколки. Индивидуальные пакеты в прорезиненных мешочках. Бинты, марля, вата… Овес и сено для лошадей, рожь и мука для людей… Правительство покупает все, все, все! Комиссии утверждают заказы. Великие князья и товарищи министров руководят этими комиссиями. Высокопоставленные дамы устраивают заказы. Конечно, они могут замолвить словечко там, где надо. Дорогое словечко! Оно оценивается золотом, брильянтами… Снаряды могут не подходить к орудиям, сапоги могут развалиться через два дня после того, как их надели солдаты, — это не важно. Важно получить подряд. «Подряд»! Какое это волшебное слово! Оно преображает людей, оно меняет их жизнь, их судьбу. «Да здравствует война», — шумят они, пьяные от крови и золота. Все патриоты, все любят Россию, все хотят ей служить, защищать ее. Каждый хорошо одетый человек — «патриот»!»
В центре площади высился храм. Широкие каменные ступени вели к паперти. На ней толпились нищие. Тут же сидел безногий человек в солдатской фуражке, с Георгием на груди, его туловище покоилось на кожаной подушке, пристегнутой к дощечке на колесиках. Мазурин машинально вошел в храм, наполненный молящимися. Церковный староста продавал свечки. Желтые, ленивые огни светились у икон. Бас протодьякона, густой и низкий, как звук большого колокола, взывал к небесам. Хор просил победы христолюбивому русскому воинству. Потом дьякон поминал какого-то раба божьего Петра, «живот свой за веру и отечество положившего». Тихо плакали женщины. Теплый воздух церкви был насыщен запахом ладана и воска. Солдат с лысой головой и бачками, видно бывший лакей, молился, распластавшись на грязном полу. Старушки с умилением смотрели на него и шептались. Напудренные женщины с наколками сестер милосердия, с тарелками, на которых горели свечные огарки, собирали деньги. Церковный староста, позевывая, сортировал свечи, очевидно думая, что сейчас служба кончится и можно будет пойти домой пить чай. Мазурин поймал на себе его равнодушный взгляд, посмотрел на солдата с бачками и ушел из церкви, сердясь за то, что заглянул сюда. У самых дверей кто-то осторожно взял его за руку. Он встретился с ласковым девичьим взглядом.
— Вот не ожидала вас видеть, да еще в церкви! — смеясь, сказала девушка, протягивая руку.
— Но ведь и вы здесь, — шутливо заметил Мазурин, узнав прежнюю знакомую — сестру своего товарища. — Здравствуйте, Елена Ивановна. Семен в Москве?
— В Иркутске, в военном училище. Но вы должны зайти к нам.
— Извините. Вид уж больно у меня плохой…
— Фронтовой солдат и стесняется! Папа будет рад, но самое главное — я хочу вас видеть, я! Понимаете?
— Хоть побриться разрешите?
— Никуда не отпущу вас! Идемте!
Дверь открыла горничная. Она удивленными глазами уставилась на бородатого солдата. В комнате у Елены Ивановны было уютно: широкая низкая тахта, забросанная подушками, пол, покрытый текинским ковром, настольная лампа под пестрым шелковым платком.
— Теперь будем говорить, — сказала она. — И пожалуйста, не зовите меня Еленой Ивановной, а просто — Леной.
Он неловко сидел на тахте — руки лежали на коленях — и смотрел на девушку. Серые лучистые глаза глядели на него прямо и грустно. Лена села рядом.
— Несколько месяцев уже длится эта ужасная война, — печально сказала она. — Люди стали другими… Семен уехал, папа занят работой на своем заводе, а те, кто встречается со мной, говорят какими-то готовыми, скучными фразами. Лучше читать газеты, чем разговаривать с ними!.. Вы много знаете. Ну, расскажите, объясните, что происходит?
Мазурину не хотелось говорить. Ведь все это не серьезно. Ее жизнь идет своим, хорошо налаженным путем, и то, что тревожит ее сейчас, вероятно, скоро пройдет. Он пытался ответить ей несколькими общими словами. Она покраснела.
— И это все? — жестко спросила она. — Разве такие ответы мне нужны?
— Чего же вам надо? — спросил Мазурин. — Я вам говорю — война. Люди стали другими? Да, война многих переделает. Но не так, как вы думаете… Впрочем, те, кто окружают вас, думают совсем иначе. Россия, родина, героизм — это все на словах, а на деле — совсем, совсем иное!
Она сжала пальцы, выражение беспомощности проступило на ее лице.
Мазурин пытался переменить разговор. Он заставил рассказать о Семене, узнал, как проходят ее занятия на Высших женских курсах. Их беседу прервал стук в дверь. Вошел пожилой человек, сухой, прямой, с высоким лбом и зеленоватыми глазами. Увидя необычайного гостя, поднял брови.
— Это Мазурин, друг Семена, — пояснила Лена. — Помнишь, папа?
Иван Осипович сунул Мазурину руку.
— Очень рад, — вежливо сказал он. — Вы давно с фронта? Какие новости? Бьем или нас бьют?
Мазурин стал вкратце рассказывать о военных делах. Иван Осипович слушал рассеянно, ходил по комнате, нервно хмыкал.
Лена, посмотрев на него, мягко спросила:
— Папа, что-нибудь случилось? — И подошла к отцу. — Совсем неожиданное?
— Да, неожиданное! — признался он. — И много! Пятьсот человек!
Она, как всегда, поняла его с полслова.
— Но, папа, у вас же на заводе военное положение?
Он фыркнул и вытянул тонкую, как циркуль, руку.
— Вот, господин Мазурин, — тоненьким голосом заговорил он. — Вы — солдат и знаете, что такое дисциплина. Скажите, прошу вас, как вы относитесь к такому факту, когда ваши, ну, скажем, соратники бросают свой пост во время жаркого боя?
— Мне трудно ответить… Я не знаю, в чем тут дело.
— Они отказались работать, — объяснил Иван Осипович. — Они работают на вас, на фронт, и они своей забастовкой наносят удар в спину родным братьям, — русскому народу, который их защищает. Они предают страну, вспоившую их своим молоком.
— Каким же молоком поили рабочих? — иронически спросил Мазурин. — Забастовка — штука тяжелая, и если рабочий идет на это, значит, у него нет другого выхода, Иван Осипович! Почему, например, забастовали на вашем заводе?
Вопрос Мазурина ударил Ивана Осиповича, как палка. Он пристально посмотрел на солдата своими зеленоватыми глазами и вдруг, близко подойдя к нему, взял за руку и два раза крепко пожал, высоко отставляя локоть.
— Я понял вас, дорогой друг. Можете быть спокойны. Не мне забывать интересы российского пролетариата! Вы, когда ближе узнаете меня, я надеюсь, что это скоро будет, поймете многое… Мне ведомы и подполье, и аресты, и полицейская нагайка. Я тружусь всю жизнь, и боевой дух старой русской интеллигенции не умрет во мне! Рабочий должен бороться за свои права — согласен! Но когда, когда?
Узкая его головка вздернулась кверху, и он продолжал шепотом:
— Плеханов! Неужели кто-нибудь может оспаривать великую прозорливость этого человека? А наши культурные братья, братья по борьбе — французские, бельгийские и британские социалисты: Вандервельде, Макдональд, Жуо? Люди, которых чтит не только рабочий класс, но и все мыслящее человечество! Разве не они призывали, рабочих защищать свое отечество от кайзеровских полчищ? Разве не они отложили свои споры с правительством во имя общей опасности? Заметьте, я говорю — отложили, а не забыли. Когда окончится война, в которую они так благородно включились, они опять поведут борьбу.
Он говорил, и Лена, гордо улыбаясь, слушала его. Поглядывая на Мазурина, она как бы звала его выразить свое одобрение словам отца. Но Мазурин сидел спокойно, смотрел без улыбки. Он думал о том, как много изменилось за несколько месяцев войны. Там, откуда он недавно вернулся, тысячи отчаявшихся и озлобленных солдат учились в суровейшей и беспощаднейшей школе жизни. Он вспомнил долину Танненберга, сумрак Грюнфлисского леса, болота Мазурских озер, разбитые и раскиданные русские обозы, орудия, рухнувшие в канавы, толпы солдат, переставших быть армией. А здесь на заводах, в сердце России, осталась другая армия, та самая, которая начала еще в мае прошлого года разведочные бои на флангах — в Баку и в Риге — и в июле вышла на баррикады и под расстрел в Петербурге.
Отец и дочь смотрели на него, они ждали ответа, и он поднялся.
— Откладывать нельзя, — просто сказал Мазурин, — потому что народу не нужна эта война, а стало быть, не нужна и победа.
— О, это вы упрощаете! — не согласился Иван Осипович.
Он перегнулся вперед, лицо у него было внимательное и напряженное, зеленоватые глаза потускнели, точно пыль покрыла их.
— Я привык уважать всякие воззрения, — сказал он и дружелюбно коснулся сухой рукой плеча Мазурина, — даже такие… такие крайние, как ваши. Но я уверен, что время научит вас. Я — старый общественник, демократ, и мои друзья и рабочие на заводе хорошо знают это. Уверен — время все исправит, а пока пожелаю вам всяческих благ. Мне надо работать.
Он крепко, как бы проверяя силу Мазурина, стиснул его руку и ушел. Горничная принесла чай, сухарики, сыр, холодное мясо.
— Пожалуйста, ешьте больше, — попросила Лена так жалобно, что Мазурин засмеялся. — Вам, после ранения, надо поправляться, и мне хочется, чтобы вы скорее выздоровели, скорее стали сильным!.. Вы не смейтесь. Я ведь знаю, что вы мечтаете о новой, чудесной жизни. Я не скажу, что во всем с вами согласна, но вы упорный, вы не поступитесь своими идеями, и я очень, очень ценю за это вас… Ведь вы романтик, Мазурин, правда?
Он усмехнулся.
— Вы еще зайдете ко мне? — спросила Лена, когда Мазурин встал. — Я очень одинока. Папа занят весь день, а с мамой я никогда не была близка…
— Не знаю… Может быть… — пообещал он, улыбнувшись.
Мазурин медленно шел по улицам. Витрины магазинов сверкали электрическими огнями. Он остановился перед одной из них. Роскошный английский драп мягкими волнами стлался по бархатной подставке. Рядом лежали бобровый воротник, серебристая каракулевая шубка… И вдруг ощутил недовольство собой, что был в богатой квартире, беседовал с инженером, который, как это видно по его отношению к забастовке, владеет фабрикой, работающей на войну, и здорово, наверно, наживается.
«Зря пошел», — с досадой подумал он.
И вспомнилась ему Катя, и тоска взяла его. Как хорошо было бы увидеть ее, да скорее, скорее…
В госпитале дежурный выругал его за опоздание. В палате горела только одна лампочка. Несмотря на позднее время, никто еще не спал. Огоньки папирос светились на кроватях. Больные вполголоса разговаривали. Солдат с лимонным от желтухи лицом, сосед Мазурина по койке, говорил присевшим возле него товарищам:
— Через наш этап их целые тысячи проходили. Русинов и чехов было много, они по-нашему понимают. Ну вот, встретил я, значит, там одного человека, из Моравы — губерния у них такая, в Австрии… Хороший человек. Приятно его слушать. Он видел много русских пленных. А теперь, говорит, у австрияков наши пленные. Как же это понять?
Тут рассказчик поднялся, сел на кровати и многозначительно обвел глазами своих слушателей.
— Как же это понять? — повторил он, упирая на каждое слово. — А вот как. Происходит обмен народом. Идут русские к австрийцам, австрийцы — к русским. А начальство что хошь, то и делай. — Он засмеялся. — Сами подумайте, ребяточки, что может получиться? Прекращение войны, ей же богу. Людей — в бой, а они — в плен. Разведку шлют, а разведка — тоже в плен. Иди устереги вот так всю армию!
— Не устережешь, — заметил какой-то больной. — Однако же долго придется нам перебегать друг к другу. Я бы другое хотел… Скорее бы отказаться всему народу воевать!
— Нам полковник давеча про землю распространялся, — заговорил костлявый солдат. — Завоюем, мол, германцев, и дели, дели, значит, их землю.
— Жди! — послышался чей-то сердитый голос. — Дураку только бы болтать.
В палату вошла толстая санитарка и строго приказала спать.
— Доложу вот дежурному врачу, полуношники! Курите в палатах, разговариваете…
Ее осыпали веселыми шутками.
Она махнула рукой, ушла. Разговоры понемногу стихли.
На следующий день дежурная сестра, войдя в палату, окликнула Мазурина.
— К вам пришли, больной, — сказала она и ворчливо добавила: — Сегодня неприемный день… только уж ладно… для вас.
Он пошел, недоумевая, кто бы это мог быть. Знакомых у него здесь не было, а Чантурия по конспиративным соображениям вряд ли бы пришел.
В приемной на стуле сидела девушка. Больше никого не было. И еще прежде, чем Мазурин узнал ее, острое чувство радости охватило его.
— Катя! — крикнул он, и она уже бежала к нему, прильнула к его груди.
Они сели, держась за руки, и торопливо говорили, перебивая друг друга.
— Нет, ты скажи, как приехала… и так неожиданно… вот хорошая, вот милая… Догадалась, да?
Она смеялась и опять целовала его.
— Страшный ты, Алеша, — говорила Катя, и глаза ее излучали любовь, — ты бы бороду сбрил, к чему она тебе, молодой же ты…
— Хотел проверить, будешь ли ты меня, бородатого, любить, — пошутил Мазурин. — Ну, рассказывай, что там дома? Мать здорова? А Семен Иванович как? На фабрике тихо? Нет, до чего же хорошо, что ты приехала!..
И она старалась ответить сразу на все его вопросы, не выпускала его руки и заботливо спросила:
— Вот глупая какая, совсем забыла! Как твоя рана, Алеша? Не мучит, нет? Очень уж ты подался. Отпуск тебе дадут? Не сразу же на фронт отправят, да?
— Да рана-то что… заживет. Отпуск, конечно, дадут.
— Вот ты и приезжай к нам!
— Приеду… А потом дня на два придется поехать в Петроград. Есть там важное дело. А ты скажи, как тебя с фабрики отпустили? Родная ты моя…
Пришла сестра, хотела сказать, что надо кончать свидание, но, поглядев на них, ушла, ничего не сказав. Наконец Катя поднялась, объяснила, что надо успеть на поезд, передала мешочек с гостинцами.
— Мама пекла, ешь на здоровье.
Никак они не могли расстаться, все говорили, целовались.
— Так ждать тебя, Алеша?
Он охватил всю ее горячим взглядом.
— Жди! Обязательно! Спасибо, что приехала…
Он смотрел в окно, видел ее легкую фигурку, удалявшуюся по двору к воротам.
Прошло две недели после приезда Кати. Мазурин получил отпуск на двадцать дней и решил ехать в Егорьевск, а оттуда — в Петроград. Чантурия он видел еще раз. Худой, небритый, тот бегал-по комнате.
— Понимаешь, какой подлец, ах, какой подлец! — не здороваясь с Мазуриным, сказал он. — Сволочь какая!..
— Ты про кого? — спросил Мазурин.
— Про кого, про кого? Про Чхеидзе! Он, гадина, на свободе! Он в Сибирь с депутатами-большевиками ведь не поедет, а какие песни поет, какие песни!..
И вдруг лицо его повеселело, он радостно засмеялся и, подмигнув Мазурину, сказал:
— А какой ему прием устроили в Питере?.. Прогнали его рабочие. Чуть не побили, ей-богу. Совсем говорить не дали.
Он тут же отдал Мазурину пачку листовок. Тот спрятал их, простился с Чантурия.
В тот же вечер Мазурин сел в вагон поезда, уходившего с Рязанского вокзала. В грязных фонарях лениво горели толстые короткие свечи, при золотушном их свете, толкая друг друга узлами, пробирались люди, отыскивая, где присесть. Слабый паровоз два раза рванул, прежде чем сдвинуться с места. Вагоны скрипнули и застучали колесами.
Перед Мазуриным неподвижно сидел одноглазый человек. На вопрос, куда он едет, одноглазый ответил:
— Кочуем, кочуем… Наше дело простое: где положат, там и лежим.
Низким, придушенным голосом, таким же большим и тяжелым, как его лицо и тело, он рассказывал о себе:
— Таких, как я, много. С кем бы из нашего брата ни поговорил, всегда свое узнаешь: нужда, работа до ночи, обязательно несчастье какое-нибудь… Скажешь, что вон глаз на заводе взрывом выбило, а мне отвечают: и у нас такой случай был. Живем мы, друг солдат, узенько, по дощечкам, по мосточкам. В сторону редко кто уйдет. Некуда.
Он в упор смотрел на Мазурина. Единственный его глаз вспыхнул недоумением.
— Обидно же, — в раздумье сказал он, — трудно бывает, когда люди, как щенки, вслепую живут… Вот послушай, друг, как это случается. Работал я на паршивом кирпичном заводике. С одного боку к нему дорога подходила, а с другого — овраг, весь в колючих кустах, через кусты тропинка вела. И вот как-то ночью я возвращался на заводик. Спустился в овраг, ищу тропинку, а ее нет. Натыкаюсь на кусты, оборвался весь, не могу пройти! Час бился, другой — измучился. Вот он, заводик, двести шагов до него, а не добраться. Пришлось идти в обход, верст за пять. Утром пришел я в то место, где ночью мучился, посмотрел и охнул: господи, до чего же просто, когда светло. А ночью нельзя… пути не видать…
Он разволновался, засопел и как-то безнадежно повторил:
— Чего хуже может быть, когда пути не видать…
Скоро в вагоне все заснули. Из-под пола доносились беспорядочные, унылые звуки, точно кто-то кашлял там железным заржавленным горлом, кашлял длительно и надрывно. Долго стояли на станциях. В соседнем отделении не переставая плакал ребенок, и никто не унимал его.
Серым утром приехали в Егорьевск. Сошли на деревянный, обледенелый перрон. Мазурин взволнованно осматривался. Отсюда он уезжал на войну, вот тут стояли Катя и Тоня, тут плакали женщины, полковой оркестр играл бравурный марш. Неужели с тех пор прошло только несколько месяцев? Ему казалось, что грань, пересекавшая время, разрезала жизнь, развалила ее на не похожие один на другой миры.
Он шел по улице, смотрел на красные корпуса бардыгинской фабрики, слышал жужжание станков (фабрика работала на армию), потом ускорил шаги. Деревянный, с разбитым настилом мост, незамерзающая от горячих фабричных отходов Гуслянка, белый с колоннадой дом на горе — как это все знакомо и как страшно! Казарма двинулась на него так буднично и грозно, так неумолимо, что он вспомнил фронт как нечто отрадное.
Свернув в узкий, лишенный мостовой переулок с редкими керосиновыми фонарями, он прошел мимо того места, где когда-то поручик журил его за курение на улице, и вдруг обмер: этот же самый поручик шел навстречу, такой же большой, толстый, с черными рожками усов над красными губами, с выпученными глазами, в защитной шинели, в портупее, с револьвером и шашкой, являя собою вид боевого офицера. Слава его товарищей, умиравших на фронте, отраженно падала и на него, русского офицера, и он крал ее, как привык красть казенные деньги.
Мазурин вытянулся и отдал честь. Поручик с надменным видом прошел мимо, но, покосившись на солдата, остановился.
— С фронта? — отрывисто спросил он.
— Так точно, ваше благородие!
Офицер опустил руку в карман шинели и достал полтинник.
— Выпей за мое здоровье!
Мазурин знал испытания потяжелее этого. Он был выдержан и хладнокровен. И все же рука его дернулась назад. Он с усилием поднял ее. Отказываться было нельзя. Солдат не имел права не принять офицерской подачки.
— Покорнейше благодарю, ваше благородие… — глухо проговорил Мазурин.
Он подождал, пока офицер скрылся за углом, и бросил монету в грязный снег.
Подошел к знакомому домику и не мог войти. Долго стоял у ворот. Достал кисет, закурил. Сердце билось неровно и часто, как после трудной работы.
Наконец вошел во двор. Толкнул дверь. В сенях стояла Васена — мать Кати. Она вскрикнула от неожиданности, обняла Мазурина и несколько раз поцеловала его.
— Вот хороший, вот хороший, что приехал! — Она сияла радостью. — Катерина говорила, что обещал, но я, по правде сказать, не верила: дела у вас военные… Ну, садись, садись, раздевайся… Она скоро придет.
Прибежала Нинка, побледнела, увидев Мазурина, и, завизжав, прыгнула к нему, целуя и дергая за бороду. Потом стрелой унеслась и вскоре вернулась вместе с Катей.
— Вот счастье какое! — проговорила Катя.
Он обнял ее и целовал, не в силах оторваться от ее горячих губ.
Нинка, дразнясь, щипала старшую сестру и любовно поглядывала на Мазурина. Васена собрала обед и, по привычке насмешливо поджав губы, поставила на стол бутылку.
— С тобой выпью, — сказала она. — Девкам не дадим.
Пили из зеленоватых граненых стаканчиков. Мазурин спрашивал, как живут в городе, что делается на фабрике. Он пошептался с Нинкой, как прежде, когда она выполняла его поручения, и та, накинув платок, куда-то убежала.
Катя сжимала руку Мазурина.
— А мать не пускала меня к тебе в лазарет, боялась, что в Москве затеряюсь. Но я, как получила от тебя письмо, минуты не могла спокойно сидеть.
Васена, подлив водки в стаканчики, сказала:
— Потом уж отпустила, думаю: нет того любее, как милый.
Мазурин чокнулся с Васеной, крепко обнял Катю.
— На потом оставьте, — насмешливо заметила Васена.
— Ну и мать! — засмеялась Катя, и оба посмотрели на нее, не сердясь, так как знали, что Васена не умеет говорить без насмешки.
Вошел Семен Иванович, сопровождаемый Нинкой. Серенькая его бородка растрепалась, глаза сердито смотрели из-под очков. Он всплеснул руками и прижался щекой к щеке Мазурина.
— Обманула! Обманула! — грозил он Нинке. — Сказала, будто письмо от тебя!
— Выпей на радостях, Семен Иванович, — предложила Васена.
— Выпью, непременно выпью. Знал бы, сам принес бутылку.
Он сел и, вскинув очки на лоб, разглядывал Мазурина.
— Пощипала тебя война… Куда против прежнего похудел! Господи, сколько же воды утекло! Неужели только семь месяцев прошло? Эх, сейчас бы музыку сюда!.. Наливай, Васена.
Он притопнул ногой, глаза его сияли.
— Жаль, что двести лет жить нельзя, — весело сказал он. — Я бы таких делов натворил!..
— Прибедняется, — задорно вмешалась Нинка. — Ты ему, Алеша, не верь. Триста проживет! Здоровье — хоть куда! Как угорь везде вьется, не поймаешь.
— Вот поймаю! — угрожающе приподнялся Семен Иванович. — Молода еще крыльями хлопать. — И, повертываясь к Мазурину, шепнул: — Золотая девка, куда хочешь проскользнет. Все, что ни скажешь, — делает. Она у нас — техник.
— Техник! — задорно подтвердила Нинка. — А кто меня техником сделал? Он! — И, закрасневшись, показала на Мазурина.
— Выпьем, Семен Иванович, — предложил Мазурин. Лицо у него покраснело, левой рукой он обнимал Катю, правой подымал стаканчик с водкой. — Не хочу про войну вспоминать. Забудем сегодня все плохое.
— А я и так хорошим живу, — сказала Васена. — Вот ты приехал — хорошо. Дочки у меня — не налюбуешься. День нынче солнечный, чистый. Вечером ляжешь спать, все плохое как сквозь сито просеешь, ан одно хорошее и останется. А завтра, думаю, еще лучше будет. Завтра не выйдет, я на послезавтра надеюсь. Вот так одним хорошим и живу.
— С мамой не пропадешь, — сказала Катя. — Уж как трудно ни будет, она все равно спокойная.
Когда бутылка опустела, Васена подала чай, Семен Иванович, проворно кинув в рот кусочек сахару, стал пить с блюдца.
— Суд вот в Петрограде будет над нашими депутатами, — сказал он. — Слыхал?
— Поеду туда, — ответил Мазурин. — Хочу до фронта повидать, кого надо.
Старик закивал головой:
— Езжай, езжай… Дерево от корня отрываться не должно.
Разошлись поздно. Мазурин пошел ночевать в казарму.
Ночью батальон вошел в галицийскую деревню. Было темно, ни одного огонька не светилось в избах. Солдаты наталкивались друг на друга, ругались. Долго стояли па улице.
— Пойдем в хату, — предложил Черницкий Карцеву.
Они прошли в самый конец деревни. Сапоги увязали в грязи. Мимо, с коротким воем, метнулась собака. Черницкий свернул к черной хатенке, долго шарил дверь, постучал. За дверью что-то слабо хрустнуло, точно кто-то ходил по соломе, и лишь по слабому движению воздуха Карцев догадался, что дверь открылась. Они очутились в низких сенях. Узенький рыжеватый огонек коптилки осветил деревянную, треснувшую книзу лопату у стены, рассохшуюся кадку. Невысокая женщина, мягко переступая босыми ногами, повела гостей в избу. Там было душно, пахло печеным хлебом.
— Шо ж, сядайте, — певуче сказала хозяйка, ставя коптилку на стол. — И чеботы, коли мокрые, скидывайте, к утру просохнут.
Черницкий поставил в угол винтовку, проворно стащил с себя мешок, отстегнул пояс вместе с подсумками и, усевшись на пол, кряхтя стал снимать мокрые сапоги. Карцев делал то же самое, внимательно разглядывая женщину. У нее было худощавое, смуглое лицо, волосы плоско приглажены на голове. Она неторопливо ходила по избе, что-то брала спорыми, хозяйскими руками, потом ушла за перегородку, и оттуда послышался ее негромкий голос и в ответ женский приглушенный смех.
— Давно уже мы не слыхали, как люди смеются, — сказал Черницкий. — Эх, хозяюшка, попал солдат в теплую хату, услыхал человеческий голос — и уже легче ему жить!
Он встряхнул мокрые портянки и повесил их на веревочке возле печки.
Из-за перегородки вышла хозяйка с большим чугуном в руках, быстро поставила, чуть не бросила его на стол и помахала растопыренными пальцами.
— Горячо! Ухвата под рукой не было. — Она придвинула солонку, нарезала еще теплый черный хлеб щедрыми, толстыми ломтями.
— Ешьте, ешьте, — сказала она и, видя, что Карцев нерешительно косится на хлеб, добавила: — Хоть весь съешьте, я и с собой дам…
— Садитесь с нами, хозяюшка, веселее будет! — сказал Карцев.
— Ночью-то не с привычки еда… — замялась она и протяжно позвала: — Марина! Иди, что ль, с солдатиками супца отведай.
Из-за перегородки, поправляя на голове платок, показалась женщина и, неловко поклонившись, села рядом с хозяйкой. А та, придерживая тряпкой чугунок, чтоб не жгло руки, наливала суп в глиняную миску.
Солдаты ели быстро, с аппетитом, а хозяйка все подливала, нарезала и подсовывала хлеб.
— Спасибо, — Карцев положил ложку на стол. — Давно так вкусно не ел!
Черницкий посмотрел на него с упреком. Вот чудак! Не мог подождать со своей благодарностью… А он только во вкус вошел!
Марина поднялась, чтобы убрать со стола. Хозяйка удержала ее. Черницкий, бережно доставая крошечную щепоть драгоценной махорки, спросил:
— Сестры?
— Нет, я чужая ей. Беженка, — сказала Марина. — Мужа моего убили, деревню казаки пожгли. Вот и живу у нее…
Марине было лет двадцать, не больше. В глазах не замечалось горя. О пережитом говорила так, будто оно давным-давно прошло.
— Война!.. Кто без печали нынче ходит? — вздохнула, подымаясь, хозяйка. — Слез людям не хватит, если все вспоминать.
Черницкий сочувственно кивнул головой.
— Муж на войне?
— В плену. Вот уже полгода. Только одно письмо получила. Там ему лучше, думаю, чем на войне. Хоть живой вернется. Есть ведь и там хорошие люди… А мне что? Одна живу, детей нет, управляюсь потихоньку…
Она проворно стала прибирать со стола и, вдруг остановившись, с любопытством посмотрела на Карцева:
— Кого дома оставил?
— Никого, — улыбнулся в ответ Карцев.
За окном послышался глухой, но мощный удар. Стекло тоненько зазвенело. Марина вздрогнула.
— Пушки стреляют, — спокойно объяснила хозяйка. — Чай, привыкли к ним?
Глухие удары повторялись, но сидящие в избе уже больше не обращали на них внимания и оживленно разговаривали. Карцев рассказывал о своей солдатской службе, о родной Одессе, о море, которое хотя и зовут Черным, но на самом деле оно синее, и нет ему конца и краю. Черницкий уверял Марину, что в России больше украинцев, чем в Галиции.
Легли поздно. Хозяйка задула коптилку и ушла с Мариной за перегородку.
— Хорошие бабы, — сонно пробормотал Черницкий, — здоровые… Э-хе-хе!.. Истосковался я по бабьей ласке…
Он не докончил фразы и захрапел.
Была ранняя весна. После длительных боев полк получил небольшую передышку. Стояли в местечке, красиво расположенном на высоком берегу реки. Река несла мутные, желтые от размытой глины воды, щепки, прутья, иногда целые кусты плыли по течению и вертелись, попадая в водоворот, образовавшийся на изгибе реки. В местечке скопилось до двух полков, и, кроме того, над самой рекой, в каменном двухэтажном доме, окруженном садом, где раньше была школа, помещалась казачья сотня. Лошади там были привязаны к деревьям, к забору, в саду, потрескивая, горели дымные костры, и от них далеко уносился запах жарившегося мяса. Казаки в лихо заломленных фуражках, из-под которых выбивались копны волос, лениво слонялись по местечку, с шашками на боку, с нагайками в руках. На узких кривых улочках было пусто. Часть жителей разбежалась, остальные старались пореже выходить из своих хат.
Во двор, где стояла десятая рота, прибежал сияющий Черницкий и отыскал Карцева и Рогожина.
— Тихо, ребята! — прошептал он, наклоняясь к ним (оба лежали на соломе под деревом). — Если есть белье и мыло — гайда за мной!
Голицын, лежавший в стороне, догадался, что Черницкий нашел баню, и когда солдаты, захватив узелки, торопливо пошли со двора, он побежал вслед за ними.
— А дядю забыли! — с упреком сказал он, нагнав их.
— Четверых не пустят, — проворчал Черницкий. — Там может не хватить места для такого числа солдатских вшей. Но что с тобой делать, дядя, идем уж, помоем и тебя.
— Неужели в баню? — восхищенно спросил Голицын. — Эх, родимые, однова помыться, а там и помирать можно…
На самом краю местечка они юркнули в приземистый, почти развалившийся домик. На крыше его почерневшая от дыма кирпичная труба слабо дымилась. Зеленоватая от плесени лужа раскинулась возле древних ступенек, и в ней виднелась затонувшая разбитая шайка. Они вошли в предбанник с дощатым, щелястым полом. Вдоль стен, по которым извилистыми струйками стекала вода, тянулись широкие лавки, покрытые узлами одежды. Старичок с пожелтевшей, как страницы старой книги, бородой, в длинном, до пят, лапсердаке и в черном плюшевом картузике, мирно приветствовал их и указал аршин свободного места, где можно было оставить вещи. Голицын мгновенно разделся, схватил свое серое, заношенное белье, мыло и, радостно гогоча, первым побежал в баню. Остальные последовали за ним.
Баня была маленькая, грязная, угарная и к тому же до отказа набитая людьми. Голицын пристроился к небольшому волосатому человеку, потер ему спину и потом завладел его шайкой. Он забрался на верхний полок, потонул в густом молочном паре, и оттуда лишь доносилось его сладостное гоготание. Черницкий пробрался к нему, они долго хлестали друг друга вениками и стонали от наслаждения.
Карцев пробовал тоже залезть к ним, но должен был отступить: горячий воздух обжег его.
Когда вышли на улицу, местечко показалось им другим миром, хорошим…
…Полк подняли рано. На маленькой поляне, за деревней, уже дымили полевые кухни. Полковой интендант прислал корову. Кашевар, низко склонившись к земле, связывал корове ноги.
— Готово? — звонко крикнул он. — Валяй!
Крепко сложенный солдат, пробуя концом пальца короткий, широкий нож, подошел к корове, спокойно смотревшей на него, и сунул ей нож в шею. Вокруг собрались любопытные, советовали, как лучше снять шкуру, как правильнее разделать коровью тушу. Человек двадцать, сидя на земле, чистили картошку. Кто-то объявил радостную весть: в деревне останутся до вечера, а может быть, и опять заночуют. Настроение у всех сразу поднялось. Одни побежали к реке постирать белье, другие расположились чинить свои вещи, а третьи разбрелись по избам и сараям поболтать или соснуть.
Вдруг прозвучал сигнал горниста.
По улице торопливо шли солдаты. У кухонь еще толпились люди с котелками, ожидая обеда. Вкусный мясной пар клубами подымался от котлов. Из штаба, прихрамывая, пришел прапорщик.
— Обеда не давать! — приказал он. — Сейчас выступаем.
Дорога, по которой двигался полк, не носила следов войны. Три-четыре крестьянские телеги ехали по колеям, уже высушенным весенним ветром. Блеклая прошлогодняя трава вяло торчала по краям. Женщина и старик шли за плугом. Десятилетний мальчуган понукал лошадь, взмахивая кнутом.. Медленно плыли белые облака. Самохин радостно закричал, показывая рукой вверх. В небе треугольником, снижаясь к лесу, летели гуси.
— Вольные птицы! — завистливо сказал Самохин. — Куда хотят, туда и летят. Эх, крылья бы нам!..
Послышался далекий протяжный гудок паровоза. Дорога повернула влево, вдоль телеграфных столбов. Подходили к станции. Невысокая насыпь потянулась за березовой рощей. Одинокий товарный вагон стоял возле железнодорожной будки. Офицер с аксельбантами поскакал со станции навстречу полку. Он строго и неодобрительно осмотрел запыленного полковника Уречина, заменившего Максимова, и стал говорить с ним, помахивая замшевой перчаткой. Уречин отдал честь, и офицер уехал на станцию.
Раздалась команда. Полк отошел в сторону от дороги; винтовки составили в козлы. Рысью подъехали кухни, роняя из топок горящие угольки. Проголодавшиеся солдаты живо выстроились с котелками. Кашевары, стоя на подножках кухонь в густых облаках пара, черпаками разливали суп.
Прошло около часа. Полк оставался на месте, винтовок не разбирали. Но вот вернулся со станции Денисов, и солдатам приказали строиться. Откуда-то поползли слухи, что на станции ждут царя и что он будет смотреть полк. Петров, недавно приехавший из военного училища в звании прапорщика, вернулся от полкового командира и подтвердил, что царь действительно через полчаса будет здесь.
Васильев осматривал солдат своего батальона, запыленных, грязных, но все же имевших боевой, обстрелянный вид. «Хорошо, что царь увидит их такими», — подумал он.
Вечерело. Солнечные лучи косо ложились на землю. На перроне собралось много людей. Командующий армией нервничал. Начальник станции смотрел на него так, точно был виноват в том, что поезда еще нет. Вдруг совсем близко показался состав, скрытый до сих пор изгибом пути. Все подтянулись. Офицеры построились, почетный караул замер с винтовками у ноги. Командующий стоял посредине перрона, но поезд проехал немного дальше, и генерал, покраснев от волнения, рысью побежал к царскому вагону. Царь вышел первым, и сейчас же за ним выступила длинная фигура великого князя Николая Николаевича, с седоватой короткой бородкой и большим хрящеватым носом. Царь сдвинул ноги, поднял руку к фуражке, слушая рапорт генерала, часто моргал, пальцы его левой руки, прижатой к боку, шевелились. Быстро протянув командующему руку, он пошел по перрону. Великий князь следовал сзади, посматривая вокруг желтыми, ястребиными глазами.
Царь, достигнув фронта, поздоровался с солдатами. У него был негромкий голос, бородка и усы желто-табачного цвета, толстоватый нос и невыразительные голубые глаза. Привычно выждав ответ, он направился вдоль рядов.
— Ваше величество! — сказал командующий армией. — Этот батальон особо отличился в бою, он заслуживает поощрения.
Теперь они проходили мимо Васильева, и царь нерешительно задержался.
— Это хорошо, что отличились. Я очень доволен молодцами-солдатами.
Он наклонил голову и ускорил шаги, желая как можно скорее закончить утомительную обязанность — он не умел говорить с солдатами.
— Отличились в боях, — настойчиво повторил командующий, — и безусловно достойны награды.
— Георгия, да? — царь остановился. Он увидел застывшие солдатские лица, бородатые, осунувшиеся, с устремленными на него глазами. — Объявите, что я представлю их всех к Георгию, — негромко сказал он, потом вздохнул, подумав, что все необходимое сделано, и рассеянно повернулся лицом к фронту. Прямо перед ним стоял высокий солдат и с настойчивым любопытством смотрел на самодержца всея Руси. Царь сделал к нему движение, думая, что следует, пожалуй, сказать несколько слов этому солдатику.
— Как твоя фамилия?
— Карцев, ваше императорское величество!
— Молодец! Хорошо…
И, кивнув головой, поспешно направился к своему вагону.
Глядя на царя, все еще слыша его невыразительный голос, видя перед собою его равнодушные глаза, несобранную, без всякой выправки фигуру, вяло шагающую вдоль поезда, Карцев отчетливо подумал: «К чему он народу?.. Только горе и кровь от него…»
В марте полк занимал позиции у небольшой речки Пилицы. Германские окопы близко подходили к русским. В некоторых местах расстояние не превышало и двухсот шагов. Больших боев не было, обе стороны сидели в окопах и понемногу приглядывались одна к другой. Германцы зорко вели наблюдение и, как только замечали вылезшего из окопов русского, открывали огонь. Солдаты забавлялись: осторожно выставляли шапку, поворачивали ее, а потом с интересом считали пробитые в ней дыры.
Десятая рота была на правом фланге, примыкавшем к окопам соседнего 248-го полка, и Черницкий с Голицыным часто ходили туда в гости. Войдя первый раз в окопы к соседям, Черницкий спросил с веселым недоумением:
— Вы что, землячки, от одной мамы родились, что такие похожие?
— Это верно, — ответил низенький солдат. — Мать у нас одна — шахта, и папаша строгий — забой.
— Шахтеры?
— Эге ж. Все здесь забойщики, проходчики, откатчики.
Оказалось, что 248-й полк поголовно состоял из запасных — шахтеров Донбасса. Манерами, разговорами, движениями, выражением лиц, на которых навеки запечатались следы угля, они были действительно похожи друг на друга. Тут были жители «Собачевок» и «Шанхайчиков» — знаменитых поселков Горловки, Юзовки и Енакиева. Среди них многим было лет за тридцать, они хорошо помнили события девятьсот пятого года и принимали в них участие.
Против шахтеров расположился германский гвардейский полк — рослые, здоровые немцы: металлические каски придавали им особенно суровый, воинственный вид. Они выкрикивали ругательства и держали русских в непрерывном напряжении. Но вот неожиданно произошла перемена: прекратились частые перестрелки. По русским, изредка кравшимся из окопов, стреляли меньше, и никто больше не замечал ни одной германской каски. Солдаты решили выяснить, что произошло. Двое смельчаков ночью пробрались к германским окопам и принесли интересные сведения: оказывается, гвардейский полк, занимавший окопы, ушел, и его заменил ландштурм, состоявший почти сплошь из пожилых людей. Ландштурмисты вели себя очень спокойно. Медлительные, в плоских бескозырках, они осторожно высовывались из окопов, наблюдали за русскими, иногда что-то им кричали. Из-за русского бруствера смелей стали выглядывать солдатские лица, и наконец Денисенко — маленький остроносый забойщик — решился: держа в поднятой руке пачку махорки, вышел из окопов и, не прячась, направился к немцам. Прошел шагов пятьдесят и остановился, жестами приглашая их к себе. Из германских окопов выскочил солдат без оружия, только на широком поясе, охватывающем толстый живот, желтела патронная сумка. С обеих сторон со жгучим любопытством следили за встречей. Оба медленно, недоверчиво сближались. Денисенко протянул немцу пачку махорки. Тот, словно опасаясь обжечься, взял ее. Вдруг послышался выстрел. Немец проворно побежал к себе. Денисенко тоже вернулся.
На следующий день батарея, расположенная за русскими окопами, начала обстрел германцев. Ответные снаряды заставили русских сидеть в окопах. Еще через день наступило затишье. Офицеры укрылись в своих землянках, солдаты с утра поглядывали из-за брустверов. Выставили для пробы несколько шапок — германцы не стреляли. Тогда Денисенко опять вылез из окопа и, не пригибаясь, сделал несколько шагов вперед.
— Гляди, гляди, твой друг идет! — закричали солдаты.
Толстый немец, держа в поднятых руках бутылку, сближался с Денисенко. Они сошлись на равном расстоянии от своих окопов и начали разговаривать. За каждым их движением настороженно следили обе стороны. Черницкий, прибежавший в гости к соседям, не выдержал и вылез на бруствер. Потом пошел к Денисенко. Германец недоверчиво посмотрел на него, но у Черницкого так сияло заросшее лицо, он так дружески протягивал немцу руку, что тот невольно улыбнулся и остался на месте. Черницкий сейчас же заговорил с ним, отчаянно коверкая немецкие слова и показывая на германские окопы. Немец, обернувшись, закричал своим. Пять или шесть германцев вылезли из окопов и пошли вперед. Они окружили русских солдат и повели к себе.
Солдаты были смущены и встревожены.
— В плен взяли! Вот тебе на!
Тысячи напряженных глаз уставились на германские окопы. Прошел примерно час, Черницкий и Денисенко, вместе с двумя немцами, вылезли из окопов. Весь полк при виде их замер. Потом тихий, сдержанный гул пронесся, как порыв ветра. Люди хлопали друг друга по спинам, отрывисто кричали:
— Смотри, идут!
— Так как же теперь будет, братцы? Опять с ними драться или как?
— Так тебе сей секунд мир и подпишут, жди-дожидайся! Дескать, два русских солдата с двумя германскими покалякали — и конец войне?.. Не идут! Гляди, не идут! Опасаются, видать…
И действительно, немцы остановились, покачивая головами, в то время как Черницкий и Денисенко жестами показывали им на свои окопы. Кучка русских солдат уже стояла на бруствере, некоторые направлялись к германцам, в ненасытной жажде рассмотреть их. Но те повернулись и пошли обратно. Им навстречу выскакивали солдаты, и скоро с обеих сторон, не сближаясь, стояли противники, посматривая друг на друга. Вдруг германцев точно сдунуло. Высокая офицерская фигура на мгновение мелькнула там, донесся резкий крик. Потом пробежал другой офицер и погрозил рукой в сторону русских. Густая толпа окружила Денисенко и Черницкого.
— Замечательные окопы! — говорил Денисенко. — Ровные, как штрек, земля убита и посыпана песком. Лежанки удобные и покрыты соломой. Окопы шире и глубже наших, у бойниц ступеньки, все сделано чисто, точно обточено. В нужник особый ход… Ну прямо квартира, живи себе с удобствами и воюй.
Рассказчика слушали, не пропуская ни одного слова. В интонации его голоса, в мимике лица солдаты искали скрытый смысл, которым каждый для себя дополнял услышанное.
Утром началось сильное оживление между окопами. По всему фронту 248-го полка вылезло на брустверы человек двести, не меньше. Германцы были в зеленых однобортных куртках, в сапогах с твердыми короткими голенищами, в плоских бескозырках. Преобладали пожилые люди, мирно сосавшие трубки. Голицын вертелся среди немцев, осматривал их с ног до головы, спрашивал:
— Когда же мир, господа немцы? Завоевались мы с вами.
Одни разговаривали, другие стояли молча. Затем молча же отходили. Маленький юркий немец, чем-то очень похожий на воробья, обеими руками держал за поясницу русского и убедительно говорил:
— Ти здесь… сюда, видишь, вот я. Я видим — вот ти, ну так, ландсман, ну так?
Русский осторожно снял его руки со своей поясницы, секунду подержал, точно не зная, что с ними делать, пожал их и отпустил.
— Так-то так, — ответил он, — вот ты, а вот я… а завтра бабахнешь меня, почтеннейший, в первом же бою, да и я тебя, если придется, не помилую.
Германец, плохо понимая, кивал головой, дружески улыбался:
— O ja, das ist sicher[1].
Между тем из русских и германских окопов выходило все больше и больше солдат. Они скапливались посредине пространства, разделявшего передовые линии противников, всегда полного такого страшного значения, пространства, которое они могли пройти только под выстрелами. Спрашивали о том, как живут, говорили о мире, ощупывали один другого удивленными взорами, точно отыскивали друг в друге то непонятное, ужасное и таинственное, что делало их противниками и заставляло стрелять, бить, убивать. Так они стояли — перемешавшись, простые люди с обычными мирными привычками, живущие в городах и деревнях, занимающиеся земледелием, работой на фабриках и заводах, портняжничеством и другими ремеслами. Но все же их разделяла пропасть, и они не знали, как перешагнуть ее.
Внезапно со стороны русских окопов донесся грохот, несколько шрапнелей разорвалось над братающимися: русское командование, обеспокоенное первым за войну массовым братанием, распорядилось открыть огонь по своим и германцам. Солдаты поспешно разбежались.
Ночью солдаты нескольких рот собрались в укромном углу одного из окопов, где можно было поговорить, не опасаясь чужаков. Они были встревожены, возбужденно говорили друг с другом. Теребили Черницкого и других солдат, побывавших у немцев. Немолодой солдат с рыжей бородой и настороженными глазами держал Черницкого за рукав шинели и настойчиво спрашивал:
— Нет, ты объясни, раз у них был да с ними говорил: что это было? Как нам понимать? В самом деле они воевать не согласны иль обманывают? Простые они люди, видать это по ним? Объясни.
Рогожин и другие солдаты тоже требовательно спрашивали:
— Объясни. Раз был — должен был видеть, что за люди. Объясни.
А он мог сказать не так уж много. Ошеломленный, смутно сознавая, что случилось нечто большое и важное, он путался, рассказывая, как выглядят немцы, какие у них окопы, как дружелюбно они обращались с ним…
Тогда рыжебородый солдат ударил Черницкого по колену:
— Воевать-то они будут против нас? Домой хочется им? Следствия какая будет из всего этого? Эх, чертушка ты! Главное-то заприметил у них?
И тут все стали горячо спорить, размахивать руками, и было видно, как взволновало солдат это первое братание с немцами. Какие-то новые мысли и надежды пробудились у них, точно луч света проник в окопный мир. Все они, исстрадавшиеся за годы войны, не знавшие толком, во имя чего бросили их умирать (им-то самим война эта не была нужна!), они искали выход, жаждали мира, хотели вернуться домой. Кто-то угрюмо сказал, думая вслух:
— Начало это только, видать. Без народа дело-то не двинется…
Вокруг молчали. Многие согласно кивали: да, без нас не обойдется…
В день полкового праздника солдат построили на молебен. Деревенская улица легко вместила весь, недавно еще четырехтысячный, полк. Из пятисот человек, оставшихся в строю, кадровых было только полтораста. Два месяца, не считая небольших перерывов, они не выходили из боев, и только теперь их отвели в тыл для короткого отдыха и пополнения.
Отец Василий служил молебен. Рыжая его борода была запущена. Припухшие глаза смотрели беспокойно, сиплый голос звучал еле слышно. До сих пор он не мог забыть Мазурских озер, страшного отступления через болота, Грюнфлисского леса. Он пил не скрываясь, в смутной надежде, что его за пьянство отправят с фронта. Но в эти дни пили многие офицеры, и никто не обращал внимания, что священник навеселе. К нему приходили исповедоваться солдаты, и он принимал их в походной церкви-палатке. Накрывал епитрахилью, бормотал разрешительную молитву и, дыша на солдат острым запахом перегоревшей водки, совал им в губы немытую руку.
Васильев и Петров стояли на молебне рядом. Петров пристально посматривал на солдат — что-то у них скучные лица. Наверно, думали о своем, житейском… Рогожин ссутулился, глаза у него были красные, точно недавно плакал. Иногда он бессознательно подымал руку ко лбу, но рука тут же опускалась, не сделав креста.
Васильев наклонился к Петрову:
— Почему не берете себе денщика? Неудобно-с…
— Да уж возьму, — хмуро ответил Петров.
Ему вспомнились дни его солдатской службы, разговоры с Карцевым и Орлинским о денщике, замученном Вернером, об унижении, которое испытывает солдат, выполняя самые грязные работы для своего барина. Неужели он должен поступать так же, как остальные офицеры? Но отказаться нельзя. Могут пойти разные кривотолки.
После молебна к нему явился Комаров, вытянулся, слезливо стал умолять взять его в денщики.
— Ваше благородие, уж я вам лучше всякого другого услужу. Каждую пылиночку сниму, за всем доглядывать буду.
— Да разве в денщиках лучше, чем в строю? — спросил озадаченный Петров.
— А как же! Сидеть буду за вашим благородием, как за каменной стеною. Пожалейте Комарова, блошинку человеческую…
— Ну, если так, — сказал Петров, — если ты думаешь, что тебе лучше будет…
И Комаров сделался денщиком Петрова.
Из старых офицеров в десятой роте оставался один Руткевич. Бредов лечился в госпитале, Васильев командовал батальоном, и Петров оказался на должности полуротного командира в той же самой роте, где он служил вольноопределяющимся. При первой встрече с Карцевым он бросился к нему.
— Смотрят, — предупредил Карцев, глазами показывая на проходившего мимо офицера.
И Петров не протянул руки, он не имел права так здороваться с нижним чином. Его новое звание стояло между ними непроходимой гранью. Он шепнул Карцеву, чтобы тот пошел в рощу, лежавшую за деревней. Там, под деревьями, Петров обнял друга и нетерпеливо расспрашивал его о товарищах. Карцев рассказал о судьбе Чухрукидзе, о Защиме, об Орлинском, о смерти Вернера, о тяжелых испытаниях, которые вынесла рота, о ранении Мазурина.
Не было в роте, как узнал Петров, и зауряд-прапорщика Смирнова: он стал жертвой собственной жадности. Во время отступления задержался в деревне, нагружая на подводы конфискованную или, проще говоря, награбленную у крестьян пшеницу, которая должна была в отчетности пройти как купленная. Вдруг в деревню ворвался неприятельский разъезд. Солдаты ударили по лошадям. Те, которые грузили пшеницу, бросили мешки и на ходу вскакивали в повозки. Смирнов тоже побежал, но по тучности не мог вскочить на подводу, и хотя он кричал и грозил солдатам, те не остановили лошадей. Один из них, оглянувшись, видел, как германец в каске с коня рубил палашом визжавшего фельдфебеля, руками прикрывавшего голову. В донесении же было отмечено, что зауряд-прапорщик Смирнов геройски погиб в арьергардном бою, прикрывая отступление полка. Теперь его место занял Машков. Он притих, отпустил бороду, меньше теснил солдат.
Из рощи Карцев и Петров направились в деревню, но по дороге разошлись, чтобы их не видели вместе.
Солдаты были размещены по избам и сараям. Карцев, Защима и Черницкий устроились в полуразбитой хате, казавшейся им, после фронта, надежным убежищем, — так измучили их многоверстные переходы, частые бои.
После обеда они сидели, курили. Защима вспоминал Смирнова:
— Цеплял он зубами живую человеческую душу, грыз ее долгие годы… Дай бог здоровья германцам, что кончили его!
На пороге выросла фигура Рогожина.
— Карцев, к тебе я…
Он показал письмо, полученное из дому.
— Плохо там… — Губы у него дрожали, на глазах выступали слезы. — Пегашку забрали — единственную… взамен хромого коня дали. А тут, тут… — он указывал пальцем на зачеркнутые цензурой строки, — об чем-то важном писали, так черной краской вымарали, самое главное вымарали! Может, вглядишься, чего разберешь? А, Карцев?
Стиснув зубы от обиды, он впился глазами в погребенные под краской слова и сказал, думая вслух:.
— Господи, господи!.. Отвяжись худая жизнь, привяжись хорошая!
Утром полк подняли раньше обычного. Радостно суетился Машков, что-то узнавший от ротного командира. Пришел Уречин. Вокруг него собрались офицеры и, оживленно разговаривая, посматривали на покрытую весенней грязью дорогу, ведущую к станции.
И вот на дороге показалось черное движущееся пятно, оно стало расти, приближаться, и все увидели, что идет какой-то отряд, но идет как попало, не воинским строем. На солдатах — ботинки, защитные обмотки. Стало ясно: в полк пришло пополнение. Пожилой офицер в дымчатых очках, который привел новичков, сипло, неумело скомандовал и, по-журавлиному ставя ноги, приложив руку к козырьку, подошел к Уречину отдавать рапорт. Уречин с ног до головы осмотрел офицера.
— Послушайте, поручик, — брезгливо сказал он, — что у вас за вид? Вы на маскарад явились или на позиции?
Тот конфузливо развел руками.
— Стоять, смирно! — крикнул Уречин. — Что за штатские жесты?
И растерявшийся поручик объяснил командиру, что он офицер ополчения, на военной подготовке не был лет десять. Его призвали и, по чьему-то распоряжению, не проверив знаний, отправили на фронт, хотя он говорил, что считает себя неподготовленным. Впрочем, все пополнение примерно такое же. Исключение составляют лишь три унтер-офицера, которые уже побывали на фронте.
Уречин приказал выстроить прибывших в две шеренги.
Поручик стал беспомощно топтаться на месте, не зная, как произвести расчет.
— Да это сделает любой унтер-офицер! — вскипев от гнева, сказал Уречин и обернулся. Взор его упал на Машкова. — Построй их, — приказал он.
Кровь прилила к лицу Машкова. Вот когда он сможет показать себя, вот когда пригодилась драгоценная наука муштровки! Он вытянулся, выпятил грудь и подал команду. Однако новые солдаты путали построения, не умели строиться, заходить плечом. Пришлось вызвать человек двадцать кадровиков, и те, подталкивая новеньких, добились наконец порядка. Пополнение вытянулось в две шеренги. Здесь были люди разных возрастов. Рядом с юношами, у которых лица покрывал первый пушок, стояли бородатые сорокалетние мужики, все — без винтовок. Только солдаты одного взвода держали топоры. Похожие на дровосеков, они стояли хмурые и озадаченные, неизвестно зачем присланные на передовые позиции…
— Кто велел выдать топоры? — спросил Уречин.
— Не могу знать! — Испуганный поручик тщетно старался убрать живот, который мягко обвисал поверх ремня и приводил в отчаяние бедного, акцизного чиновника, имевшего несчастье когда-то служить офицером.
Обойдя солдатские шеренги и отрывисто задав несколько вопросов, Уречин отошел в сторону и снял фуражку. Виски у него казались намыленными от седины, красная морщина глубоко прорезала лоб.
— Ну, куда мне их! Необученные, винтовок нет…
И он ушел большими ногами, забыв даже надеть фуражку.
Денисов посмотрел на поручика, пытавшегося что-то докладывать ему, и, не отвечая, подошел к Васильеву.
— Такие, значит, дела, Владимир Никитич, — проговорил он устало. — Надо же воевать. Давайте распределим их как-нибудь. Не сердитесь, если я вам больше подкину. У вас лучший батальон в полку. Помучимся, родной мой, что поделаешь, помучимся…
В тот же день командир полка поехал в штаб дивизии. Начальник дивизии — пухлый человек, еще не старый, безбровый, с детским лобиком и голубыми безмятежными глазами — принял Уречина дома, извинился за беспорядок в комнате (постель была не убрана, на ней валялся дорогой персидский халат, у окна лежали кожаные чемоданы, к кровати был придвинут низенький столик с остатками завтрака) и предложил пообедать с ним. Уречин попросил разрешения сделать доклад. Детский лобик генерала сморщился, голубые глаза укоризненно посмотрели на командира полка.
— Вот что, полковник… всем, что касается тактики и стратегии, у меня ведает Валерий Николаевич, мой начальник штаба. Пожалуйста, доложите ему. Он молодчага. А потом — милости просим отобедать.
Уречин, подавляя недовольство, отправился к начальнику штаба. Тот спокойно выслушал его, подчеркивая красным карандашом какие-то строки на лежащей перед ним бумаге.
— Вот посмотрите, полковник. — Он придвинул к Уречину бумагу. — Я подчеркнул здесь то, о чем вы говорили. Как видите — полное сходство. Вся дивизия жалуется на качество пополнений. Если вам угодно знать, на это жалуется даже весь корпус, вся армия, весь фронт. Очевидно, причины надо искать глубже.
Уречин молча разглядывал его. Он мало знал Валерия Николаевича, которого привез с собой новый дивизионный, но начальник штаба, с его припухшими, видимо от бессонницы, умными глазами, землистым утомленным лицом, понравился ему. Во время их разговора вошел офицер с бумагой. Валерий Николаевич, быстро пробежав ее, написал сверху короткую резолюцию и тут же, обратившись к Уречину, продолжил прерванный разговор:
— Мы, конечно, не бездействуем, выделяем специальные кадры унтер-офицеров и офицеров для обучения пополнений… Выделяем, хотя, признаться, их не хватает и в кадровых частях.
— Но как же быть? — глухо спросил Уречин. — Создавать при полках безоружные команды? Наделать мяса… Ведь и учебных винтовок нет. Видели вы этих солдат? Они даже рассыпного строя не знают.
Валерий Николаевич молчал.
Обед у начальника, дивизии поразил Уречина. Стол был сервирован не по-походному. Сверкающая белизной скатерть, хрусталь, серебро… Закусывали зернистой икрой, швейцарским сыром, балыком. К супу подали крошечные пирожки, таявшие во рту, шницель был золотистым от умело пожаренных сухарей.
— Лимончик, лимончик возьмите, — посоветовал генерал Уречину. — Какой же шницель без лимона? И обязательно картошечку. Как обжарена-то, а?.. Не прячусь — люблю хорошо поесть. Накормленные люди и работают лучше, согласны со мною?
Сам он ел так вкусно, такими округлыми, мягкими движениями действовал ножом и вилкой, так нежно приближал к своим сочным губам каждый кусочек пищи, что Уречин понял, в чем цель и отрада генеральской жизни. С трудом удержался он от едких слов и сейчас же после обеда уехал.
Занятия с пополнением велись с утра до вечера. Каждому из кадровых солдат дали маленькую группу для обучения. На долю Карцева пришлось шестеро: двое старых и четверо молодых. На занятиях он пользовался своей винтовкой, которая по очереди переходила из рук в руки. Боевых патронов оказалось так мало, что на каждого обучающегося отпустили по три выстрела. Но и эти патроны были зря расстреляны. В мишенях едва насчитали десять процентов выпущенных пуль. Первым стрелял у Карцева сорокалетний ополченец — коренастый, с ласковыми глазами. Он недоверчиво посмотрел на винтовку, осторожно вставил приклад в плечо, зажмурил глаза, дернул за спуск и охнул: приклад толкнул его в щеку.
— Негоден я для этого дела, — жаловался он, прося Карцева освободить его от дальнейшей стрельбы, — я вам всю войну испорчу.
Рядом с Карцевым занимался Банька, а дальше — на самой опушке дубовой рощи — Защима. Банька тоненьким голоском покрикивал на ополченцев, иногда даже увлекался, показывая, как надо, рассыпавшись в цепь, вести наступление под неприятельским огнем. Защима действовал иначе. Он увел своих людей подальше и, немного к ним присмотревшись, хладнокровно сказал:
— Слухайте, хлопцы: учиться вам чи не учиться, это мне все равно. Хочете — покажу, как надо немцев убивать, не хочете — и так время проведем.
И, не смущаясь удивленных взглядов ополченцев, он, покуривая махорку, рассказывал им про свою жизнь, про дисциплинарный батальон, про убитого своего врага зауряд-прапорщика Смирнова…
Уже наступила весна, земля под теплым солнцем исходила тонким паром. Кое-где в полях работали крестьяне: подростки, старики и женщины.
Вечером полк выступил на позиции. В рядах шли безоружные солдаты пополнения. Смотря на них, Карцев горько усмехнулся:
— Солдатская голова — что тебе трава под косою!..
Два месяца пробыл Бредов в госпитале. У него была прострелена грудь. Солдаты вынесли его из боя, и несколько часов он без сознания лежал на тряской патронной двуколке. Врачи считали его обреченным. Рана долго не заживала, ночами он метался по койке, его одолевали кошмары. То ему казалось, что он лежит на дороге, над ним темное ночное небо, усыпанное белыми лепестками звезд, и вдруг появляется неприятельская армия, лошади топчут его копытами… То он видел Грюнфлисский лес — живой, ползучий, в котором деревья двигались, ветви их извивались, как длинные толстые змеи с мохнатыми головами, хватали русских, душили и бросали на землю смятые, раздавленные тела. Не было спасения в борьбе с дьявольским лесом, и, лежа на земле, распластанный, с переломанными костями, Бредов беззвучно плакал.
Иногда он как бы просыпался, приходил в себя, но эти часы были еще тяжелее. Воспоминания о последних боях невыносимо его мучили, хотелось умереть, чтобы ничего не помнить, ничего не сознавать. Так переживают люди стихийное бедствие, во время которого на их глазах разрушается родной дом и гибнут самые близкие и любимые.
Он выздоравливал долго и трудно. Когда выписали из госпиталя в отпуск, жена увезла его домой. И он опять очутился в том же городке, откуда пошел на войну. Охваченный апатией и слабостью, Бредов целыми днями лежал на диване, безучастно глядя в одну точку. Зоя садилась возле него, долго говорила с ним, плакала, а у него едва хватало силы заметить, что возле него жена — родная, красивая женщина.
Наконец ему позволили встать. Он почувствовал беспокойство. С удивлением ощутил свое тело, движения рук и ног. Сам не сознавая этого, он так сильно ушел от жизни, от обычных будничных ее проявлений, что должен был входить в открывшуюся перед ним жизнь, как в новое, незнакомое место. Опираясь на палку, бродил он сначала по комнатам, а затем — по улицам. Проходя мимо монастыря, вспоминал, как шел здесь в тот день, когда узнал, что ему закрыт доступ в академию генерального штаба. Ему показалось, что все это было бесконечно давно, а прошло всего около года! «Это все случилось с другим, не со мной», — думал он. Когда разглядывал бледные костлявые руки, когда видел в зеркале длинное, с вдавленными щеками, покрытое белой кожей лицо, с мертвыми, выцветшими глазами, тоже думал: «Это не я, это чужой, незнакомый человек…»
Однажды на прогулке он увидел солдата, который шел ему навстречу, и припомнил, что где-то встречал его. Они поравнялись, и солдат, отдавая честь, дружелюбно посмотрел на Бредова.
— Постой, постой, — остановил его Бредов. — Ведь мы с тобой, кажется, вместе были на фронте.
— Так точно, ваше благородие! Вместе с вашей ротой пробивался, когда капитан Васильев выводил нас из Грюнфлисского леса. В то время вас и ранили.
— Да, да… — Бредов почувствовал, как снова заныла рана. — Так ты был при этом?
— Был. При мне ваше благородие и подобрали. Еще Карцев и Голицын перевязали вас и положили на патронную двуколку.
— Ты знаком с Карцевым? Хороший солдат. Смышленый. Не знаешь, что с ним?
— На фронте. Жив ли только — не знаю. Он о вас, помню, очень даже хорошо отзывался.
Бредов с удивлением посмотрел на солдата. Тот держался почтительно, но непринужденно, взгляд у него был умный и живой, и улыбка, ласковая, но чуть-чуть ироническая, говорила о том, что он отвечает офицеру как полагается, по уставу, но готов и поговорить с ним запросто, если тот, конечно, захочет.
Они находились в дальнем углу городского сада, где никого не было. Сад кончался обрывом, и на самом краю обрыва косо, точно падая, стояла старая мохнатая ель, ствол и ветви которой поросли голубым мхом.
— Я все это вспоминаю, — говорил Бредов. — Верно, верно… Васильев вывел тогда полк из окружения… И ты был с ним? Помнишь эти дни? Да разве забудешь их… Нет. Это — на всю жизнь!..
— Так точно, — вполголоса произнес солдат.
Они долго разговаривали возле обрыва. Стесняясь и хмурясь от неловкости, Бредов предложил солдату заходить к нему на квартиру.
— Кстати, — улыбаясь сказал он, — столько с тобой говорили, а фамилии твоей не знаю.
— Мазурин. Спасибо за приглашение.
С тех пор Бредов ожил. Апатия прошла. Впервые он стал думать, что нельзя ограничиться жалобами и брюзжанием на то, что Россия плохо подготовилась к войне. Надо действовать (как — он еще не представлял себе), надо помочь стране справиться с врагом. По утрам он читал газеты, но победные статьи «Русского слова» только раздражали его, а сухие сводки штаба верховного главнокомандующего были насквозь лживы. Он отыскал старые номера газеты в непреодолимом желании увидеть, как описана там катастрофа второй армии в Мазурских озерах. Глухо и невнятно в нескольких строках петита сообщалось о временном отходе наших войск перед превосходными силами противника по заранее выработанному плану. Он скомкал газету. Неужели Россия никогда не узнает, как страшно ее обманывают? Где же выход?
Только галицийская битва немного утешила его. С гордостью думал он, что русские боевые знамена веют на вражеской земле, что освобождена от немецкого ига старинная русская область — Червоная Русь, что взят Львов.
Его пригласили вместе с женой в гости к присяжному поверенному Званцеву, известному деятелю Земского союза. И он пошел туда с радостью, желая узнать, как относится русское передовое общество к войне. В богатой квартире Званцева собралось около сорока человек. Хозяин недавно вернулся из Галиции, куда ездил по поручению Земского союза, был во Львове, и гости ждали, что он расскажет много интересного.
В большой гостиной образовалось несколько кружков. Здесь были, так сказать, сливки местного общества — адвокаты, инженеры, крупные чиновники, командир запасного батальона полковник Десятов, городской архитектор, директор гимназии и многие другие. Бредов держался в стороне, прислушиваясь к разговорам, и понемногу придвигался к тому кружку, в центре которого стоял Званцев — красивый мужчина средних лет, с усиками. Говорил он сжато и, видимо, приберегая главнейшее к ужину. Но вот в дверях показался лакей, и Званцев, извинившись, быстро вышел из гостиной. Вскоре он вернулся в сопровождении худощавого, с желтым, нездоровым лицом человека в визитке. Званцев сиял, ведя своего гостя под руку так бережно, как будто тот упал бы и разбился на кусочки, если бы его отпустили. Все, повернувшись к дверям, почтительно склонили головы, и новый гость, как высочайшая особа, проследовал в конец гостиной, где у круглого майоликового столика ему приготовили место. Бредов смотрел на все это с удивлением, и когда к нему подошла жена, он отметил на ее лице то же выражение почтительности, какое было у всех гостей.
— Кто это?
— Как, ты не знаешь?! Бардыгин, миллионер, фабрикант! Он весь фронт снабжает обмундированием.
В столовой, отделанной дубом, Бардыгин сидел во главе стола рядом с хозяйкой дома. Возле Бредова посадили молодого узкоплечего человека, румяного, с синими глазами. Он стал спрашивать Бредова, давно ли тот вернулся с фронта, и сообщил, что сам только три дня как прибыл из Галиции, куда ездил вместе с Званцевым.
Званцев поднялся из-за стола.
— Милостивые государыни и милостивые государи! — начал он. — Разрешите прежде всего поблагодарить всех вас за высокую честь, оказанную моему дому. В тяжкую годину испытаний единение верных сынов родины перед лицом грозного и коварного врага — это самое прекрасное, самое возвышенное явление. Русское общество, русский народ едины в часы опасности. Забыты раздоры, затихла борьба партий, нет у нас сейчас ни правых, ни октябристов, ни кадетов, ни рабочих, ни фабрикантов (почти неуловимый поклон в сторону Бардыгина), есть только русские люди, русские патриоты. И если солдат проливает кровь на фронте, то здесь, в тылу, мы напрягаем все наши силы для того, чтобы снабдить его всем необходимым, чтобы дать ему возможность почувствовать нашу любовь к нему, наше преклонение перед его великим подвигом. Я имел счастье, господа, побывать на фронте и быть некоторым образом свидетелем геройства нашей славной армии.
Он говорил еще о епископе Евлогии, который принес на обагренные кровью поля Галиции пастырское благословение православной церкви, и каждый раз в наиболее удачных местах его речи слушатели аплодировали ему. Бредов слушал со смешанным чувством досады и удивления. Кто-то задел его локтем, и, обернувшись, он заметил, что сосед беспокойно ерзает на стуле.
— Зачем Званцев рассказывает это? — прошептал он. — Ей-богу же ничего похожего, ничего… Там этот граф Бобринский таких дел наделал… Насильственную русификацию проводит, полицию из России навезли, жандармов. Управление, доложу вам, такое… Он замолчал, с испугом смотря на Бредова. «Черт тебя знает, — прочел Бредов в его взгляде, — кто ты такой…»
Бардыгин, приподнявшись, жал Званцеву руку, и все восхищенно аплодировали речи адвоката. Зазвенели ножи и вилки. Бардыгин провозгласил тост за победу, все встали, крикнули «ура» и выпили. Закусывали долго, ели икру, тыкали вилками в жирную розоватую семгу, вылавливали серебристые сардины из коробок, ели нежную вестфальскую ветчину, сыры, омаров. Директор гимназии, осовев после первых рюмок водки, рассказывал о героизме своих гимназистов, из которых трое ушли добровольцами на фронт. Ему очень хотелось, чтобы его слова услышал Бардыгин, но фабрикант, осажденный Званцевым и полковником Десятовым, непрестанно чокался с ними. К нему со всех сторон тянулись рюмки и бокалы, и он с королевским величием подымал свой бокал и, не притрагиваясь к нему, ставил его обратно. Подали жаркое, и лакеи стали разливать шампанское.
Бредов пил мало и в глухом раздражении слушал разговоры. Ни одной свежей и честной мысли не мог отыскать он в этих речах, они казались ему пошлыми и избитыми, повторяющими патриотические статейки газетных борзописцев. Его сосед пытался подробнее рассказать о безобразиях, виденных им на фронте и в Галиции, но потом так напился, что только икал и плакал.
Городской архитектор приподнялся, качнувшись, со стула и, широко разводя руками, взывал:
— Господа! Понимаете ли вы… все значение настоящего момента? Мы с вами… да, мы!… русское общество, культура российская, совесть страны и прочее, прочее… Подлейте мне вот этого… мадеры… Мы — интеллигенция. И мы сейчас ведем Россию к победе, к новой жизни, которая…
Но полковник Десятов оборвал его: что значит к новой жизни? И архитектор начал испуганно спрашивать всех, не сказал ли он чего-нибудь недозволенного.
— Я лоялен, господа, — убеждал он, прижимая руки к животу. — Я совершенно лоялен!.. Господа!.. Давайте споем гимн. Умоляю вас — гимн!..
Бредов отыскал жену, оживленно беседовавшую с дамами, и они первыми уехали домой.
— Какая пошлятина! — с отвращением сказал он, усаживаясь в пролетку.
Мазурин был в трудном положении: из госпиталя его выписали, отпуск кончался, он должен явиться в запасный батальон, а ему не хотелось этого пока делать. Он не боялся вернуться на фронт, там — товарищи, его даже тянуло к ним, да и пользы на фронте он мог принести больше, чем в тылу, но вряд ли ему представится более удобный случай, чем теперь, побывать в Петрограде, повидать нужных людей, узнать о настроении рабочих. И он решил, что стоит рискнуть и без разрешения начальства поехать в Петроград.
В день его отъезда вернулась из Рязани Тоня, получавшая там материалы для пошивки белья. Она сильно изменилась. Прежняя щеголеватая горничная стала скромной работницей, в простеньком платье. С тех пор как ушла от Максимова, она так и осталась жить с Катей и по заказам подрядчиков шила белье для армии.
— Редко Карцев пишет, — пожаловалась она. — Забыл нас…
Мазурин рассказал, как проходила их жизнь на войне.
— Понимаю, — соглашалась Тоня. — А все-таки мог бы чаще писать!
Уехал Мазурин в десять часов вечера. Он забрался на третью полку, подальше от чужих глаз. Вагон был переполнен. Когда миновали Москву, вошло несколько мужиков и баб с детьми. Они завалили узлами и мешками весь проход, лица у них были покорные, взгляд пустой, мертвый.
— Беженцы? — спросил кто-то с нижней полки.
— Беженцы, беженцы, — закивала в ответ худая, с глубоко ввалившимися щеками старуха.
Война прошла по их деревням, все разрушила. Пострадавших выселили по приказу военного командования. Обещали помочь, дать наделы, снабжать пайками, но потом бросили на произвол судьбы. Они потеряли все имущество и теперь едут на север.
Рядом с Мазуриным, по другую сторону низенькой перегородки, лежал человек в солдатской шинели без погон и в фуражке без кокарды. Чуть приподнявшись, он зорко, с нескрываемой подозрительностью, уставился на Мазурина, попросил закурить и спросил:
— Кончил воевать, что ли?
— В отпуску, после ранения.
— Так… Все в отпуску… — неопределенно пробормотал солдат. — Вот только Ковригин себя на действительной службе считает.
— Какой Ковригин?
— Узнаешь. Сейчас я его тебе представлю. Вышел куда-то…
Человек в шинели вздрогнул, весь сжался, соскочил вниз и пропал. Наметанный его слух уловил то, чего не слышал Мазурин: у двери контролер спрашивал билеты, ругал беженцев и грозил высадить их на первой же остановке. Голос контролера приближался, охрипший, простуженный голос человека, который плохо высыпается и вечно страдает от сквозняков.
— Вылезай, — сердито кричал он. — Тащи его за ногу.
Послышался плаксивый голос мазуринского соседа, и сразу несколько человек закричали на контролера.
— Что же он прятался? — оправдывался контролер. — Я же не знал, что с фронта, на лбу у него не написано. А с нас спрашивают. Служба…
Крики усилились, и контролер поспешно удалился. Сосед Мазурина деловито карабкался на прежнее место.
— Спас меня мир, — сказал он. — Не любит народ шкур всяких — фельдфебелей, контролеров…
Он улегся, задрав ноги на железную скобу, привинченную к полке, и, докуривая папироску, философствовал:
— Ловят, ловят, — а всех не поймают. Мы — как ветер… Таких, как я, — мильон!
— Все грешишь, Сомов, — послышался низкий, сдобный басок. — Сказано тебе было, что не нашего здесь разума дело… Корову покупать, землю пахать, это мы — пожалуйста. А война — государственная история. Ну, а что ты в истории смыслишь?
Голова говорившего была похожа на тыкву — широкая и расплющенная сверху, она только и была видна, тело пряталось где-то под полкой. Пухлое, как всходящее тесто, лицо украшалось необычайными усами, толстые жгуты которых подымались почти до скул, глаза были маленькие, заплывшие.
— Вот он, Ковригин, — обрадовался солдат. — Вот он, анпираторский защитник. Теперь его не остановишь, — только слушай.
— И слушай, — наставительно подтвердил Ковригин. — Я хотя и простого сословия, но умишко кой-какой есть. Я, скажем, повар, а в деревне у меня жена, мать и сын о пятнадцати годочках. Живут они в русском государстве, а на открытую государственную границу нападает иноземный враг. Пошли бы мы сами по себе, ты с вилами, я с ножом, так всех бы нас побил да разорил иноземный враг. Ан тут нам на помощь государство приходит. Оно войско собирает, вооружает его, начальников ему дает, великих князей на фронт посылает, — защищайся, мол, ты, русский народ, от врага, спасай свою землю-матушку родную. Так неужели ж я свое государство предать могу?
Его глазки сладко, как лампадки, мерцали на пухлом лице, короткая рука плавно подымалась, точно он дирижировал.
— И гладко как все у него, черта, выходит, точно острой косой скошено, — восхищенно проговорил Сомов, к которому обращался «анпираторский защитник». — Жалко, что дураку господь такой дар послал… Ну, скажи, златоуст, что мне твой иноземный враг сделал? Звал я его? Не звал. Вредил я ему? Не вредил. Тут государства воюют, а не мы. Так пусть их себе и воюют. Народ — это, брат, не государство, это — совсем наоборот. Вот что оно получается. Какой же мне, выходит, расчет воевать?
— Дурень ты! — поварской басок дрогнул от волнения. — Заблуждаешься яко овца, горько заблуждаешься! Муки примешь из-за такого понимания!
— Да я уже намучился, — равнодушно ответил Сомов. — Папироску не дашь?
Пухлое лицо исчезло, как «петрушка», которого дернули за веревочку.
— Скупой, черт, — усмехнулся Сомов. — Я уж его знаю. Как он мне надоест, я скорее папироску просить… Покорнейше благодарю. — Он взял предложенную Мазуриным папиросу и заговорил, точно размышляя: — А ведь он убежденный, Ковригин-то. В Петроград, в свою часть едет. Да!
И, повернувшись на бок, уснул в одно мгновение.
Поезд прибыл в Петроград в шесть часов утра. Было еще темно, фонари горели возле вокзала и на улицах. Поеживаясь от холода, Мазурин вышел на пустынную Знаменскую площадь. Недалеко от каменных ступенек вокзала застыла фигура конного городового. Всадник был в черной шинели. Длинная сабля висела у него на боку, плоская барашковая шапка покрывала массивную голову. Правая рука упиралась в бок, левая держала слабо натянутый повод. Крупный караковый конь стоял в дремоте, склонив голову. Ноги у коня были толстые и мохнатые, круп добротен, необычно широк. Недалеко от городового, возвышаясь над ним, в железном тумане раннего петербургского утра торчал другой всадник, до жути похожий на первого. Казалось, он был оригиналом, с которого отлили копию, находившуюся возле вокзала. Тяжело стоял его бронзовый конь, в тупой кичливости всадник упер руку в бок, плоская шапка не прятала ни оплывшего бородатого лица, ни бычьей шеи императора. Вместе с городовым он охранял налаженный порядок столицы, грозил ее предместьям, давил своей тяжестью площадь и город. Страшная незыблемость была в нем. Прочно врос он в почву города и всей империи — казалось, не сдвинешь его в века, не поколеблешь. Мазурин в своей подбитой ветром шинелишке, стуча о камни сапогами, медленно прошел мимо обоих всадников, улыбнулся их сходству и сел в трамвай, который отвез его на Выборгскую сторону.
Холодный ветер дул с моря, центр города еще не просыпался, а на окраинах выли гудки, и темные, согнувшиеся люди бежали по улицам, наполняли трамваи. Мазурин попал в переулок, плохо освещенный двумя газовыми фонарями, с разбитой мостовой, с низкими бесформенными домами, точно выброшенными сюда как на свалку. Вот и нужный ему дом. Он прошел во двор, заваленный отбросами, постучался в дверь. Открыла молодая женщина.
— Дома Иван Петрович? — спросил Мазурин.
— Да вы входите, — ласково пригласила женщина. — Ваня у соседа, — объяснила она, когда гость вошел в комнату. — Сейчас вернется, а я вас пока чайком напою. Шинель свою вот сюда повесьте и садитесь к столу.
Женщина была чуть полноватая, с вьющимися каштановыми волосами, чистенькая, в коричневом платье. И комната выглядела чистой, опрятной: круглый стол был застлан суровой скатертью с голубой вышивкой, кровать покрыта кружевной накидкой, вымытый пол блестел, как надраенная палуба военного корабля.
— Хороший вы работник, — сказал Мазурин, — подвезло Ивану Петровичу.
Она засмеялась:
— А он вечно недоволен.
— Неправда! — перебил ее мужской голос. — Поклеп возводишь.
Мазурин обернулся. В дверях стоял человек лет сорока и внимательно глядел на него.
— Мазурин? — нерешительно спросил Иван Петрович, подходя с протянутой рукой. — Неужели ты? Ну и здорово изменился! На фронте был, сразу видать. Говори-рассказывай, каким ветром тебя к нам в Петроград занесло?
— Приехал, чтоб все ваши тыловые новости на фронт повезти. Боялся, что тебя не застану. Думал, на работе уже.
— Не работаем мы нынче, бастуем.
И, оглянувшись на дверь, тихо проговорил:
— Суд над нашей думской фракцией сегодня начинается. Хотим к зданию окружного суда идти.
Они забрасывали друг друга вопросами, едва успевая отвечать на них. Жареная картошка стыла на столе, хозяйка сердилась, что они не едят, а они, потыкав в картошку вилками, опять забывали про нее и все говорили и говорили.
— За последние дни выпустили несколько прокламаций, — рассказывал Иван Петрович. — Вчера последняя вышла. Сашенька, покажи! — обратился он к жене.
Она скрылась на секунду и принесла листовку — узкую сероватую бумажку.
— Вот слушай, прочту, — сказал Иван Петрович. — Да погоди, не рви из рук.
Мазурин, заглядывая в листовку, слушал и сам читал:
— «В лице депутатов будут судить вас, пославших их и неоднократно заявлявших о своей полной солидарности с деятельностью фракции… Под гром орудий и лязг сабель думает оно (правительство) заживо похоронить еще одну думскую фракцию рабочего класса. Товарищи рабочие! Докажем, что враги наши ошиблись в расчетах, докажем, что в грозный час, когда призрак смерти висит над головами депутатов, мы с ними. Пусть перед судом предстанут не пять депутатов, а весь рабочий класс, громко заявляющий о своей солидарности с подсудимыми и готовности бороться за своих представителей и за идеалы, начертанные на нашем красном знамени. Товарищи рабочие! Бастуйте в день десятого февраля, устраивайте митинги, демонстрации, протестуйте против наглого издевательства царского правительства над рабочим классом».
— Главное, — сказал Мазурин, — что горит наш огонечек, не тухнет.
— Слабенько горит, — проворчал Иван Петрович. — Ты к подъему как раз приехал, а раньше совсем тихо было. Чуть, знаешь, кто зашумит, сейчас же его к расчету и прямым путем в маршевую роту.
Он, улыбнувшись, оглядел Мазурина.
— В шинели не ходи. За военных полиция прежде всего цепляется. Как у тебя с паспортом?
— Нибудь как, — рассмеялся Мазурин. — Так мальчонок один говорил.
— Понятно… Ну что ж, ночевать можешь здесь. У меня пока обысков не было. А сейчас — пойдем, что ли?
Он снял с гвоздя бобриковую куртку и шапку-ушанку и отдал Мазурину:
— Надевай.
Сам натянул осеннее пальто, замотал шею шарфом и обнял Сашеньку.
Они вышли. Серые тучи низко висели над городом. Падала осклизшая изморось — казалось, что воздух разваливается клочьями, оседает на камни мостовой и тротуаров. Гудки замолкли, меньше рабочих встречалось на улицах — заводы поглотили утреннюю смену, а ночная успела разойтись по домам. Иван Петрович зябко поводил плечами.
— Мало народа будет, — хмуро произнес он. — Девятого января — самый наш боевой день в Петрограде — и то никаких демонстраций не удалось провести. Две с половиной тысячи людей не работали — и все. А в прошлом году больше ста тысяч бастовали в этот день. Вот как нас война поломала!..
Трамваем они проехали в центр города. Империя дала уже первые трещины. Замерла морская торговля, порт был пустынен и тих, но с юга, севера и востока еще подходили ежедневно поезда с зерном, крупой, мясом, мороженой дичью, сибирским и вологодским маслом. Привозили с Волги мерную стерлядь и в бочонках — зернистую и паюсную икру. Рестораны были переполнены, жизнь столицы текла бурной, широкой рекой.
Улицы жили обычной жизнью: проезжали автомобили, извозчики, подводы, груженные товарами. Непрерывным потоком шли пешеходы. Возле окружного суда стояла цепь пеших городовых, а конные разъезжали вокруг, никого не подпуская близко к зданию. Впрочем, большинство так называемой чистой публики проходило, оглядываясь лишь из простого любопытства, — судьба думской фракции большевиков волновала только рабочих столицы. Либеральная печать замалчивала процесс, а кадетская фракция запретила своим членам — адвокатам выступать по делу рабочих депутатов.
Из-за угла появилась маленькая группа студентов. Впереди шел худой юноша, все время поправляя рукой пенсне. К группе поскакал конный городовой и, наезжая на студентов, закричал, помахивая нагайкой:
— Мимо, мимо прошу! Останавливаться нельзя.
— А кто останавливается? — сердито спросил худой юноша. — Видите, люди прямо идут.
— То люди, а вы студенты, — голос городового звучал с укоризненной вразумительностью. — Не задерживайтесь, господа, не задерживайтесь!
Пока гнали студентов, с другой стороны улицы вышла толпа рабочих. Один из них проворно выхватил из-за пазухи красный флаг на коротком древке и замахал им.
— Долой вешателей! Свободу рабочим депутатам! — кричал он густым, бархатистым, как у певца, голосом.
К нему бросились полицейские и какие-то люди, незаметно скопившиеся на углах. Они оттискивали городовых от человека с красным флагом. Произошла короткая схватка, в центре неожиданно оказался студент в пенсне, только что прогнанный от здания суда. Иван Петрович и Мазурин побежали к толпе. Рабочие пытались освободить своего товарища, задержанного полицейскими. Иван Петрович рывком прорвался в середину и отбросил двух городовых.
— Ходу! Ходу! — торопил он, таща за собой рабочего.
Демонстранты разбежались кто куда. Студент оказался в плену. Несколько городовых били его. Мазурин вслед за Иваном Петровичем бросился в переулок. Втроем они забежали в ворота.
— За мной, за мной! — прерывисто шептал их третий товарищ. — Я знаю куда.
Двор оказался проходным, и они вышли в другой переулок. Мазурин разглядывал нового спутника. По его лицу текла кровь, в рыжеватых впалых глазах светились злость, исступление. Одет он был в телогрейку и стоптанные сапоги.
— Так бы и вцепился им зубами в горло! — бормотал он, тяжело дыша. — Много они, сволочи, меня били, поквитаться хоть разок.
— Откуда ты? — спросил Иван Петрович.
— С Лесснера… Не вышло, эх, не вышло сегодня. Ведь нас двести пошло, да дорогой все разгоняли да разгоняли.
— Зайдем во двор, — предложил Мазурин, — кровь на лице смыть надо.
— Ладно, — махнул тот рукою, — вы идите себе, товарищи, я сам справлюсь. Спасибо.
Он скрылся в воротах невзрачного дома, а Мазурин и Иван Петрович пошли дальше, сели в трамвай. Повизгивая, вагон катился к окраине. На Выборгской стороне было неспокойно. На улице стояли наряды полиции. Возле заводов дежурили конные отряды. Околоточные подозрительно осматривали каждого рабочего.
Они пытались пройти на завод Лесснера, но городовой грубо оттолкнул их от ворот:
— Ну-ка, проваливайте отсюда!
На заборе повисла изорванная прокламация. На уцелевших клочьях можно было прочесть:
«…правительство палач, замучившее на кат… сосущее кровь народную, бросило… гнусную расправу над избранниками рабочих… разгромило… во время войны с еще большей свирепостью душит рабочий класс…»
Подбежал городовой с ведром черной краски и стал замазывать клочья прокламации, испуганно и сердито косясь на столпившихся здесь рабочих. Цокот копыт донесся из-за угла. Отряд донцов в лихо заломленных фуражках проехал мимо.
— Боятся нас больше, чем немцев, — громко сказал Иван Петрович. — Лучшие войска против рабочего класса оставляют.
Пошел крупный весенний дождь.
Васильева вызвали в штаб полка. Его встретил Денисов, как всегда аккуратный, чисто выбритый. Только глаза его припухли, и под ними легли синие тени. Он крепко пожал Васильеву руку и молча положил перед ним карту Юго-Западного фронта. Красным карандашом обвел крошечную точку на карте:
— Здесь вот, у Горлицы, немцы прорвали наш фронт. Вся дивизия перебрасывается туда.
Оба наклонились над картой. Васильев яснее Денисова понимал положение русской армии. Карпатская операция поглотила лучшие силы армии, растрепала и без того скудные запасы боевого снаряжения, была порочной по замыслу. Углубляться в горы для того, чтобы подставить свой правый фланг и тыл противнику, нависавшему с севера от Кракова?! «Как могло пойти командование фронта на такой риск, как могла ставка разрешить такую операцию?» Уже немало дней Васильев мучительно думал над этим вопросом и успокаивался на одном: вероятно, он многого недоучел. Но не может быть, чтобы там, наверху, не видели того, что было ясно ему.
Вошел Уречин. Офицеры встали. Командир поздоровался с ними и сел перед картой.
— В штабе настроены пессимистически, — сказал он, вытягивая под столом длинные ноги. — Говорят, немцы три месяца готовились. Вся армия знала, что к ним подвозятся войска, артиллерия, снаряды, что производится перегруппировка. И пальцем не пошевелили! Перли в эти проклятые Карпаты, гнали туда босых, раздетых солдат, без горной артиллерии, без подготовки к зимней горной войне. Вы только поглядите на карту!
Он поднял покрасневшее лицо и от всей души, смачно выругался.
— Ну хорошо: мы прорвемся в Венгерскую равнину. Допустим, уже прорвались, — свистящим голосом продолжал он. — Что же получается? Армия, вышедшая туда, изолируется от остальных наших сил, все ее коммуникации должны проходить через Карпаты, а прорвать эти коммуникации противнику, держащему под угрозой наш правый фланг, пара пустяков! Значит, при малейшем успехе немцев на фронте Тухов — Горлица — Зборы мы должны оттягиваться назад из Карпат, чтобы избежать окружения. Стратегия генералов Иванова и Алексеева приносит свои плоды!
Он замолчал, побарабанил пальцами по столу и обратился к Денисову:
— Андрей Иванович, сделайте на завтра необходимые распоряжения.
— Слушаю, Василий Германович, я думаю безоружных солдат отправить третьим эшелоном. У нас их больше, чем вооруженных.
— Не возражаю.
В дверь постучали. Вошел молодой прапорщик в запачканной машинным маслом кожаной куртке и, отдав честь, конфузливо спрятал грязные руки.
— Не стыдитесь такой грязи, прапорщик, — весело сказал Уречин. — Святая грязь!.. Ну, как у вас там с патронами?
— Сто восемьдесят тысяч удалось вырвать, господин полковник!
Уречин вскочил, повеселел.
— Молодец! Где же вы их достали?
— В соседней части. Повезло, господин полковник.
И добавил, поглядывая на довольное лицо командира:
— Приходится добывать всякими средствами. Ведь на прошлой неделе было по двадцать пять патронов на винтовку.
— Так, так! Хоть воруйте, но чтобы патроны были.
Кивнув офицерам, Уречин вышел из комнаты.
…До ближайшей железнодорожной станции было верст шесть. По грязной весенней дороге шли колонны полка. Неся винтовки на ремнях, сутулясь, привычным размашистым шагом двигались старые солдаты. Между ними, шаркая и стуча толстыми, покоробившимися бутсами, с походными мешками за плечами, с пустыми патронными сумками на поясах, нестройно шли ратники ополчения. Голицын, уже освоившийся с фронтом и крепко подружившийся с Карцевым, свободно и легко ставил толстые ноги, коренастое его тело раскачивалось.
— О двадцати годах я был, — рассказывал он, — и сманили меня тогда странники на богомолье в Киев. Старались мы поспеть к троице и ходко же шли. Старики эти — богомольцы, а чтобы праздник не прозевать, шагали, как молодые. Вот я и думаю, что хорошо бы этих богомольцев к походам приспособить. Маршировка для них — привычное дело, народ они бесполезный, дать бы им попов и монахов за начальников — пускай воюют!
Ефрейтор Банька с любопытством посмотрел на Голицына.
— Вот гляжу я на тебя, — медленно сказал он, — складно ты говоришь. От богомолья это, значит, и привилось. Натаскался ты с божьими людьми.
— Молиться хорошо в праздники, — вмешался Черницкий. — Когда хорошо покушаешь и выпьешь стаканчик-другой водки, тогда молитва сама просится из человека. Как ты думаешь, Рогожин? Ты же мастер по молитвам.
Солдаты засмеялись. Рогожин часто молился по вечерам, над маленьким образком, который он носил на груди, и по праздникам пел в хоре отца Василия. Бог был его последним прибежищем, и с крестьянским упорством Рогожин вымаливал легкую рану, которая спасла бы его от гибели на фронте.
Вдали показалась водокачка и рядом с ней желтое каменное здание. У станции полк встретил капитан Блинников и доложил командиру, что состава нет и начальник станции ничего не знает о предстоящей перевозке. Три часа ушло на переговоры по телефону со штабом дивизии. Выяснилось, что кто-то напутал. Состав подали на другую станцию, в пятнадцати верстах отсюда. Пока звонили туда и перегоняли состав, прошло еще часа два, и только к вечеру старенький, низкий паровоз притащил вагоны. Солдаты полезли в теплушки, и сейчас же оттуда послышались ругательства. Вагоны были завалены навозом, в них перевозили скот и, не очистив, подали под эшелон. Рогожин, измаравшийся в навозе, выскочил из вагона и крикнул:
— Глядите, братцы, в чем везут… Все равно, мол, издыхать всем, так дохните в дерьме!
Дежурный по посадке поручик Журавлев подскочил к нему.
— Ты чего это болтаешь? — заорал он. — Сейчас же марш в вагон!
— Не полезу, ваше благородие, — решительно ответил Рогожин. — Поглядели бы сами, что там делается. Или мы, боже ж ты мой, не люди?
— Я тебе покажу «люди», — ощерясь, просипел поручик. — Пороть буду. Марш по вагонам!
Несколько человек двинулись к теплушкам, но большинство не тронулись с места. Солдаты стояли с напряженными лицами, их гневные глаза не отрывались от офицера, и тот вдруг обмяк и почти бегом скрылся.
Уречин угрюмо выслушал Журавлева и приказал немедленно вычистить вагоны. Раздобыли метлы и лопаты, и через полчаса весь состав был очищен. Из-за палисадника послышались веселые крики: солдаты бежали к вагонам, таща охапки сена.
— Где, где взяли?
— Там, в сарае!
К сараю бросился весь полк. Васильев стоял, похлопывая стеком по своим грязным сапогам. К нему подлетел интендантский чиновник с красным от ярости лицом и закричал что-то, брызгая слюной.
— Дадим, дадим квитанцию, — успокоил его Васильев. — Видите, что сено нам нужно.
— Я буду жаловаться! — вопил чиновник. — Самоуправство, грабеж!.. Вы ответите, подполковник!
Васильев резко шагнул к нему и с повеселевшим лицом смотрел, как бежал от него интендант.
Было уже темно, когда эшелон тронулся. Карцев, Рогожин, Черницкий, Голицын и Защима удобно устроились в уголке вагона на сене. Поезд неторопливо двигался вперед. Старые вагоны тряслись и дребезжали. Запах махорки густо заполнял теплушку. От пола крепко несло навозом. Но вот буфера жалобно лязгнули, поезд сильно толкнулся и остановился. Карцев слегка отодвинул дверь: черная ночь, ни одного огонька…
Петров осторожно сошел по ступенькам офицерского вагона и ощупью направился вдоль поезда. Впереди отсвечивало пламя из поддувала паровоза. Дверь одной теплушки была немного отодвинута, оттуда доносились голоса. Он остановился.
— Учил он их, учил, — кто-то оживленно рассказывал, — никакой, значит, пощады никому. Чуть что — по морде, под винтовку, отпуска в город лишает. Потом ввел розги. Секли одного городского. У него изо рта пена — не может такого унижения вынести. Ну вот… Подошло нам время на позиции ехать. Тут все господа офицеры отказались с нами отправляться, перевелись в другие маршевые роты, а он: «Поеду!» Слышал я, как фельдфебель его отговаривал: «Не езжайте, ваше благородие, солдаты за битье на вас злопамятны». А он со смехом отвечает: «Это мне да хамов бояться? Они мне, говорит, за науку должны быть благодарны».
Рассказчик замолчал, кто-то с нетерпением спросил:
— Ну и что же?
— То же, — выразительно, после короткой паузы, ответил рассказчик. — Поймали его, субчика, в некотором месте, ну и, значит, поблагодарили за науку, за все мучительство…
В этих словах звучало столько удовлетворения, столько глубокого сознания справедливости убийства офицера, что Петрову стало страшно. Он отошел от теплушки и, боясь остаться один в этой беспросветной ночи, вернулся к своему вагону.
Паровоз низко и протяжно загудел.
Чем ближе подъезжал полк к месту нового назначения, тем труднее становился путь. На станциях, забитых эшелонами, простаивали по нескольку дней. Всюду валялись груды военного снаряжения. В нем была страшная нужда на фронте, но оно не могло быть туда доставлено из-за хаоса, царившего на железных дорогах. В Ковеле задержались больше чем на сутки. Карцев и Голицын пробрались к вокзалу. Подходя, услышали стоны, крики, ругательства. На перроне и вокруг него, на голой земле или на гнилой, мокрой соломе лежали под открытым небом тысячи раненых солдат. Шел дождь, липкая грязь покрывала землю. На пустыре, окруженном низеньким заборчиком (тут, видно, было складочное место, сохранились еще остатки навеса, крытого толем), Голицына окликнул раненый. Голицын и Карцев подошли к нему.
— Сеня? Неужель ты? — неуверенно спросил Голицын.
Карцев всматривался в серое, с заострившимся носом лицо.
Раненый слабо кивнул головой.
— Пятый день лежим. Ни перевязки, ни заботы. Убили бы лучше…
Слезы покатились по спутанной бороде, и хриплый плач вырвался из горла.
— Что же я сделаю? — беспомощно пробормотал Голицын. — Фершала бы надо…
Место это походило на кладбище, покрытое живыми трупами. Глаза у одних смотрели в муке и отчаянии, у других — в злобе, у третьих — с покорной обреченностью. Карцев увидел Петрова, идущего по площади, и побежал к нему. Приложив к фуражке руку (вокруг, был народ), он сказал, задыхаясь:
— Вот, смотри! Вот они — русские солдаты!..
Петров побледнел.
Он пошел отыскивать начальство. Никто ничего не знал. Тогда в ярости Петров ухватил за плечо фельдшера с унтер-офицерскими нашивками и закричал:
— Скажешь ты, черт тебя возьми, где здесь главный врач?
— Да вы не кричите, ваше благородие, — угрюмо ответил фельдшер. — И без вашего крика тошно. Ни при чем здесь главный врач. Нет у него ни коек, ни вагонов, ни помещений. Вы начальника санитарной части спросите, вон он с дамочкой стоит.
Начальник санитарной части строго посмотрел на Петрова.
— А позвольте спросить, прапорщик, — щеки у него надулись и глаза свирепо выкатились, — а какое вам, собственно, дело до эвакуации раненых? Какое дело?
Сердце у Петрова покатилось куда-то вниз и вдруг душным комком прыгнуло к горлу. Слепое бешенство залило его, он подступил к чиновнику, рвущим движением отстегивая кобуру.
— А такое дело… А такое дело, что я вас сейчас…
Он видел, как глаза чиновника выпучились, как в безмолвном крике открылся его красный, мясистый рот. Дама, путаясь в шубе, бежала прочь.
— Ради бога, голубчик, — лепетал начальник санитарной части, — ради бога, не волнуйтесь. Мы тут бессильны… Нет у нас медицинских сил, нет санитарных поездов… Ожидали две тысячи вагонов, а нам прислали… восемнадцать!.. Хотели организовать поезда-теплушки, но нам категорически запретили, можно только в санитарных.., Извольте выйти из такого заколдованного круга, го… го… лубчик…
Петров отошел. Ему было стыдно, противно и больно.
…На следующий день полк кружным путем отправили дальше. Но уже через три пролета движение вновь стало невозможным. Не только станции, но и все вокруг на несколько верст было забито грузами, эшелонами войск, платформами и походными кухнями, составами с ранеными. По обочинам путей двигалась масса солдат, в большинстве безоружных. По проселочным дорогам тянулись военные обозы и бесчисленные телеги с гражданским населением. К телегам были привязаны коровы; сидя на узлах с тряпьем, плакали дети. Это были галичане, которых по чьему-то приказу заставили сняться с родных мест, и они еще больше увеличивали затор в ближайшем тылу фронта и мешали движению войск и обозов.
Полк высадили, и он двинулся походным порядком.
Глядя на разрозненные отряды солдат, на их изнуренные лица, на тот хаос, что царствовал в тылу отступающих армий, Карцев вспоминал, как в прошлом году в Восточной Пруссии такой же бесформенной массой текли назад разбитые корпуса Самсонова.
Встретилась крестьянская телега с двумя ранеными солдатами, запряженная рослой гнедой лошадью. Один — с перевязанной ногой — правил лошадью, другой лежал, забинтованная голова его моталась на сене, и он от боли вскрикивал.
— Сами себе лазарет! — весело сказал солдат с перевязанной ногой. — Экуирую себя да товарища. Лошадь достали и помаленечку пробираемся.
На них смотрели с завистью и одобрением.
— Смотрите, только бы не поймали вас, — сказал Рогожин.
— Нас-то? — с великолепным пренебрежением проговорил солдат. — Сейчас сами господа офицеры едва ноги уносят. Где им на других смотреть-то!
— Возьми в свой лазарет, — попросился Черницкий. — Что мне тут делать?
— Места хватит, — проговорил раненый. — Забинтуйся да ложись. А документов нам не надо. Мы и так поверим солдатскому слову. Воюйте себе на здоровье, землячки!
Он тронул вожжи. Выражение счастья и упорства проступало на его лице.
Проходили большое село. У массивных амбаров стояли часовые. Двери были распахнуты, и с улицы были видны ящики, сложенные до самого потолка. Кавалерийский полковник, циркулем расставив тонкие стрекозиные ноги, кричал на военного чиновника, стоявшего перед ним с унылым и равнодушным видом:
— Я вас спрашиваю, какое вы имеете право так действовать? Вас надо расстрелять! Ни одного патрона нет в частях, а он прячет целые склады! Для кого ты их прячешь? Для кого?
— Зачем же меня расстреливать? — с унылым равнодушием отвечал чиновник. — Патроны — казенное имущество. Я их по росписи принимал, по росписи и выдаю. А вы — чужая часть. Не нашего корпуса. У вас свое снабжение. Как же я могу чужой части выдавать казенное имущество? Меня за это под суд отдадут.
— Вот из-за таких сукиных сынов мы войну проигрываем! — ревел полковник. — Сейчас же выдавай патроны! Слышишь? Ведь все равно немцам достанутся.
— Нет, не достанутся! — стоял на своем чиновник. — Мы постараемся вывезти, а не удастся — взорвем… А выдать чужой части, как хотите, не могу.
Полковник схватил его за грудь и отбросил в сторону.
— Грузите на мою ответственность, — крикнул он солдатам. — И живей, ребята!
К складу уже подъезжали подводы, окруженные кавалеристами. Дюжие солдаты начали быстро выносить ящики. Они хохотали, явно радуясь тому, что их начальник нарушил казенный порядок и без спроса, даже насильно берет патроны. К полковнику подошел прапорщик, солидный человек с широченной спиной, и попросил разрешения взять патроны для своей части.
— Валяйте, прапорщик, берите! — махнув рукой, распорядился полковник.
В это время в небе послышалось гудение, и люди, крича, побежали в укрытия.
Бомба попала в соседнюю избу и разметала ее с грохотом. Солдаты, грузившие патроны, погнали лошадей и с гиканьем понеслись по улице. Полковник, ругаясь, вскочил на коня и умчался.
Из генерального штаба на автомобиле прибыл офицер с инструкциями и срочным приказом. Это был щегольски одетый капитан, совсем еще молодой, с беспокойными движениями. Он подробно, очевидно восхищенный важностью своей миссии, передавал Уречину, в чем заключается задача его полка (он говорил «вверенного вам полка»), и, не удержавшись, стал излагать обстановку на фронте, принимавшую, по его словам, катастрофический для русской армии характер. Уречин, слушая, так смотрел на капитана, что тот, смутившись, поспешил откланяться.
— Наполеончики! — насмешливо проговорил Уречин. — Только что из академии и уже полководец! Офицер генерального штаба осмеливается на фронте, в разгаре боевых действий, выговорить — «катастрофа». Я бы ему роту не доверил, а он убежден, что лучше всех понимает положение армии, и хвастает этим!
Он пригласил старших офицеров, чтобы вместе с ними разобрать обстановку и задачу, данную полку.
Положение русских было тяжелое. Третья армия Радко-Дмитриева занимала фронт от впадения Дунайца в Вислу до Лунковского перевала в Восточных Карпатах. Справа к ней примыкала четвертая армия, слева — с юга, занимая лесистые Карпаты, до Ужокского перевала — восьмая армия. Русское командование давно знало, что германцы готовят прорыв в районе Горлицы. Туда подвозили они тяжелую артиллерию, минометы, огромное количество боевого снаряжения и подбрасывали новые дивизии с англо-французского (Западного) фронта.
Третья армия, против которой готовился удар, не имела в своем ближайшем тылу ни укрепленных позиций, ни армейского резерва. И все же ставка позволила главнокомандующему Юго-Западным фронтом генералу Иванову продолжать карпатскую операцию и не настаивала на перегруппировке сил Юго-Западного фронта для противодействия явно готовящемуся удару германцев. Кроме всего прочего, положение ухудшалось еще неурядицей в тылу, слабостью транспорта. Значительная, часть снарядов застревала внутри страны. В Архангельске образовалось настоящее кладбище боевых материалов, доставленных морем из-за границы, — тридцать миллионов одних артиллерийских снарядов. И это в то время, когда в самые горячие дни горлицкого прорыва дневной расход шестиорудийной гаубичной батареи в третьей армии был установлен в десять выстрелов — меньше двух на орудие!
Уречин получил известие о разгроме второго полка их бригады, атакованного германской кавалерией. Он с трудом скрывал свое горе и тревогу. В самых трудных условиях ему приходилось вести полк, большей частью состоявший из плохо обученных, необстрелянных солдат. Верхом на рыжей венгерской кобыле, купленной им у казака, он внимательно осматривал проходившие мимо ряды. На повороте высился большой потемневший крест с распятым Иисусом. Сиреневые губы на белом бородатом лице казненного бога были сердито сжаты. Солдаты, сбившись в кучу, с любопытством смотрели на Иисуса, некоторые крестились.
— Владимир Никитич, — сказал Уречин Васильеву, — поглядите на них: толпа, а не полк. А сегодня они встретятся с немцами. — Он вздохнул. — Как у вас в батальоне?
Васильев пожал плечами:
— Закваска осталась. Около сотни старых солдат. — И добавил: — Ничего. Привыкнут. Народ боевой, храбрый…
— Увидим, увидим, — пробормотал Уречин, поправляя новый желтый ремень уздечки возле ушей лошади. — Пожалуйста, Андрей Иванович, — обратился он к Денисову, — передайте еще раз в роты, чтобы берегли патроны. Ну, с богом!
Он снял фуражку, пошевелил перед грудью сложенными в щепоть пальцами и тронул коня. Васильев, козырнув ему, рысью поехал к своему батальону.
Увидел Карцева, шедшего на фланге взвода, и позвал его.
Карцев вышел из рядов, с готовностью глядя на командира.
— Поздравляю с Георгием! — отрывисто и ласково сказал Васильев и улыбнулся.
— Рад стараться, ваше высокоблагородие!
— Представляю тебя в младшие унтер-офицеры! — проговорил он и поехал дальше, с наслаждением вдыхая весенний воздух. Сорвал на ходу бурую клейкую почку, по-ребячьи лизнул ее, ощутил горький вкус и засмеялся.
«Подполковник, штаб-офицер. Неужели я штаб-офицер?» — думал он.
Артиллерийская стрельба доносилась все яснее. Дорога была загромождена беспорядочными массами войск, обозами и артиллерией. Солдаты переругивались с обозниками, присаживались на землю и перематывали портянки. В глубь тыла увозили тяжелую артиллерию — сорокадвухлинейные гаубицы, лишенные снарядов. Артиллеристы погоняли сильных, с широкими крупами лошадей и перебрасывались шутками с пехотинцами. Только немногие были угрюмы: старые бомбардиры, сроднившиеся со своими орудиями, да фельдфебели с золотыми шевронами на рукавах, усатые, злые.
Черный, волосатый полковник поздоровался с Уречиным, остановившим его, молча выслушал заданные ему вопросы и, нехорошо усмехаясь, сказал, указывая на свои погоны, на которых перекрещивались дула орудий:
— Нужны вам эти пушки, так, пожалуйста, заберите их. Они будут полезны не меньше, чем эти (он показал нагайкой на свой дивизион)… хлопушки, которым нечем хлопать.
Вздыбив коня, он ускакал галопом.
Движение замедлилось. С холма была видна дорога на несколько верст вперед. Васильев, ворча, осматривал ее в бинокль. Казалось, что река катила густые, рыжие от размытой глины воды, и они, наткнувшись на плотины, вдруг затопили берега. Сильные стекла бинокля показали Васильеву странную картину. Стадо белых длинноногих быков теснилось на дороге. Пестрые таборы людей, повозок и лошадей окружали его. Возле суетились пастухи в козьих шкурах, с палками и котомками. «Столпотворение вавилонское!»
Он поскакал к Уречину. Полковник выслушал его.
— Надо свернуть с дороги, — приказал он. — Тут мы не пройдем.
Роты пробирались в сторону от дороги. Шли проселками, иногда — полями, топча жирную, вспаханную землю. В одном месте прошли участок, покрытый нежными изумрудными всходами озимых, затоптав их тяжелыми сапогами. Показалась долина, перерезанная извилистой речкой. На другом берегу ее подымался круглый зеленый холм. Три сосны росли на его вершине.
Уречин поскакал к речке. Сильный конь с трудом выдирал ноги из вязкой земли. У берега он замялся и, фыркая, осторожно вступил в воду. Видно было затем, как командир пригнулся к шее коня и, держась за гриву, галопом взобрался по крутому склону, остановился у сосен, в бинокль осматривая местность.
Подняв над головами винтовки, солдаты вброд переходили речку. Крики и смех раздавались кругом. Защима что-то бормотал сквозь зубы. Банька жалобно хныкал, говоря, что холодная вода хватает его за самое сердце. Карцев был сосредоточен, наблюдая, чтобы кто-нибудь из его отделения не споткнулся в воде, доходившей до груди.
Грохот артиллерии, затихший незадолго до перехода речки, возобновился с новой силой. Снаряды рвались совсем близко. На середине холма вспрыгнул черный столб земли, желтоватый дым скрыл Уречина, и комья земли посыпались на солдат, точно кто-то, забавляясь, бросал их полной горстью. Уречин передал приказание, роты поспешно уходили в стороны, занимая свои участки. Третий батальон расположился в роще, оставаясь в резерве.
Карцев пробрался на вершину холма. Вся позиция ясно, как на рельефной карте, расстилалась перед ним. Он поднес к глазам бинокль, снятый с германского офицера, и стал смотреть, пытаясь определить расположение неприятеля. В те дни, когда полк был в резерве, Васильев ежедневно проводил со взводными и отделенными командирами тактические занятия, обучая их на примере недавних боев, и эти уроки хорошо усвоил Карцев. Перед ним лежала гряда холмов, покрытых пашнями. Тонкий пар стлался над коричневой развороченной землей. Левый фланг позиции упирался в болотистую речку. За ней тянулся лес. Раскидистая вершина тяжелого дуба выделялась на опушке. Карцев понимал, что лес и холмы стесняют обстрел, уменьшают его до шестисот — семисот шагов, а болотистая речка предохраняет фланг от обхода. Далеко впереди вилась дорога, и в бинокль были видны белые дымы разрывов. Он повернулся было в другую сторону, чтобы осмотреть тыл русской позиции, как вдруг увидел, что Рогожин отчаянно машет рукой, что-то кричит. Прыжками Карцев спустился к своим. Ему сказали, что он назначен в команду разведчиков.
Тридцать человек, под командованием Петрова, двинулись в лес. Карцев шел в передовом дозоре. Идти было легко, разведчики оставили себе только винтовки, саперные лопатки и подсумки с патронами. Рядом, спокойно посапывая, ловко переступал Голицын. Шагах в двухстах позади Петров вел главные силы команды. Холмы хорошо прикрывали их, они старались двигаться ложбинками. Иногда, забываясь, Карцев думал, что вот он гуляет за городом, а где-то издали надвигается гроза и раздаются раскаты грома. Низкое жужжание аэроплана он услышал лишь тогда, когда тот прошел над разведкой. Машина снижалась все больше, описывая круги. Видимо, летчик заметил подозрительное движение и хотел выяснить, в чем тут дело. Карцев, пригибаясь, побежал к Петрову.
— Германец! — прошептал он. — Кресты у него на крыльях! Надо снять… Прикажете открыть огонь?
Петров колебался, но солдат нельзя было уже удержать, цель была слишком близка и заманчива.
Карцев соображал: аэроплан шел к группе деревьев, стрелять надо, целясь поверх деревьев, когда машина будет недалеко от них. Он торопливо передавал товарищам свои соображения, подал команду, и сухой треск залпа, почти незаметный в гуле орудий, показался ему ударом грома. Аэроплан летел совсем низко. Он пронесся над деревьями и вдруг, качнувшись, развернулся вправо и, вильнув хвостом, резко пошел вниз. У самой земли он рванулся кверху, как рвется подбитая птица, клюнул носом, опять выпрямился, подпрыгнул и, неуклюже пробежав саженей пять, свалился набок. Едкий, черноватый дым повалил из машины. И как раз в тот момент, когда человек, одетый в коричневую кожу, вывалился на землю и пополз в сторону, послышался взрыв. Сквозь дым блеснуло темно-красное пламя. Карцев подбежал первым. Летчик сидел, опираясь на руки, и судорожно кашлял. По его лицу, из-под кожаного шлема, текла кровь. Увидев Карцева, он полез было за револьвером, но подбежали еще русские солдаты, и летчик, оставив револьвер, пытался встать. Карцев хотел ему помочь, протянул руку, но тот посмотрел на него с таким презрением, что Карцев сжал кулаки. Летчика окружили.
— Барин, — глухо сказал Голицын, — поглядите, как зубы ощерил. Прикончить бы его…
Петров вышел вперед. Заметив его погоны, немец произнес короткую фразу и подал ему револьвер.
— Помогите, — приказал Петров. — Видите, ранен.
Двое солдат подошли к немцу, но он отстранился от них и, пошатываясь, пошел сам.
Летчика отправили в штаб полка. Потом двинулись дальше. В лесу пахло сыростью, сосновой хвоей. Осторожно осматриваясь, подобрались к опушке. За опушкой лежал луг, ближе к лесу часто росли кусты. Кто-то из разведчиков выдвинулся из-под деревьев, и сейчас же затрещал пулемет, пули звонко щелкнули, ударяясь в стволы сосен. С первыми выстрелами волновавшийся до сих пор Петров почувствовал, как спокойствие возвратилось к нему. Он расположил людей за кустами, выслал дозоры. Карцев и Голицын ползли по земле, прячась в зарослях, зорко всматриваясь в даль. Пули свистели над их головами, но летели так высоко, что Карцев знал — стреляют не по ним. Они подползли шагов на двести к неприятельскому расположению. Ближе ползти опасно — простым глазом они видели полевой бивак германцев, обветренные лица солдат, сидящих и лежащих на земле. Очевидно, немцы устроили короткий отдых перед наступлением. Никто не снимал снаряжения, ранцы висели за спинами, винтовки были в руках. Карцев нацелился биноклем в маленькую группу, сидевшую ближе других. Увидел немолодое, усталое лицо. Оно было так близко в сильном цейсе, что он ясно различил кучку синих точечек на переносице и под глазами германца, его дряблые щеки, плохо выбритый подбородок и двигающиеся от жевания щеки и губы. Эти точечки вызвали в нем воспоминание. Сморщив от усилия брови, он улыбнулся: такие же были на лице солдата их роты, донецкого шахтера. Темные широкие руки немца бережно подносили ко рту хлеб. «Видно, знает цену хлебу — как заботливо подбирает крошки с колен», — подумал Карцев и поймал себя на том, что занимается не тем делом, за которым его послали. Сердито тряхнув головой, он стал внимательно всматриваться и подсчитывать, сколько людей могло быть перед ним.
Голицын легко толкнул его.
— Вон, погляди, — он показал вправо. — Там их много. Разведаем, что ли?
У Голицына возбужденно поблескивали глаза, острая военная игра захватила и его.
Они поползли в лес. Сеть кривых, запутанных тропинок бороздила его. Иногда тропинки упирались в маленькие просеки, кругловатые тихие полянки, на которых лежали аккуратные кубы спиленных дров. Они наткнулись на лачугу, покрытую сосновыми ветвями. В дверях этого первобытного жилища стоял маленький косоплечий человек. Он был весь черен. Выделялись только зубы и белки глаз. Сразу нельзя было определить ни возраста, ни одежды этого человека. Все на нем засмолено — борода, лицо, войлочная шляпа, руки. С полным спокойствием он смотрел на русских солдат. Голицын на всякий случай наклонил штык и сурово сказал:
— Ну, ты, австрияк, много тут ваших?
Тот махнул рукой:
— Я не вем, пан, — я смолокур. Много тут всякого лиха шляется… Вот и вы пришли.
— Легче, — свирепо оборвал его Голицын. — Не знаешь, что ли, как на войне с вашим братом поступают.
— Чхал я на вашу войну! — рассердившись, сказал смолокур. — У меня свое дело, и я никому не мешаю.
Он повернулся и скрылся в лачуге.
— Одичалый… Оставь его! — посоветовал Карцев.
Со стороны поля усилились выстрелы. Тяжелый снаряд с низким, очень сильным гудением пролетел над лесом. Они продолжали двигаться вперед. Голицын присел и за рукав потянул Карцева вниз: между деревьями виднелась белая прогалина, и там, почти теряясь на фоне сосен, стояли три австрийца.
— Заметили… — прошептал Голицын, подымая винтовку. — Стреляй!
Но австрийцы вели себя странно. Один из них, длинный костлявый парень, помахивая поднятой рукой, направился к русским. Винтовка мирно висела у него за плечом. Голицын прицелился.
— Подводят, — хрипел он, — однова так было. Подошли по-мирному, а потом застрелили. Бей в него.
— Погоди, — остановил Карцев, — там их еще двое, не упускай из виду. Эй, вояка, стой!
Австриец остановился.
— Мир! — крикнул он. — Мы хцемы до плена!
И, сложив на землю винтовку с широким штыком, что-то крикнул товарищам. Они поспешно подошли к нему, тоже положили свои винтовки на землю, и все трое направились к русским. На воротнике у длинного была костяная звездочка. Комически подмигнув Карцеву, он показал на нее и объяснил:
— Гефрейтор… — и все трое засмеялись весело, но немного принужденно.
— Чеши, — показал он на себя и товарищей, — працователи, — и, видя, что его не понимают, сделал руками несколько движений, поясняя: — Працовать — работа…
— Стало быть, чехи, работнички, — догадался Голицын, — в плен к нам хотите?
Чех подозрительно посмотрел на него.
— До вас, до вас, — убеждающе сказал он. — У нас плен — плохо, к нам — фе! — он оттопырил по-детски надутые губы и, морщась, пошевелил пальцами. — Кушать нема!..
Карцев рассмеялся.
— Боится, что мы к ним в плен попросимся, — заливаясь хохотом, бормотал он. — Боится, что некому будет их в плен брать. Ну что ж, придется их отвести.
Чех повеселел. Заменяя жестами недостающие слова, он рассказал, как два месяца тому назад в Карпатах столкнулись две партии — русские и австрийцы — и стали сдаваться друг другу в плен. Но австрийцев было больше, и они силой заставили русских вести их к своим.
Чех в полной мере переживал свой рассказ. У него, очевидно, был природный дар чувствовать и изображать смешное. Он мимически показывал разочарование русских и удовлетворение австрийцев, которые под конвоем вели русских до тех пор, пока не дошли до их позиций, и только тогда сдали им свои винтовки. Карцев и Голицын смеялись, представляя себе эту забавную картину.
На них вышел правый боковой дозор разведки под командою Баньки, и тот охотно принял пленных.
— Непременно мне за них Георгия дадут, — хвалился он, забирая под мышку австрийские винтовки. — Скажу, что взял в бою и еще троих пострелял.
Банька, высоко отставляя локоть, крепко пожал руки разведчикам.
Карцев и Голицын продолжали путь. Они вышли на опушку и сейчас же должны были спрятаться в лесу. Немецкие колонны оказались совсем близко, их передовые дозоры, очевидно, уже втянулись в лес.
— Надо к своим пробираться, — беспокойно прошептал Карцев.
Они пошли в глубь леса, держа наготове винтовки, осторожно выглядывая из-за каждого дерева, прежде чем выйти на тропинку. Вдруг совсем близко послышались выстрелы. Разведчики укрылись за толстыми стволами сосен. Топот, выстрелы, стоны близились. Первым выскочил Банька. Он мчался, как гончая, низко пригибаясь к земле, широко раскрывая рот. За ним бежал Самохин, а позади, шагах в тридцати, неслись зеленоватые фигуры германцев. Карцев переглянулся с Голицыным, и оба выстрелили сразу. Два немца упали, двое других набежали сгоряча, и один из них, рыжий, грудастый, выстрелил, держа винтовку у бедра. Карцев проворно вскочил, — стрелять не было времени — длинный немецкий штык уже касался его груди. Он отбил штык сильным, резким ударом, но немец упрямо лез на него. Тогда Карцев сбоку оглушил врага прикладом, отскочил на шаг и, рванувшись, всадил штык в немца, как в чучело. Он увидел нелепо взмахнувшие руки и, уже не думая о падающем противнике, бросился на выручку к Голицыну, который, прыгая, увертывался от штыка наседавшего германца. Карцев повернул затвор и выстрелил. Пленные чехи вышли из леса и присоединились к русским.
Полк не выходил из тяжелых боев. Поздно вечером приехал начальник дивизии. Он ничуть не изменился с тех пор, как Уречин видел его за обедом. Розовый, детский лобик виднелся из-под козырька фуражки, голубые глаза глядели безмятежно. Показывая на карте участок, который полк должен защищать, он говорил, веско подчеркивая слова:
— Ни шагу назад отсюда, полковник. Ни шагу! Здесь с божьей помощью мы остановим противника.
Он уехал, и с тех пор никто в полку больше не видел его, так как, снятый вскоре с командования дивизией по представлению начальника штаба армии (абсолютное отсутствие инициативы, полнейшее неумение разбираться в боевой обстановке), он, пользуясь своими высокими связями, получил корпус в соседней армии.
На рассвете следующего дня Уречин, Васильев и Денисов осматривали позицию, которую надлежало занять полку. Она была на склоне большого холма, обращенного к неприятелю, открытая его обстрелу. Шагах в пятистах перед нею тянулись густые заросли кустов и дубовая роща. Для того чтобы сноситься с тылом, приходилось подыматься на вершину холма. Уречин молча ходил по склону, долго смотрел в бинокль на рощу, затем опустился на землю, рассеянно что-то подчеркнул на карте, два пункта обвел кружочками и медленно встал.
— Андрей Иванович, — сказал он, — мы эту позицию, конечно, не займем. Губить полк я не буду. Двинемся на Бутово и на Серяково.
— А приказ начальника дивизии, господин полковник?
— Отпишитесь… Дескать, согласно новой обстановке полк был вынужден… и так далее. Пошлите в штаб дивизии.
Через полчаса батальоны потянулись вдоль склона холма, скрытого от неприятеля. Впереди виднелся темный массив соснового леса.
Федорченко вел первый батальон. Как и Васильев, он был уже произведен в подполковники и нежно поглядывал на свои штаб-офицерские — с двумя просветами — погоны. Он твердо помнил задачу: пройти лес, разведать район между деревнями Загурки и Кузняки, наблюдать за шоссе, ведущим к селу Косны, а все остальное его не касается. Федорченко досадливо поморщился, услышав выстрелы передовых дозоров: не могли, черти, мирненько подобраться, думают, что на войне надо обязательно все время драться. Вот в японскую кампанию целые месяцы проходили без боев. Не было этих дурацких аэропланов, выматывающих душу!.. Он выслушал донесение от четвертой роты, бывшей в авангарде, и, уверившись, что перестрелка была пустяковая, велась с германским кавалерийским разъездом и что с позиции, занятой четвертой ротой, видно шоссе, он решил туда ехать. Гнедая толстоногая лошадка шла спокойной рысью. Лес мыском выходил на вершину крутого холма. Зеленеющий склон уступами сбегал вниз, маленькое озерцо синело там, как клочок неба, упавшего на землю, а за озерцом вилось шоссе, подернутое дымкой пыли. Казаков лежал на животе за кустом и глядел в бинокль. Несколько солдат, оживленно перешептываясь, показывали пальцами на шоссе. Федорченко неодобрительно посмотрел на их радостно возбужденные лица. «Нет того, чтобы серьезно отнестись к делу, — подумал он, — играем мы здесь, что ли?»
Казаков, приподнявшись, кратко доложил о положении. Федорченко лег, кряхтя, подбирая рыхлый стариковский живот, и стал наводить цейс. Он поймал сухое, остренькое сверкание и долго не понимал, что это такое.
— Самокатчики, — подсказал Казаков.
Федорченко сердито кивнул головой:
— Сам вижу!
Самокатчики двигались по шоссе маленькими группами, с винтовками за спиной. Дальше шоссе вливалось в рощу, и сильные стекла бинокля показали разреженные шеренги германцев, неспешно оттуда выходящих. Казаков нетерпеливо посматривал на командира. Для него было ясно: немцы двигались по шоссе, подставляя себя удару русских. Надо было обрушиться на них с двух сторон, послав одну роту к роще, а двумя — атаковать из леса. Четвертая рота оставалась в резерве. При батальоне было два пулемета и взвод орудий. Хорошо направленный огонь, неожиданное нападение могут дать превосходные результаты. Разведка сообщила, что у немцев меньше двух батальонов. Казаков все это объяснял подполковнику, показывая на планшетке местность. Федорченко едко посмотрел на рыжего штабс-капитана.
— Нам приказали только разведать силы неприятеля, — сказал он. — Зачем же ввязываться в бой?
Подошел дозор десятой роты. Карцев радостно козырнул Казакову. Тот головой показал, чтобы Карцев следовал за ним. В кустах они сели, и Казаков спросил:
— Ну, как живешь, брат? Есть какие-нибудь новости?
— Ничего нет. Вы больше моего знаете.
Казаков весело закивал ему, как бы подтверждая, что он действительно знает больше Карцева.
— Получил письмо от Мазурина, — сказал он. — Скоро будет здесь. Просил тебе кланяться.
Не удержавшись, Карцев обеими руками схватил руку Казакова:
— Спасибо за такую новость! Скорее бы приезжал… Поговорить не с кем, ей-богу!
— Как не с кем? А Мазурин говорил, что ты работаешь… Разве мало тут людей, которых война разворотила, словно плуг? Только сей, а зерно взойдет.
— Думки у них разные, — сказал Карцев. — Но только никто толком не знает, к чему эта война. Думают о доме, желают мира. Спрашивал я одного запасного из нашей роты, за что он воюет. «А там, отвечает, сербы убили какого-то эрц-герц-перца, а наши за них заступились. Барская блажь». Так многие и думают: барская блажь. А ближе ничего не знают.
— Вот и надо, чтобы ближе знали, — точно размышляя вслух, говорил Казаков. — Здесь наука им легче дается — собственной шкурой они отвечают за все грехи царской своры. Как же не научиться?
Карцев придвинулся к нему.
— В роте у нас, — взволнованно заговорил он, — запасные старички говорят, что им все равно, пускай мы войну потеряем, лишь бы скорей конец. Разве можно потакать им, соглашаться на такое дело? Сколько русской крови пролито! Неужели задаром? Неужели можно им думать, что войну нам лучше проиграть, лишь бы поскорее был мир?
Он в смятении глядел на Казакова.
— Можно… — медленно ответил тот. — Да, можно! А впрочем, черт его знает, мне иногда самому странно так думать здесь — в кипящем котле войны… Ты не смотри на меня так, тут самый простой расчет: если мы воюем за старье, за прогнившую постройку, при чем же в данном случае русский народ?
Раздался страшный грохот. Казалось, земля мягко качнулась. Казаков побежал к своей роте. Второй снаряд разорвался совсем близко. Густой, упругий, как резина, воздух подхватил Карцева и, легко приподняв, швырнул на землю. Падая, он ударился грудью и несколько минут лежал, ошеломленный ударом. Потом встал на колени, голова немного кружилась, поднял выпавшую из рук винтовку. Увидел: четвертая рота отходит в лес.
Пулеметная и ружейная стрельба стала чаще, издали прерывистыми волнами доносились крики. Бой, очевидно, разгорался. Карцев посидел, потом отыскал Голицына, и оба стали пробираться к своей роте. Справа донеслось многоголосое «ура». Сквозь деревья было видно, как русские цепи побежали вперед и залегли в ложбинке под горой. Русская артиллерия стреляла редко, по два-три снаряда в минуту. В центре расположения полка Карцев наткнулся на штаб. Уречин смотрел в бинокль и говорил Денисову:
— Ну, так и есть, настоящая укрепленная позиция. Видите — тройной ряд колючей проволоки. Они обещали артиллерийскую подготовку, обещали разрушить проволоку. А там все цело — ни одного прохода! Если даже дойдем, мы останемся висеть на этой проволоке, как шашлык. Андрей Иванович, что говорит штаб дивизии? Хоть два-три десятка снарядов туда!
— Приказывают атаковать, говорят, что артиллерийская подготовка закончена. Зарайский полк уже атакует.
Карцев лег, навел бинокль. Зарайцы действительно подымались по склону к вершине, где в зарослях скрывались неприятельские позиции. Он видел кривые ходы проволоки, низенькие, толстые столбики и между ними сплошную массу злых железных колючек, не поврежденных русскими снарядами. Зарайцы наступали стремительно и смело, уверенные, что проходы в проволоке открыты. Первые из них выскочили почти к самой вершине, залегли и, сразу поднявшись, с криками бросились вперед. Склон у вершины покрылся фигурами атакующих. Теперь они шли в рост, штурмуя в остервенелом порыве. Их крики слышал Карцев и весь дрожал от волнения. Видно было, как атака захлебнулась у проволоки, как растерянно суетились люди и падали на впивавшиеся в их тело колючки. Высокий солдат пытался штыком рвать заграждения, сделал несколько яростных движений и повалился лицом вперед, роняя винтовку. Оставшиеся бежали назад. Колючая проволока покрылась телами. Карцев услышал крики вблизи. Новая рота двигалась на штурм. Солдаты видели всю бесцельность атаки и шли неохотно, с озлобленными лицами. Их подгоняли взводные и офицеры. Толстый штабс-капитан тыкал наганом в солдатские спины.
Весь день полк был в бою. Третий батальон, удачно маскируясь в мелких зарослях и кустах, подобрался к правому флангу германцев. Наступлением руководил Васильев. Девятая рота сделала ложный выпад, солдаты стреляли, до потери голоса кричали «ура» в то время, когда остальные роты готовили главный удар. Васильев шел в цепи с винтовкой. Германцы бежали, отстреливаясь на ходу. Больше двухсот человек было взято в плен. Солдаты с колена били по отступающим. Карцев тащил германский пулемет, не замечая, что у него течет кровь по щеке, задетой пулей. Вдруг струя пулеметного огня резнула по роте. Двое упали, остальные поспешно легли. Вражеский пулемет оказался близко, в кучке деревьев. Его засыпали пулями, но как только солдаты бросились к деревьям, сухое, страшное стрекотание возобновилось и хорошо направленные пули снова полетели над землей.
— Охотников! — закричал Васильев. — Что же мы, из-за этого гаденыша застрянем здесь?
Вызвались пять человек, в их числе — Карцев и Черницкий. Трое двинулись прямо в лоб, стреляя и крича, а Карцев и Черницкий пошли в обход. Припадая к влажной земле, Карцев полз, описывая дугу. По выстрелам он определил, что находится сзади пулемета, и, сделав знак Черницкому, изменил направление. Пулеметные очереди звучали неравномерно — то стремительные, злые, то короткие, обрывающиеся.
— Упорный какой!.. — пробормотал Черницкий. — Он же совсем один!
Теперь они видели пулеметчика. Тот лежал, неловко вытянув ноги, спина зеленым горбом подымалась над пулеметом. Увлеченный своим делом, он не замечал русских, которые были уже в десяти шагах от него. Карцев поднял винтовку, но Черницкий схватил его за плечо, поднялся как барс, бросился на пулеметчика. Германец не вскочил. Лежа, он беспомощно сучил ногами и смотрел на русских. Это был плотный, рыжеватый человек, уже немолодой, с длинным хрящеватым носом. Серые струйки пота катились по его лицу.
Они потащили немца вместе с его пулеметом.
К вечеру полк, захвативший более четырехсот пленных и десять пулеметов, попал под сильный артиллерийский обстрел. Русская артиллерия стреляла совсем редко, малочисленные трехдюймовые орудия не могли состязаться с тяжелой германской артиллерией. Вековые дубы падали, расщепленные гранатами. Русская батарея, стоявшая на опушке, снялась и ушла в тыл: не было снарядов.
Казаков, охранявший правый фланг полка, донес, что Зарайский полк оставил свой участок и отступил. Уречин не хотел верить донесению. Он отправился на правый фланг и вернулся с посеревшим лицом.
— Хотя бы предупредили! — глухо бросил он Денисову. — Неужели полковник Замятин не понимает, что он делает? Ах, сволочь! Я подам на него жалобу!
Денисов усмехнулся.
— Замятин — гвардеец, — сказал он, — родственник генерала Безобразова. Об этом хорошо знают в штабе корпуса. Бесполезно жаловаться…
Уречин хмуро посмотрел на него.
— Прикажите, капитан, — резко сказал он. — отправить две роты третьего батальона на правый фланг. Пускай расположатся под прямым углом к фронту полка. Вечером придется, видно, отступать.
Четвертый день Мазурин находился в запасном батальоне. Солдаты вповалку спали на нарах. Вместо матрацев лежали тоненькие соломенные маты, воняющие псиной. На обед давали постный суп с черными, как уголь, грибами. Унтер-офицеры и старые кадровики цепко держались за свои места. Начальство считало лучшими тех из них, которые безжалостно обращались с солдатами, и в батальоне происходило своеобразное соревнование: взводные и отделенные хвастались числом разбитых физиономий, количеством поставленных под винтовку и перепоротых солдат. Розга в батальоне была узаконена. В первый раз увидел Мазурин, как пороли солдата — немолодого уже мужика-ополченца. Пороли взводные. Кругом выстроили роту, так как начальство полагало это зрелище полезным для «вразумления непокорных». Сейчас же после порки солдат повели на занятия. Высеченный уходил молча, со страшным, неподвижным лицом. Занимались маршировкой, отданием чести, ружейными приемами. Винтовок для обучения не хватало, и они по нескольку раз переходили из рук в руки. Остапчук, взводный Мазурина, придумал остроумное приспособление: он командовал «пли», и за отсутствием винтовок взвод хлопал в ладоши, изображая выстрелы. Со двора выпускали очень немногих. Из четырех с лишним тысяч человек, числящихся в батальоне, около трети считалось в «безвестной отлучке», то есть в бегах. Явление это сделалось настолько обычным, что не вызывало у начальства особых волнений.
Солдаты маршировали с деревянными ружьями. Приходил капитан, низколобый, сутуловатый человек со свинцовыми глазами, и начинал ругаться. Иногда вызывал из рядов солдата и, не размахиваясь, тычком бил его по лицу. Потом шел проверять, как «замерли» солдаты, в наказание поставленные под винтовку. Они стояли во дворе, под окнами канцелярии, в полной выкладке, с кирпичами, положенными в походные мешки, под настоящими винтовками, хотя в них крайне нуждались для обучения.
— С деревянным ружьем не штука постоять, — говорил капитан. — Нет, ты мне под винтовкой, сукин сын, замри, почувствуй, что наказан!
Позевывая и показывая гнилые коричневые зубы, он шатался перед ротой, но ни разу не командовал. Это дело он предоставлял младшим офицерам и унтер-офицерам. Была, впрочем, у капитана одна выдумка, которой он очень гордился. В станках навешивали соломенные мешки, солдат выстраивали в шеренгу, и по команде они, крича «ура», бежали со штыками наперевес и, сделав все сразу выпад, кололи мешки.
— Вот она, русская штыковая атака! — восхищенно говорил капитан. — На фронте они переколют всех германцев. Вот как надо обучать солдат!
В запасном батальоне шла странная, беспорядочная жизнь. Состав его был велик и текуч. Маршевые роты набирались без всякого надзора, и это способствовало повальным злоупотреблениям. Капитан был всегда пьян. Адрес его квартиры хорошо знали солдаты: туда ежедневно отправлялись кульки с продуктами, вином, водкой. Делалось это под наблюдением фельдфебеля — доверенного лица. Те, у кого были деньги, отсиживались в батальоне месяцами. Только к приезду инспекторов подтягивались, а через день все шло по-старому. Мазурин, бывший на ножах со взводным, знал, что будет отправлен с первой же маршевой ротой, но не выказывал беспокойства.
Однажды утром в роту пригнали под конвоем двенадцать мобилизованных. Это были рабочие, за политическую неблагонадежность уволенные с фабрики. За ними установили особый надзор, из казармы не выпускали. Капитан приказал их построить. Нежно улыбаясь, он ходил перед ними.
— Бунтовщики-с? — иронически спрашивал он. — Хотите Россию отдать немцам? У русского царя достаточно таких верных слуг, как я! — капитан ударил себя в грудь. — И мы сумеем расправиться с такой сволочью, как вы. Понятно?
Он подходил в упор (от него воняло перегаром водки) и сдавленным голосом говорил:
— Если вы в чем-нибудь попадетесь, закую в цепи и отправлю на фронт. Плевать мне, что вы не обучены. Убьют и так.
Казармы напоминали тюрьму. Если солдат выбегал в уборную, за ним следил дневальный, ни на секунду не выпуская его из виду. У начальства были свои шпионы, доносившие о солдатских разговорах. Но Мазурин все же действовал смело. В роте образовался кружок, его центром стали рабочие, мобилизованные за политическую неблагонадежность, а вокруг них собирались солдаты, охотно слушавшие разговоры о причинах войны.
Пытливые, настороженные глаза зорко следили за Мазуриным, взвешивалось каждое его слово. Слушали и говорили:
— Тебе ли верить?.. Побьет германец — наложит, говорят, кабалу. Тридцать и три года по сто мильонов платить, да каждый год по два мильона народа чтоб у него бесплатно работало.
— Кто из офицерья постарше — прячутся, а прапорщики — за главных.
— А они молодые, военному действию не научены, даром народ губят. Сморчки!..
— Один костыль, а то два костыля заработаешь или совсем уйдешь в «город Могилев». Скажут нам — спасибо, молодцы, за службу, а у молодцов рук-ног нету.
— Так нельзя рассуждать. Мы не должны забывать — своя, родная страна. Матери, детки, сестры… На границе разорены, разграблены целые губернии. Откажетесь воевать, пустите немцев — они сожгут все, заберут, увезут наши богатства, скот угонят. Во Франции республика, но и они борются с немцами, так как немцы хотят забрать всю Европу.
— Россию не бросишь, не прогонишь никуда от себя. И кости по родине плачут!
— Путай, запутывай мужиков. У меня, может, родины-то нет! Деревня есть, и та не моя. Изба трухлявая — она, верно, моя, с дырьями, с тараканами, с цыганским добром. Россия — она, брат, к кому задом, к кому лицом. Я вот лица не видел…
Электрическая лампочка тускло освещала казарму. Солдаты сидели и лежали на койках, близко придвинувшись друг к другу, дымили махоркой. Стриженые головы, темные провалы глаз, бритые и бородатые лица. Говорили долго за полночь.
Так проходили дни, проходили ночи. Некоторые, не выдерживая нудной, тяжелой жизни, сами просились в маршевые роты. Другие бежали.
Бредов возненавидел тихие улицы своего города, стал раздражительным, не выносил взглядов людей.
«Почему они так смотрят на меня? — думал он и сам отвечал себе: — Удивляются, почему не на фронте…»
Два раза он был на комиссии. Старший врач, толстый, с сизым лицом, покрытым сеточкой красных жилок, мягко сказал:
— Правое легкое у вас прострелено насквозь. Две дырки… серьезные. На фронте у вас обязательно начнутся осложнения и все прочее. Бегать вам нельзя. Проводить ночи на земле тоже нельзя. Какой же из вас фронтовик? Оставайтесь пока здесь, в запасном батальоне. А там посмотрим.
Но Бредов не хотел оставаться. С каждым днем ему было труднее жить. Город казался большой покинутой квартирой, откуда уехали все друзья. Пустые стены давили, от них веяло одиночеством. Днем, правда, было легче. Он мог работать, гулять, а ночами долго, до устали, читал и, когда начинали слипаться глаза, откладывал книгу, думая, что вот-вот уснет. Но вдруг что-то переключалось в нем, томительное беспокойство охватывало его, точно он должен был сделать какое-то важное дело, но какое — не мог сказать. Он вскакивал, долго ходил по комнате или стоял у окна, глядя в упругую черноту ночи. И смотрел до тех пор, пока в глазах не начинали мелькать лиловые искры. По-ночному ясные мысли проходили в его голове. Он вспоминал людей, которые жили вокруг него, вспоминал их повседневные разговоры и ужасался тому, как все это чуждо и неприятно ему, каким одиноким он живет в этом городе. Горожане неискренне и высокопарно говорили о России, о своем патриотическом долге, о готовности приносить жертвы. На первые транспорты раненых ходили смотреть, как на зверинец, потом раненые всем надоели, и в госпитали ездили только по обязанности или потому, что это делали другие. Разговоры о боях все более заменялись разговорами о выгодных военных поставках. Со скукой смотрели на искалеченных солдат, возмущались германскими зверствами.
Бредов прогонял мучившие его мысли, включал свет и подходил к карте, висевшей на стене. Красная извилистая черта фронта отползла далеко на восток. Уродливым зобом еще выдавался на запад польский мешок, с юга и севера над ним нависали дуги австро-германских армий. Бредову казалось, что в этом месте хищные клыки врага готовы сомкнуться на горле русского фронта. Утром он хватал газету, прочитывал сводки штаба верховного главнокомандующего, с зорким напряжением искал между сухими казенными строками скрытый смысл. Названия деревень и маленьких городков, о которых вскользь упоминалось в сводках, говорили ему больше, чем длинные реляции. Карта неумолимо отмечала крестный путь русского отступления пятнадцатого года. Иногда, в минуты малодушия и душевной усталости, он был готов проклинать свою военную грамотность, готов был завидовать горожанам, с благодушным невежеством принимавшим к сведению все эти перегруппировки русской армии и ее планомерные отходы на новые «стратегически выгодные позиции».
Он пережил несколько хороших часов, когда стало известно, что взят Перемышль. Успехи русских представлялись очень значительными, в газетах печатались бравурные статьи, в обществе говорили о близком разгроме австрийцев. Но прошло немного времени, и выяснилось, что падение Перемышля мало что изменило. Карпатская операция безнадежно затянулась, и скоро пошли зловещие слухи о каком-то прорыве германцев в Галиции.
В эти дни пришел приказ о производстве Бредова в капитаны. Но вспыхнувшая было в нем радость сейчас же погасла. Он с трудом притворялся счастливым, чтобы не огорчить жену, которая с сияющим лицом поднесла ему гимнастерку с новенькими капитанскими погонами. Рано утром уходил из дому и до начала занятий в роте бродил по лесу, близко подходившему к городу. Он решил, что должен как можно скорее уехать на фронт. Хлопоты об этом мало помогали, хотя на фронте была огромная нехватка офицеров. Командир запасного батальона не хотел лишаться хорошего капитана и всячески тормозил отъезд Бредова. Тогда, скрепя сердце, Бредов нависал своей двоюродной сестре, бывшей замужем за полковником генерального штаба Носковым. Ответ пришел через две недели, когда он уже перестал надеяться. Сестра писала, что ее муж заведует отделом в управлении генерал-квартирмейстера ставки верховного главнокомандующего и берется устроить Бредова журналистом управления. Он согласился, немного ошеломленный тем, что будет находиться в самом центре военных событий, откуда легко перевестись в свой полк.
Фибровый чемодан вместил скромный багаж капитана. Он испытал глубокое облегчение, когда сел в поезд. Ровное покачивание вагона баюкало Бредова. Проносились мимо поля, станции, леса.
Он прибыл в Могилев. Щеголеватый поручик с аксельбантами, приехавший тем же поездом, узнав, что Бредову нужно в ставку, вызвался подвезти его на казенном автомобиле.
Бредов с удивлением отметил, что волнуется, подъезжая к ставке. Вспомнил, как ездил в Петербург, как вскоре после этого отправлялся вместе с полком на фронт, как праздничные толпы людей приветствовали солдат и офицеров на станциях. Давно, давно все это было!
Автомобиль остановился возле белого двухэтажного дома. Поручик любезно раскланялся. Бредов пошел к подъезду, нащупывая в кармане сопроводительные бумаги. Полевой жандарм почтительно осведомился, к кому капитан идет, почтительно принял фуражку, плащ и показал, как пройти к полковнику Носкову. По широкой каменной лестнице Бредов поднялся наверх. По коридору мягко скользили писаря, проходили офицеры, и Бредову даже стало обидно: до чего все это напоминало обычный корпусной штаб!
В канцелярского вида комнате за столом сидел офицер и со скучающим видом глядел в окно. Он протянул Бредову руку и обнял его. У Носкова было сухое бритое лицо, чуть плутоватые глаза. Бредов отдал ему письмо от его жены, рассказал, что делается в тылу. Носков, видно радуясь свежему человеку, долго не отпускал его и, только когда тот поднялся, бегло объяснил, в чем будет заключаться работа. Комендант главной квартиры отвел ему номер в гостинице. Приняв ванну и осмотрев маленькую, чистенькую комнату, окно которой выходило, в садик, Бредов почувствовал себя удивительно хорошо.
На следующий день он начал работать. В его распоряжение поступали важные военные документы. Иногда ему поручалось составлять бумаги, главным образом компиляции и выборки из донесений или ответы на многочисленные письма, приходившие в ставку со всех концов России. Просматривая эти письма, Бредов поражался, до чего они разнообразны по содержанию. Какие-то люди предлагали составлять планы уничтожения врага, отставные генералы просили назначения в действующую армию. Иван, сын Петров Клетчагин, всеподданнейше припадая к светлейшим стопам государя императора, обращал внимание, что в Саратове рабочие заводов ведут себя дерзко, и не худо бы их всех зачислить на военную службу, дабы там можно было поступать с ними со всей воинской строгостью. Священник из Богодухова скорбел об упадке благочестия среди воинов Христовых и рекомендовал отправить на фронт чудотворную икону смоленской божьей матери, которая поможет поразить антихриста Вильгельма. Бредов хотел было уничтожать все такие письма, но Носков, которому он сказал об этом, нахмурившись, попросил его не нарушать делопроизводства, установленного свыше.
— Да, но ведь это никому не нужная чепуха! — пытался возразить Бредов, и тогда полковник внушительно напомнил ему, что в казенных делах не может быть чепухи и что все они подлежат неуклонному выполнению, в данном случае — подшивке за надлежащими номерами в папки входящих бумаг.
Через два дня после прибытия Бредова в ставку Носков представил его генерал-квартирмейстеру, генерал-майору Михаилу Саввичу Пустовойтенко.
У Бредова осталось впечатление, что генерал-майор как-то неприязненно посмотрел на него, и он сказал об этом Носкову.
— Как вы еще молоды в наших делах! — засмеялся полковник и дружески положил руку на плечо Бредова. — Я не хочу вас обижать, но неужели вы думаете, что Пустовойтенко есть какое-то дело до того, что вы, обер-офицер, работаете в журнальной части? У него хватает своих дел.
Подмигивая Бредову плутоватым глазом, Носков, любивший посплетничать, сообщил, как Пустовойтенко сделался генерал-квартирмейстером ставки. Прежний начальник штаба при Николае Николаевиче генерал Янушкевич рекомендовал Пустовойтенко, с тестем которого он был хорош, генералу Алексееву, и тот, не зная лично Пустовойтенко, взял его к себе. Теперь Алексеев жалеет о своем выборе, но ему неловко отделаться от своего генерал-квартирмейстера.
В столовой Бредов познакомился с капитаном Нестроевым — веселым, добродушным человеком. Капитан работал в общем отделе, но его знал весь штаб. «Это дока», — сказал про него Носков. И Бредова поразило выражение некоторой зависти в голосе полковника. Позже он узнал, что Нестроев зарабатывал большие деньги патриотическими брошюрами о героях войны, которые он печатал в газетах под чужим именем.
Нестроев весь искрился весельем и доброжелательством, никогда плохо ни о ком не говорил, и Бредов охотно с ним встречался, тем более что они были соседями по гостинице. Вечерами Нестроев запирался у себя и тихо играл на цимбалах.
— Неловко, знаете, — сказал он Бредову, который спросил его, почему он прячет от людей свое искусство. — Цимбалы — это такой инструмент, на котором играют уличные музыканты, а я офицер.
И, подсев к Бредову, рассказал, как много лет тому назад в Москве, на Никитском бульваре, он встретил музыканта, играющего на цимбалах, и его игра так ему понравилась, что он каждый день ходил слушать музыканта и потом сам купил цимбалы. Бредов с любопытством смотрел на старого стяжателя. А тот, положив цимбалы на широко расставленные колени, двумя молоточками извлекал из инструмента нежные, мелодичные звуки.
— Не офицерское занятие, — вздыхая, признавался Нестроев, — а отказаться не могу.
После игры он пил красное сухое вино и начинал рассказывать анекдоты, которых знал множество.
— Хотите, — предложил он однажды Бредову, — расскажу вам настоящий русский анекдот.
Он хитро улыбнулся и начал:
— Сел военный писарь с пишущей машинкой у Александровской колонны в Петербурге и настукал двадцать отношений в разные военные учреждения: «Сего числа я сел у Александровской колонны, о чем и уведомляю вверенное вам учреждение». Получив такую бумагу, все учреждения запрашивают, зачем такой-то сел у Александровской колонны и на какой предмет об этом сообщает. Тогда писарь отвечает, что все будет сообщено дополнительно, и требует себе помощника для подшивки бумаг и регистрации входящих и исходящих. Он опять получает запросы, предполагается ли дополнительное сообщение в скором времени. Он отвечает, что сообщение будет послано своевременно, и, так как переписка все увеличивается, просит уже второго помощника. Ему добавляют несколько писарей, дают помещение, а через год строят каменный дом для создавшегося таким образом департамента.
— Почему вы это рассказываете? — спросил Бредов.
— Да так… для подшивки!
«Подшивает он тонкой иглою!» — подумал о нем Бредов.
Вечером в садике, расположенном возле штаба, он увидел гуляющего генерала. По портретам узнал Алексеева — начальника штаба верховного главнокомандующего. Алексеев шел медленно, заложив за спину руки. Бредов почтительно отдал честь. Генерал ответил ему и, проходя мимо, внимательно посмотрел на него. У Алексеева были черные с мохнатыми бровями глаза, усы с проседью, среднего роста плотная фигура. Бредов разволновался. Вот он, человек, отвечающий за судьбу России! В одной этой маленькой человеческой голове сжаты просторы тысячеверстных фронтов. Человек этот должен взвешивать и видеть все то, что происходит от Черного до Балтийского моря, его приказу повинуются миллионы людей!..
Бредов с уважением глядел на плечи, выдерживающие такую тяжесть. Алексеев шел сгорбившись, устало подымая ноги. Бредов смотрел на него сзади, и внезапно страх охватил его. Верит ли генерал в победу? Ведь ему лучше, чем всем другим, ясны причины поражений русских. Отдана Галиция, добытая большой кровью. Только недавно потеряна Варшава, пали лучшие русские крепости — Новогеоргиевск, Брест-Литовск, Ковно, Осовец… «А если… если Алексееву ясно, что победы не будет?» — ужаснулся он своим мыслям.
По дороге, покрытой мягкой шелковой пылью, во главе остатков своей роты шел Петров. Ему нестерпимо хотелось пить. Он облизывал распухшим языком губы, песок хрустел на зубах. С трудом переставляя ноги, за ним брела кучка солдат. Тяжело вздохнув, Петров подумал, что сегодняшний день надолго запомнится ему. Только час тому назад рота вышла из боя. На лесистом холмике остались убитые, пустые гильзы патронов… Десятая рота прикрывала отход полка и отступала последней. Больше двух верст пробирались лесом и вышли наконец на дорогу. Воздух сотрясался от артиллерийской стрельбы. Бой, очевидно, шел с обеих сторон, и Петров с раздражением поглядывал влево, где совсем близко рвалась над деревьями германская шрапнель. Он увидел Карцева, у которого голова была перевязана розовым от крови бинтом, и окликнул его. Карцев шел шатаясь. Голицын нес его винтовку.
— Сейчас же на перевязочный пункт! — распорядился Петров.
— Ничего, — пытаясь улыбнуться, ответил Карцев. — Я с ротой останусь…
Пить хотелось так мучительно, что больше ни о чем нельзя было думать. Петров решительно свернул с дороги к какому-то деревянному строению. Строение это оказалось обыкновенным сараем со сломанными дверями. Сквозь разбитую стенку он увидел зеленый матовый отсвет и, проворно обежав сарай, нашел большую круглую лужу, покрытую плесенью. Наклонившись, отогнал руками плесень и стал пить. Вода была теплая, с резким запахом болота, но он не мог оторваться и все пил и пил. Потом сел, прислонясь к стене, снял мокрые сапоги. Солдаты, толкаясь, бежали к луже. Напившись, обливали головы. Петров перемотал мокрые портянки, с трудом натянул сапоги и встал. Опять вышли на дорогу. Справа что-то началось. Там чаще стали стрелять, слышались крики. Худощавый прапорщик в стоптанных солдатских сапогах бежал оттуда к роте.
— Приказ начальника дивизии! — кричал он. — Я вам говорю, что приказ начальника дивизии! Куда же вы уходите?
— Мы прямо из боя, — резко сказал Петров. — Не спим уже три ночи. У меня в роте осталось тридцать человек…
И вдруг с внезапно вспыхнувшей злобой он закричал:
— Какой же тут к черту приказ? Какой же тут к черту начальник дивизии? Где он сидит? Откуда его приказ? Из тыла? За двадцать верст посылает приказы?
Весь охваченный яростью, он бросал в лицо прапорщику самые отборные ругательства. Потом повернулся и диким голосом скомандовал роте двигаться. Пыль прилипала к мокрым сапогам. Скуластое лицо Петрова дрожало. Он услышал тонкий крик и увидел, как прапорщик, нелепо подымая ноги, подбегал к нему.
— Я вам говорю, там гибнут наши! Нужна помощь, я же вам правду говорю!
И он, наклоняясь к Петрову, шел с ним рядом и заглядывал ему в лицо. Петров молчал и ускорял шаги, но прапорщик не отставал от него.
— Я соврал про начальника дивизии, — сказал он и всхлипнул. — Мы за все время ни разу не видели его. Но надо же нам помочь! Ах, как нас уничтожают, ужасно, как нас уничтожают!
«Приходится отдавать последнее!» Петров устало поднял руку, останавливая роту. Украдкой поглядел на солдат, хотел сказать им несколько слов, но спазма сжала горло. Снаряд разорвался так близко, что многих ударило комьями земли. Но люди стояли, не разбегаясь, в смертном равнодушии. Когда двинулись к лесу, Петрову показалось, что никто не идет за ним. Он первый лег у опушки и, не отдавая команды открыть огонь, стал стрелять из винтовки по наступающим германцам. Радость охватила его, когда он почувствовал локоть Рогожина, когда увидел других своих солдат, лежавших в цепи, и с ними — раненого Карцева.
«Друзья, друзья!» — думал он и движением головы стряхивал слезы, которые мешали ему целиться. Он забылся, не ощущал больше своего тела, не знал, что с ним… Была первая майская гроза. Серебряный ливень обрушился на семинарский сад, крепкие водяные струи били по листьям, пригибая их книзу, сбегали по морщинам стволов. Прокатился гром, густой и мягкий, как бас соборного протодьякона. От земли, от деревьев, от дождя шел теплый, пьянящий запах. Ветка больно ударила Петрова в бок. Гром слышался ближе…
Петров вздрогнул, открыл глаза. Рогожин толкал его. Петров вскочил. Неужели он уснул в бою, под выстрелами?
…Теперь они перебегали под деревьями. Иногда тот или другой солдат останавливался, припадал к стволу сосны и стрелял. Сверху, сквозь мощные кроны деревьев, прорывались синие просветы неба, падали солнечные лучи.
Голицын, посланный в разведку, выскочил из кустов и махнул рукой.
— Назад! — протяжно крикнул он. — Обошли нас, сейчас ударят!
Солдаты бросились назад.
— Спокойнее, спокойнее, — остановил их Петров. — Не в первый раз пробиваемся, и теперь пробьемся.
Он держался за Голицыным, доверяя его мудрости, и все посматривал на солдат, боясь, что они побегут. Близко сзади застрочил пулемет. Кто-то пронзительно крикнул. Пули со свистом били по стволам, сшибали листья и ветки. На мгновение стало тихо. Шрапнель разорвалась высоко в воздухе. Рухнула вершина дерева — груда свежих, совсем еще молодых, трепещущих листьев, разбитые, белые в переломах ветви. Длинный лоскут молодой коры висел, как сорванная кожа. Голицын шел беглым шагом, пригибаясь к земле. Сбоку послышался треск сучьев. Выбежал толстый фельдфебель с бурым лицом и, сердито посмотрев на Петрова, скрылся в кустах. За ним бросилось несколько солдат. Рота ускорила шаг. С трудом пробирались сквозь колючие заросли ежевики. Лес становился гуще, сосны выше. Выстрелы слышались все дальше позади. Вышли на маленькую круглую поляну. Посредине — громадный выкорчеванный пень. Возле него на животе лежал стонущий солдат. Темная, кровь пропитала его гимнастерку и стекала на землю.
— Перевязать бы его, — сказал Рогожин.
Он опустился на колени, расстегнул раненому шаровары и осторожно сдвинул их к коленям. Рана была на пояснице. Скупо намочив тряпку водой из манерки, Рогожин стер кровь вокруг раны. Он с недоумением показал Голицыну на частые рубцы, пересекавшие зад раненого.
— Поротый он, — пояснил Голицын.
Взяв у Рогожина тряпку, он легко провел по рубцам. Раненый лежал неподвижно, стонал. Рана зияла выше иссеченного зада, кровь все еще текла, густея. Подошел Петров и резко отступил назад. Охваченный стыдом и горем, он отошел в сторону и, не выдержав, побрел дальше. Узенькая изумрудная ящерица скользнула по земле и замерла, прижавшись к зеленым листьям куста. Откуда-то сверху дружелюбно прочирикала птичка.
— Да, мы отступаем, — громко сказал Петров, — отступает вся наша армия. Мы отдали все, что завоевали в первые месяцы войны, у нас нет снарядов, нет достаточного числа винтовок и, кроме того… — Он остановился, боясь высказать последнюю, самую страшную мысль.
Он пошарил в кармане, отыскал папиросы и закурил.
— Надо идти к роте, — снова вслух произнес он. — В конце концов, разве я виноват? Я не могу отвечать за все безобразия и подлости, которые совершаются в России. Но наши солдаты… Если бы не вся эта сволочь там, наверху, — на фронте и в тылу, — как бы били русские воины своих врагов!..
Послышался слабый голос, зовущий Петрова.
— Кто там? — крикнул он.
— Петров, помогите!..
Он бросился вперед. Под деревом лежал штабс-капитан Тешкин. Его голова была немного приподнята, черные спутанные волосы свисали на лоб, к широко раскрытым, испуганно глядевшим глазам.
— Помогите… я тяжело ранен… — прошептал он. — Не покидайте меня…
И вдруг совершенно непроизвольно Петров сделал движение, точно хотел уйти. Тешкин тоненько застонал, и его беспомощно вытянутые ноги дрогнули.
— Кто вас оставил здесь?
— Солдаты… В сущности, они правы… Что хорошего я им сделал?.. С какой стати было им возиться со мной?
Он закрыл глаза. Голос его прерывался, слова перемежались с хрипами и стонами.
— Юноша, — заговорил он, — я старше вас на двадцать лет, чего только я не испытал, чего не знал в жизни!.. У меня была черная, страшная жизнь… о… о, как больно говорить!.. Меня пинали, били, гнали. Меня не пускали на человеческие праздники… Меня любили только за деньги — на рубль, на пять рублей. За деньги мне прощали мои угри, вернее, соглашались не замечать их… Я жил не как человек, а как отросток слепой кишки — ненужный, рудиментарный придаток, от которого, когда он мешает, избавляются посредством операции. Говорят, у будущего человека не будет такого отростка. Значит, и не будет таких людей, как я. Меня не трогали людские, несчастья, как людей не трогали мои. Разве мало таких одиноких на свете? Ах, как мне хотелось хорошей, цветущей жизни, большого дела, красоты мне хотелось, Петров, музыки, садов… Будет ли когда-нибудь на земле такая жизнь? И вот я на чужой земле умираю за чужое дело… Мне холодно, пусто… Петров, где вы? Не уходите… Петров, у меня на груди в кармане пакет. Возьмите его. Где вы, Петров?.. Дайте руку… Отчего я не вижу вас?.. Тухнет день, да? Неправда!.. Солнце… вон там, в просвете солнце… Петров, я ви…
Он не договорил. Большая мутная слеза выкатилась на угреватую щеку. Его рука отяжелела в руке Петрова. Но еще долго она оставалась теплой, как бы живой.
Петров вынул из грудного кармана мертвеца пакет. В нем был второй, с надписью (буквы были длинные, угловатые, чем-то напоминавшие самого Тешкина):
«ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ НАЙДЕТ МЕНЯ МЕРТВЫМ, — МОЕМУ НАСЛЕДНИКУ».
Петров осторожно, чтобы не испортить надписи, вскрыл конверт, нашел в нем фотографическую карточку Тешкина, две новенькие сторублевки и письмо. Портрет и деньги были аккуратно перевязаны ниткой. Карточка изображала Тешкина в штатском костюме. Он сидел у стола, держа на коленях книгу, и смотрел неприязненным, насмешливым взглядом. Петров прочитал:
«Дорогой друг! Кто бы ты ни был, исполни последнюю просьбу одинокого человека. Меня уж нет. Все, что от меня осталось, — это фотография, которую ты нашел в письме. У меня нет родственников, нет друзей. Страшно исчезнуть совсем, не оставив в жизни никакого следа. Ты — мой наследник, единственный человек, который будет обо мне помнить. Отметь дату моей смерти на обороте карточки и повесь ее под стеклом (чтобы не загадили мухи) в своей комнате. В годовщину моей смерти вспомни на пять минут обо мне. Посмотри на портрет и подумай, представь себе, что жил на свете такой человек, Иван Андреевич Тешкин. Был он живой, как и ты, в детстве его звали Ваней. Потом можешь забыть его до следующей годовщины. Вот и все, о чем я прошу тебя. В благодарность оставляю тебе двести рублей, может быть, эти деньги помогут тебе лучше жить. Прощай. Постарайся исполнить то, о чем я прошу тебя, ведь это так немного, не правда ли?
Иван Тешкин».
На обороте карточки крупными угловатыми буквами было написано:
«ИВАН АНДРЕЕВИЧ ТЕШКИН
Родился в городе Туле, семнадцатого мая 1872 года.
Убит на фронте мировой войны
. . . . .191. . . . года».
Поработав около пяти месяцев в ставке, Бредов освоился с ее бытом, узнал весь распорядок жизни — такой величественной и таинственной со стороны. Каждое утро в одиннадцать часов Алексеев отправлялся к царю с докладом. На десятиверстных картах, развешанных в комнате, были нанесены последние сводки с фронтов. Царь сидел неподвижно, курил, украдкой, со скукой, поглядывал на генерала — скоро ли тот кончит? Потом выслушивал уже написанные Алексеевым распоряжения, никогда их не оспаривая, а днем, запершись у себя, тайком раскладывал пасьянсы или играл с флаг-капитаном Ниловым, неразлучным своим другом, в любимую карточную игру — безик.
Бредов любил работать. Целые дни он готов был проводить за письменным столом, лишь бы только отвлечься от странного беспокойства, которое все более мучило его. Но бумаги, проходившие через руки Бредова, возбуждали в нем чувства, менее всего сулившие покой. Поступали донесения о развале тыла, о большом количестве бродящих нижних чинов, ведущих себя распущенно, о неурядицах, недоставленных боевых припасах, о порке и расстреле нижних чинов, о самострелах, дезертирах, о добровольно сдавшихся в плен. Было немало потушенных дел о мародерстве, о бездарных генералах, о гнилых солдатских сапогах, поставляемых интендантами. Однажды, копаясь в старых делах, Бредов наткнулся на папку с делом об операции в Карпатах. Там он прочитал, что зимнее обмундирование по чьей-то преступной небрежности не было доставлено войскам, и два месяца они пробыли в горах раздетые и почти босые. Официальный отчет насчитывал более семи тысяч обмороженных нижних чинов, эвакуированных в тыл.
Бредов в отчаянии думал, что воевать дальше так нельзя. Он присматривался к работникам ставки и видел, что все они, за редкими исключениями, настроены очень спокойно, всегда обедают вовремя и не озабочены судьбой войны. Их внимание поглощала повседневная мелкая суета, ревнивое наблюдение друг за другом, жажда карьеры. В ставке знали, что командующие армиями и фронтами часто отказывались от операций, которые хотя и были необходимы, но содержали в себе известный элемент риска, отказывались, не желая портить своего служебного положения, и все считали это в порядке вещей. Знали, что многие донесения преувеличены, и часто там, где указывалось, что неприятель разбит и доблестные войска на его плечах ворвались в окопы или деревню, было на деле мирное занятие очищенных противником позиций. Чаще всего ставка лишь регистрировала события, происходившие на фронтах, подтверждая своим авторитетом распоряжения главнокомандующих. Каждый, кому удавалось сфотографироваться с царем на групповом снимке, был горд, точно получил боевой орден. Когда случалась большая военная неудача, о ней говорили прежде всего как о неудаче командующего армией и гадали, что ему за это будет. Но мало кто задумывался над тем, что потерпела поражение русская армия. К поражениям так привыкли, что с чиновничьим равнодушием регистрировали новые удары германцев. В управлении дежурного генерала, ведавшем переменами и продвижением личного состава в армии, кипело больше людских страстей, чем в управлении генерал-квартирмейстера, ведавшем оперативной стороной. Знали, что некомплект в оружии, снарядах, в обученных кадрах был так велик, что до весны шестнадцатого года нельзя и помышлять о каких-либо крупных действиях.
По инициативе Алексеева было созвано совещание главнокомандующих фронтами. Царь провел первое заседание, пригласил потом генералов к себе на обед, а на следующий день неожиданно уехал в Крым. Совещание закончил Алексеев.
Бредов ужасался, видя, каким бездарным, ничтожным людям вверялась защита страны. Огромнейший фронт катился назад, врагу были отданы Галиция, Польша и часть Прибалтики, сотни, тысяч солдат гибли или сдавались в плен, пропадало ценнейшее военное имущество. И между тем, как ни в чем не бывало, писались сводки штаба верховного главнокомандующего, генералы, офицеры и чиновники выполняли очередную работу, фельдъегеря доставляли в запечатанных портфелях бумаги. Колесо войны крутилось, и если менялись отдельные его спицы — вместо Николая Николаевича верховным главнокомандующим стал числиться царь и вместо Янушкевича начальником штаба назначили Алексеева, — то все равно не менялся стремительный бег этого колеса в пропасть. Бредов мучился, искал для себя выхода. И как-то раз, после долгого разговора с пьяным Нестроевым, когда капитан изложил Бредову, в чем, по его мнению, заключается сущность умной жизни — ни во что не вмешиваться и ладить с начальством, ибо оно всегда право, — Бредов без всяких колебаний написал рапорт об откомандировании его в строй. При отъезде ему присвоили звание подполковника.
Горели военные склады. Черно-рыжий лохматый дым поднимался в бледно-голубое весеннее небо. Дороги были покрыты сломанными повозками, разорванными мешками с продовольствием, новым и старым обмундированием, военной амуницией. Когда армия еще дралась с прорвавшимся противником, на фронте не было снарядов, патронов и винтовок. Когда же разбитые, плохо вооруженные части бросились назад и в стремительных, беспорядочных маршах достигли ближайших за фронтом тылов, оказалось, что там — на складах, в неразгруженных вагонах и на платформах станций — лежали крупные запасы боевого снаряжения. Некому было проследить за их перевозкой, и так пролежали они все эти страшные дни в нескольких десятках километров от места боя. Теперь эти запасы взрывали, чтобы они не достались неприятелю. Интендантские чиновники в радужном настроении суетились вокруг складов. У них большой праздник, никто теперь не мог учесть их! Армия отступала — многотысячная, грузная, все еще могучая своим числом. Солдаты бродили по окрестным селениям. Одни стремились пробраться домой, другие — отставали, предпочитая закончить войну в плену.
Петров заменил раненого Руткевича. Понурясь, он шел впереди четырех десятков солдат, уцелевших от последних сражений. Лицо его заросло кудрявой рыжей бородой, усталость была в глазах. Он вспомнил Иркутск, военное училище, парадные военные карты, развешанные на стенах классов, извилистые линии фронтов. Там решалась судьба России — страны, протянувшейся на две части света. Оттуда приезжали герои, газеты писали о величественных сражениях. Пленные австрийцы, прибывавшие целыми эшелонами, свидетельствовали о победах и мощи русского оружия. Девушки встречали раненых, дарили им цветы… Было стыдно оставаться в тылу… Затем — производство в прапорщики, отправка молодых офицеров под музыку на вокзал, напутствия, поцелуи, слезы, оборвавшаяся любовь, клятвы в верности и прочее, прочее, прочее…
Петров не слал домой писем, так как в России представляли себе войну так же, как он прежде представлял ее, и ему не хотелось нарушить их иллюзии… Что происходит сейчас на фронте? Долго ли будет продолжаться отступление? Петров с горечью подумал, что он, русский офицер, очень слабо понимает положение. Задачи той или другой операции для него оставались таким же секретом, как и для рядового солдата.
Летнее солнце сильно грело. Как назло, день был прекрасный, небо синело, пели птицы. А полк метался в гуще растрепанных, перемешавшихся частей, обозы врезались в его ряды. В поле, возле дороги, лежали стонавшие раненые, и фельдшер беспомощно ходил возле них.
Армия текла по дорогам и без дорог, как течет в половодье река. Проехала артиллерия. На передке сидел солдат с веселым лицом, держа в руках гуся. Другой гусь был привязан за лапу к передку. Кругом смеялись. Сбоку по тропинке проходил эскадрон. Оттуда слышались переливы гармошки.
— Эх, разнесчастная пехота! — горько шутил Голицын. — Топает да топает, пока деревянный крест не выслужит…
Он курил сушеные листья, мелко накрошив их и перемешав с какой-то дрянью. Едкий, вонючий дымок стлался над ним. Самохин, две недели лежавший с простреленной рукой и только недавно вернувшийся в строй, попросил закурить. Голицын с сожалением посмотрел на окурок, затянулся и бережно протянул его Самохину.
— Ты вот меня моложе, — наставительно сказал он, — раздобыл бы курева и дядю угостил бы…
Самохин не отвечал. Внимательно поглядев на него, Голицын спросил:
— Что же ты, парень, скучный? Отступлению не рад?
— Мне все равно — отступать или наступать, — ответил Самохин и сморщился: докуренная папироска обожгла ему губы. — Начальству виднее… Оно знает…
— А ты что знаешь? Или тебе ничего не полагается знать?
— Не полагается, — покорно сказал Самохин, опуская голову. Он не верил никому, боялся разговаривать даже с товарищами по роте. Ночью же, когда его не видели, он забирался в тихое местечко и плакал. Плакал оттого, что было страшно и тяжело. Жил он как во мгле, оторванный от всего мира. По-прежнему боялся Машкова, тупо выполнял его приказы. К боям привык. Стрелял, шел в атаку. Однажды услышал, что война скоро кончится. Это известие глубоко его потрясло: ему думалось, что война никогда уже не выпустит его. С тех пор он прислушивался к разговорам солдат о мире и ночами мечтал, как его, Самохина, отпустят и никогда, никогда больше он не увидит Машкова, офицеров…
На другой день был успешный бой с немцами, но и это сражение ничего не изменило. Густые массы отступающих русских двигались на северо-восток, и отдельные стычки не имели никакого значения. Уречин пытался задержаться на занятом участке. Четыре пулемета, еще уцелевших в полку, обстреливали луг, за которым расположились германцы, а приданная полку батарея, хорошо пристрелявшись, громила наступавшие цепи противника. Мимо полкового штаба проскакал казачий разъезд. Есаул, придержав поджарого, задравшего голову донца, крикнул Уречину, что справа идут крупные силы немцев, а полк, бывший на этом участке, отступил. Уречин сердито посмотрел на есаула, как будто тот был виноват во всем, и приказал сняться с позиции.
Третий батальон задержался, охраняя отступление. Остатки десятой роты цепью лежали на гребне холма, наблюдая громоздкую массу уходящей армии. Пули, вздымая пыль, били в сухую землю. Откуда-то из-за леса непрерывно стреляли германские пушки. Шрапнели рвались над колоннами, и с гребня хорошо было видно, как падали люди. Слева карьером вынеслась русская батарея. Пожилой офицер, осадив коня, скомандовал, и орудия разъехались на полные интервалы. Прислуга еще на ходу соскакивала на землю, передки, отделившись от орудий, отъезжали назад. Телефонисты бегом тянули провод от высокого дуба к батарее. Карцеву всегда нравилась работа артиллерии. Артиллеристы были почти все на подбор — рослые, смышленые, быстрые в движениях люди. Телефонист, лежа на земле и не отрывая трубку от уха, что-то торопливо передал старшему офицеру, и тот, на лету подхватывая его слова, весело приказывал:
— По батарее, уровень тридцать ноль, сто, трубка сто…
Стукнули тяжелые затворы, длинные металлические стаканы с коническими головками скрылись в черных отверстиях («Точно хлебы в печь сажают», — подумал Карцев). Резкие голоса закричали «готово», офицер крикнул «огонь», и гром шести орудий ошеломил пехотинцев.
— Сто семь, трубка сто семь, два патрона, — звонко командовал офицер, и огненный вихрь вырывался из длинных хоботов. Визг снарядов быстро удалялся.
— Хорошо, два орудия подбиты! — задорно передавал телефонист.
— Спасибо, родная батарея! — крикнул офицер. Потом поднял бинокль к глазам, скомандовал: — Первая полубатарея, шрапнелью! Вторая — гранатой!..
С восхищением смотрел Карцев на эту кипучую, четкую работу. «Нам бы так», — с завистью подумал он.
Батарея вдруг прекратила огонь. Подъехали передки.
— Эх, еще бы хоть очереди две, — вздыхая, сказал усатый фейерверкер. — Никак снарядами не разживемся!
Лошади взяли с места крупной рысью, грохот тяжелых колес затих на дороге.
Петров воспаленными глазами (он не спал уже третью ночь) следил за наступающими немцами. Они продвигались медленно, осторожно, видимо не зная, что батарея уже снялась.
— Еще час надо продержаться, ребята! — сказал он.
Карцев тихо доложил, что патронов не больше как по десять штук на винтовку. Петров, не отвечая ему, смотрел в бинокль и думал: шагах в четырехстах от гребня тянулась низенькая поросль; если враги доберутся до нее, трудно будет потом отступать, перестреляют всю роту…
— Карцев, — вполголоса сказал он, — возьми свой взвод, проберись к зарослям и попробуй там продержаться до сигнала. Береги патроны!
Сам он с перевязанной головой остался в строю. Чтобы отвлечь внимание германцев, рота открыла редкий огонь. Распластавшись, солдаты поползли вперед. Их заметили. Пули сухо защелкали, врезаясь в землю. Банька охнул. Пуля, скользнув по спине, оцарапала ему зад.
— А ты чего ее выставил?.. — сердито сказал Голицын. — Неужто до сих пор ползти не научился?
Сам он полз, волочась, как раздавленный, держа голову набок и прикрывая ее спереди лопатой. Первым дополз Карцев и лег за кустами. Тут были окопы, вырытые раньше, и взвод занял их. Голицын, ворча, перевязывал насупившегося Баньку. Черницкий вежливо спрашивал ефрейтора, как же он теперь будет сидеть.
— Ничего… Так и буду: на раненом заде и в том же стаде! — отшучивался Банька.
— Ползут, ползут! — придушенным голосом сказал вдруг Рогожин. — Стреляйте, братцы!
— Подожди! — шепнул Карцев. — Когда будут у той желтой кромки, мы их поймаем. Целься по кромке, без команды не стрелять!
Он лег удобнее. Поймал мушку и ровно навел винтовку. В зеленых стебельках что-то шевельнулось, подвинулось. Карцев не спеша нажал спуск. Сбоку тоже затрещали выстрелы. Самохин стрелял часто. Голицын выцеливал каждую пулю. Германцы затихли. Потом опять застрочил пулемет. Черницкий лежал рядом с Карцевым. Вдруг он перестал стрелять. Карцев повернул к нему голову. Винтовка вывалилась из рук Черницкого, правое плечо было залито кровью. Никогда еще за всю войну Карцев не чувствовал такого горя.
— Гилель, друг!.. — прошептал он. — Гилель, Гилель.
Из роты сигналили вернуться. Карцев, Голицын и Рогожин тащили Черницкого. Его голова моталась, лицо сделалось серым. За гребнем остановились, и Карцев расстегнул на раненом гимнастерку. Пуля попала под ключицу, вышла возле правой лопатки. Кровь текла. Черницкий не шевелился. Только когда рану перевязывали, он застонал, открыл глаза.
— Свадьба! — невнятно пробормотал он, и слабая улыбка показалась на его посиневших губах. — Скажи, Карцев, зачем мне вся эта свадьба?.. Если увидишь Мазурина, пожми ему руку… Может быть, он дождется… дождется…
Поздно ночью полк шел какой-то неведомой дорогой.
Вокруг пылали пожары. Солдаты жались друг к другу. Все было необычно и страшно. Отсветы пожаров колебались в небе, точно там раскачивались от ветра исполинские деревья. Даже собаки не лаяли, не слышно было ни одного звука, который бы показывал, что здесь сохранилась обычная жизнь. А издали доносился глухой мощный гул, похожий на землетрясение. Карцев шел, подняв голову. Он не видел ни Петрова, ни Голицына, шагавших возле него, никого… Ему казалось, что идет он в небывалой пустоте, шагает по рытвинам и обломкам и далеко-далеко впереди — одни развалины. Он взглянул вверх, отыскивая в небе звезды, и на востоке увидел одну — горевшую в ночи чистым, ярким светом.
Он простер к ней руку, улыбнулся.
— Мы дождемся утра, — сказал он так громко, что на него оглянулись солдаты. — Мы дождемся!


Брусилов еще ни разу не был в ставке. Он стоял у окна своего вагона, смотрел на пути с красными товарными составами, с рыхлым и потемневшим весенним снегом, набившимся между шпалами, и сердито разглаживал светлые висячие усы. В свои шестьдесят три года он был моложав и строен.
В дверь постучали. Вошел генерал Клембовский, с портфелем в руке, поздоровался с Брусиловым и произнес, видимо, заранее заготовленную фразу:
— А ведь сегодня, Алексей Алексеевич, первое апреля — не посмеялись бы сегодня над нами там, — он кивнул в сторону города. — Мастодонты-то какие: Куропаткин, Эверт…
Брусилову не хотелось шутить. Он испытывал глухое беспокойство и неодобрительно взглянул на своего начальника штаба. Провоевав почти два года, он хорошо знал, что ставка с ее большим, вялым аппаратом, с многочисленными чиновниками — генералами и офицерами, занятыми, как важнейшим делом, личной карьерой, с царем — верховным главнокомандующим, не любившим и не понимавшим военного дела и томившимся здесь, как узник, и слабовольным Алексеевым, начальником штаба, — эта ставка не способна принимать смелые решения, как огня боится всякого риска, и может теперь помешать ему, командующему Юго-Западным фронтом, осуществить заветные планы. «Трудно, ох как трудно будет мне с ними», — подумал он и, взглянув на Клембовского, спросил:
— Время идти, Владислав Наполеонович?
— Да, время, Алексей Алексеевич.
Брусилов надел шинель, взял фуражку и, комкая перчатки, медленно вышел из вагона.
Утро было свежее, с востока дул холодный ветер. Брусилов обходил кучи мусора на путях и отметил про себя, как удручающе схожи все русские станции: чуть отойдешь от вокзала — и всюду грязь, мерзость…
«Только бы не проникала грязь в душу русского человека, — подумал он. — Дал бы бог одолеть ему черные силы врага…»
Погруженный в свои мысли, он вошел через распахнутую дверцу автомобиля, устало опустился на сиденье. Клембовский обратил внимание, что главнокомандующий не в духе, и решил отвлечь его, как предполагал он, от дурных мыслей.
Брусилов слушал, что говорил Клембовский, но слушал его по-своему: искал и схватывал в его словах только то, что касалось сегодняшнего совещания главнокомандующих фронтами.
Машина зашуршала по гравию, качнулась на камнях мостовой. Промелькнули улицы Могилева с мелкими, незапоминающимися домами, с городовыми в черных шинелях и белых перчатках, и автомобиль остановился у белого двухэтажного дома с палисадником. Полевые жандармы — огромные, с толстыми шеями, усатые люди — тянулись у входа. Брусилов вылез из машины и пошел чуть вразвалку, походкой старого кавалериста. Клембовский, поглядев на него, улыбнулся, вспомнив, что Брусилова, не окончившего академию генерального штаба, в высших военных кругах, где его не любили, иронически называли «берейтором».
Раздевшись, они прошли в небольшой зал. Плотный старичок в форме генерал-адъютанта, распахнув объятья и семеня ногами, подбежал к Брусилову, прижал руки к груди, низко поклонился и, ловко выбросив правую руку для пожатия, заворковал:
— Здравствуйте, дорогой Алексей Алексеевич, здравствуйте, родной мой!.. Я был первым, кто порадовался вашему назначению. Орел! Орел! Земно кланяюсь вам — примите от старика…
И, по-детски потянувшись к Брусилову пухлыми, красными губами, Куропаткин поцеловал его в щеку. Брусилов, скрывая нетерпение, поблагодарил генерал-адъютанта за его любезное приветствие. Куропаткин был представителем той школы русских генералов, которую Брусилов считал ржавчиной, разъедавшей русскую армию. Он с горечью видел, что немало «куропаткинских» генералов, участников несчастной японской войны, боящихся смелых решений, сторонников пассивной обороны, командовали армиями и даже фронтами в нынешней войне. Он вспомнил Эверта — теперешнего командующего Западным фронтом, Ренненкампфа, Самсонова, Иванова…
Брусилов плохо слушал Куропаткина. А тот говорил быстро и легко, не отрывая глаз от лица своего собеседника:
— Суров, суров учитель… Приходится в обороне сидеть да осторожненько кое-что у немцев перенимать. Точность у них замечательная, расчет-с. Все подсчитают, проверят и бьют… Признаюсь вам, родной мой, — он доверчиво коснулся пальцами рукава Брусилова, — я, как главнокомандующий, не решился бы наступать… От души это говорю, от души и опыта…
Брусилов стиснул зубы, желваки выдавались у него на скулах. Он посмотрел на простодушное лицо Куропаткина, на его живые карие глаза, на седенькую, с малой чернью бородку и хмуро сказал:
— Петр Великий также считал шведов своими учителями. Это, однако, не мешало ему преисправно их бить. А пруссаков мы исстари били, еще от Александра Невского. Военная наука идет у них от Фридриха — он у них главный военный немец. Подумаешь — пруссак-с! А что в нем хорошего? Шпицрутен, заводной солдат!.. Этим не возьмешь!.. Вот-с!
Куропаткин огорченно посмотрел на Брусилова и укоризненно покачал головой:
— Так то ж Петр Великий — великан! А мы что перед ним? Рядовички! Нам ли дерзать?
— Вот по великанам и равняться надо, — с придушенной яростью возразил Брусилов. — А то как бы мы еще японцев в учителя не взяли!.. Слишком много смиренности изволите, Алексей Николаевич, проявлять перед врагами нашими. Я одно знаю: передо мною противник и я должен бить его во всю храбрость солдатскую, а храбрость эта — клад, и забывать о ней не следует! А если главнокомандующий полагает, что его побьют, я на его месте дня не остался на фронте, просил бы уволить, так честнее было б, да-с!
И он в упор посмотрел на Куропаткина, ожидая, что обиженный им генерал сурово ответит ему. Но Куропаткин не любил ссориться. Он доверчиво взглянул на Брусилова и взял его под руку.
— По силам своим всегда служил государю и отечеству, — мягко сказал он. — Я не горд. Я бы и к вам.
Алексей Алексеевич, под команду пошел…
«Боже меня избави! — подумал Брусилов. — Никогда бы я тебя не взял. Хоть честен, да что в том толку?»
Он хотел отойти, но Куропаткин не отпустил его. Брусилов с удивлением заметил, что старик волнуется, какая-то невысказанная мысль мучит его.
— Алексей Алексеевич!.. Я ведь еще с турками воевал… («Со Скобелевым, — подумал Брусилов, — он-то тебя раскусил!») Сегодня мы будем счастливы доложить государю о наших планах. Кому не хочется погнать врага со священной земли русской? Но великая ответственность, на нас возложенная, зовет к сугубой осторожности. Да, да, Алексей Алексеевич, к осторожности! И нужно, чтобы мы были едины — не подобает нам по-разному говорить перед государем. Я беседовал с Эвертом, с Алексеем Ермолаевичем… Он того же мнения, что и я. Смею надеяться, что и вы, Алексей Алексеевич, что и вы… поддержите… Ведь трое всего нас — вы, Эверт да я, командуем фронтами.
Невольное отвращение охватило Брусилова.
«А, вот ты чего хочешь? Боишься, что я вам испорчу игру. И такие командуют фронтами! Бедная наша армия, бедная Россия!..»
— Простите, Алексей Николаевич, — сухо сказал Брусилов, — буду говорить и действовать, как повелевает мне долг службы.
И быстро отошел от генерала. Куропаткин остался на месте, с горьким недоумением поглядел вслед Брусилову, засеменил было за ним, но вдруг плотная фигурка его бодро выпрямилась и благоговейное выражение отпечаталось на лице. В дверь шаркающей походкой, волоча длинные, тонкие ноги, входил худой, согнутый от старости генерал. Он пожевывал белыми губами, пустые, совсем выцветшие его глаза были мертвы, длинные руки висели вдоль плоского туловища. Это был барон Фридерикс — министр императорского двора. Он шел прямо на Куропаткина и, почти наткнувшись на него, остановился, с трудом вспоминая, кто же стоит перед ним. Но вот тусклая искра мелькнула в зрачках барона.
— А-а, дорогой Алексей Николаевич… замечательно, да, замечательно, — проговорил он с обычным для него немецким акцентом и уставился на Куропаткина, будто спрашивая, что же, собственно, замечательного в том, что он его увидел. Потом с легкостью человека, не придающего никакого значения своим словам, продолжал уже другим тоном: — Э… совещание? Да, совещание у государя. Ну, оно, надеюсь, хорошо пройдет… да, хорошо пройдет…
— Я так надеюсь, — учтиво ответил Куропаткин. — Государь председательствует на совещании, и в этом я вижу залог…
Фридерикс поднял палец, похожий на засохший сучок, и важно склонил похожую на дыню голову.
— Государя нельзя тревожить, — сказал барон, смотря куда-то поверх головы Куропаткина. — Его величество переживает все… да, все… и потому долгом верноподданных… да, верноподданных… — Окончательно потеряв нить скудных своих мыслей, он двинулся вперед, с трудом переставляя ноги, потом остановился, повернул к Куропаткину лицо (тот подбежал к нему почти рысцой) и закончил: — Долгом верноподданных, это, да… из-за военных там дел не нарушать спокойствия монарха. Это да… важнее для блага государства…
И, жуя губами, бессмысленно глядел на Куропаткина. Тот мягкими, увлажненными глазами встретил его взгляд.
— Спокойствие государя… — начал было он, но Фридерикс, не слушая его, проследовал дальше.
Куропаткин вздохнул, огладил бородку, потом осторожно открыл дверь в ту комнату, из которой вышел Фридерикс, и переступил порог. Это был длинный зал с овальным столом посредине и большим портретом Александра III во весь рост, висевшим на стене. У одного из окон стояли два генерала, тихо разговаривая. Затянутый в мундир офицер, с тщательно расчесанным пробором, чуть звеня шпорами, раскладывал на столе карандаши и листы чистой бумаги. Делал он это равнодушно, как давно знакомое и надоевшее ему дело.
При виде Куропаткина офицер ловко щелкнул каблуками и, не дожидаясь ответного, разрешающего кивка генерала, продолжал свою работу. Глаза Куропаткина на какой-то миг задержались на председательском кресле с высокой спинкой, и в них появился прежний увлажненный блеск. Молодцевато развернув плечи, он бодрой походкой направился к разговаривающим генералам. Они повернулись к нему. Один из них — низенький, с толстой, кругловатой спиной — вытянул руки по швам и склонил голову. Другой — грузный старик с заостренным голым черепом и узкой седой бородой, — не сдвигая широко расставленных ног, протянул Куропаткину руку.
«Когда я был министром, не так он мне кланялся, — мелькнула мысль у Куропаткина. — Отжил я, ох, плохо мне…»
— Сердечно приветствую вас, Алексей Ермолаевич, — сказал Куропаткин, здороваясь с Эвертом. («Кабан, сущий кабан!» — подумал он…) — И вас, Михаил Саввич, — обратился он к низенькому генералу, тоже пожимая ему руку. Пустовойтенко был только генерал-майором, но занимал должность генерал-квартирмейстера ставки и числился у Алексеева ближайшим помощником.
Не стесняясь Пустовойтенко, Эверт повернулся к Куропаткину и, налезая на него животом, сердито заговорил:
— Вот они в ставке тоже знают, — он кивнул на Пустовойтенко. — Привез Брусилов план наступления всеми фронтами, — он задохнулся, и его низкий, хрипловатый голос сорвался на крикливую ноту, — а кто его уполномочил о всех фронтах говорить, а? Что он может знать о вверенном мне фронте или о вашем? Он ведь без году неделю главнокомандующий, настоящего военного образования не получил, а смеет за нас решать! Пока Юго-Западным фронтом командовал Николай Иудович Иванов, никаких неприятностей нельзя было ждать, а теперь извольте расхлебывайте… Вам бы первому выступать, Алексей Николаевич, — сильно стискивая локоть Куропаткина, сказал он. — Вы здесь старейший по званию, с вами и Алексеев считается. Надо так вопрос поставить, чтобы разные там генералы от конюшни не лезли не в свое дело! В Маньчжурии мы с вами проще воевали… без особых беспокойств. Ну вот вы, ваш фронт, — маленькие глазки Эверта впились в лицо Куропаткина, — можете вы наступать?
Куропаткин скорбно покачал головой и развел руками.
— Ну, видите, видите! — обрадованно подхватил Эверт. — У нас с вами, Алексей Николаевич, одни мысли, одна душа. Значит, как утром сговорились, так и будем действовать? Никаких там наступлений!.. А если Брусилову не терпится, пускай сам себе наступает.
Куропаткин смиренно поддакивал, пряча глаза. Только в феврале этого, тысяча девятьсот шестнадцатого года приехал он в ставку «наниматься», как едко выражались штабные о генералах, ищущих места на фронте, и просил дать ему хотя бы корпус. Корпус ему дали у Эверта. И бывший военный министр и главнокомандующий в японской войне смиренно пошел под команду своего прежнего подчиненного. Но скоро Куропаткин неожиданно для всех был назначен вместо заболевшего Плеве главнокомандующим Северным фронтом.
— Сорок лет служу государю, — продолжал волноваться Эверт, — отличен и заслужен, семеро детей у меня, и все это ставить на карту… Нет уж, слуга покорный!..
Вдруг он подобрал живот, сделался тоньше, вытянул руки по швам и склонил голову. В дверь широкой, свободной походкой уверенного в себе человека вошел высокий генерал, с темными бородкой и усами, тусклыми глазами и вяло опущенными уголками рта. За ним, немного отступя, следовал другой генерал — благообразный старик с толстым животом.
— Вот так-то, — раздраженно говорил высокий, помахивая длинной рукой. — Мне государь выговаривает, что мало шлем фронту снарядов… Это его Алексеев настропалил! А вы, Дмитрий Савельевич, как военный министр, должны всемерно мне в этой проклятой перевозке содействовать.
— Слушаюсь, ваше императорское высочество, — спокойно ответил Шуваев.
Великий князь Сергей Михайлович, увидев Куропаткина и Эверта, пошел к ним. Они ждали его, вытянувшись.
— Вот ругают мое артиллерийское ведомство, — с нарочитой грубостью сказал великий князь, — и в первую голову меня, как генерал-инспектора артиллерии! Говорят, что главнокомандующие фронтами отказываются наступать потому, что нет снарядов. А ведь я, господа, по рукам и ногам связан: на фронте распоряжается верховный главнокомандующий, в тылу — военный министр, вот и вертись между ними, как карась на сковороде!
Эверт еще больше вытянулся, у Куропаткина вырвалось что-то вроде нежного мурлыканья, и глаза подернулись прозрачным маслом.
Великий князь увидел входящего в зал Брусилова.
— А! — воскликнул он и шагнул навстречу Брусилову. — Здравствуйте, Алексей Алексеевич! — Он протянул руку. — Когда вижу вас, всегда вспоминаю, как вы манежили меня в своей кавалерийской школе. Чудесное было время! Без стремян, руки в стороны и марш-марш на барьер! Нет, право же, хорошо, хоть и трудно. Зато шенкель выработал — железный!
Брусилов стоял свободно, немного отставив ногу, и великий князь с непринужденностью светского человека заговорил о чем-то постороннем, не желая беседовать с Брусиловым на военные темы.
Двери поминутно открывались, входили генералы, начальники штабов фронтов, офицеры ставки. Появились рыжеватый генерал Сиверс с плотной, кирпичного цвета шеей — начальник штаба у Куропаткина, стройный, моложавый Квецинский — начальник штаба у Эверта, Клембовский. Бежали офицеры с бумагами, их догоняли другие, тоже с бумагами, — целый бумажный поток… Скользящими шагами прошел жандармский полковник, целомудренно покосился на великого князя, весь сжался в поклоне и бесшумно исчез за дверью.
Алексеев вышел из внутренней двери, скромно поклонился всем и тихо сказал:
— Государь идет.
Все задвигались, взволновались — будто ветер пронесся над рекой и вся она пошла зыбью. Царский скороход распахнул дверь и стал сбоку. Николай вошел с опущенными глазами, нерешительно остановился, коснулся двумя пальцами рыжеватых, табачного оттенка усов. Потом начал здороваться, обходя выстроившихся генералов. Тень скользнула по его лицу, когда он подходил к Брусилову. Брусилов всегда беспокоил его, — у него не было того придворного лоска и такта, который не позволяет говорить самодержцу ничего тревожащего и неприятного. Николай с раздражением и обидой вспомнил последний разговор с генералом на Юго-Западном фронте. Тогда на его стереотипный вопрос — есть ли у Брусилова что доложить ему, — тот прямо и резко ответил, что просит принять его для большого доклада, так как считает, что вверенный ему фронт может и должен наступать, а если царь не согласен с этим, то лучше всего было бы освободить его, Брусилова, от командования. «Теперь, если он опять будет требовать наступления, ему ответит Михаил Васильевич, — подумал Николай. — Пускай между собой и решают».
Военные дела мало его тревожили. Он считал, что это обязанности генералов, и если бы не настояния жены и Распутина, упорно твердивших, что великий князь Николай Николаевич обязательно захватит власть, он не заменил бы великого князя на посту верховного главнокомандующего, доставляющем столько беспокойства.
Поздоровавшись с генералами, Николай направился к председательскому месту за столом и вопросительно взглянул на Алексеева. Тот приблизился к нему и что-то шепнул. В эту минуту тихонько вошел Иванов, бывший главнокомандующий Юго-Западным фронтом, и смиренно стал у окна.
— Прошу садиться, — сказал царь, опустился в свое кресло и кивнул Алексееву: — Начинайте, Михаил Васильевич.
«Неужели же государь так ничего и не скажет? — подумал Брусилов. — Хотя бы несколько слов произнес».
Но Николай привычным жестом погладил усы и принялся вертеть в руках карандаш.
Алексеев приступил к докладу. Он говорил негромким, ровным голосом.
— Цель совещания главнокомандующих, созванного по приказу его императорского величества, — начал он, — выработать точный план боевых действий на тысяча девятьсот шестнадцатый год. К сожалению, наши возможности исключают одновременный удар всеми тремя фронтами…
Он остановился и обвел глазами сидящих за столом.
Шуваев сгорбился. Иванов нервно поглаживал бороду. Эверт грузно оперся локтями о стол, и на лице его было привычное, равнодушное выражение: «Все, все знаю, что ты скажешь… ничем не удивишь…»
Куропаткин кивал головой, то скорбно, то сочувственно. Брусилов хмурился, сплетенные в пальцах его руки лежали на столе. Он заметил, что Эверт даже не пошевельнулся, когда Алексеев заявил, что все резервы и всю тяжелую артиллерию положено отдать Западному фронту для нанесения главного удара на Вильно.
— Кроме того, — продолжал Алексеев, — решено (все отметили, что он говорил безлично о тех, кто принимал решения) часть сил перебросить на Северо-Западный фронт, который ударной своей группой, двигаясь с северо-востока, должен облегчить наше наступление на Вильно.
Тут он сделал маленькую паузу, наклонил голову, сильнее оперся руками о стол и быстро заговорил:
— Что же касается Юго-Западного фронта, который, как мы знаем, к наступлению не способен, — он почти незаметно повернулся в сторону Иванова, — то там должно придерживаться строго оборонительной тактики. — Глаза его скрестились с глазами Брусилова, в упор смотревшего на него, и он поспешно закончил: — Но как только обозначится успех других фронтов, то и Юго-Западный может по мере своих сил содействовать наступлению.
Он посмотрел на царя, и Николай, как школьник, врасплох застигнутый учителем, минутку трудно молчал и затем обратился к Куропаткину:
— Прошу вас, Алексей Николаевич…
Куропаткин проворно встал, низко поклонился. Вся его плотная фигурка со старчески свежим лицом и мягкими карими глазами излучала благодушие и честность. Говорил он быстро и легко, готовыми, круглыми фразами, и Брусилову вдруг показалось, что это щелкает какой-то особый человекообразный аппарат.
— По священному приказу его императорского величества, — слышался голос Куропаткина, — мы все — от солдата до генерала — готовы отдать свои жизни. Но нужно умереть с пользой для отечества. А будет ли польза от наступления, о котором говорил Михаил Васильевич? Ведь мы уже не раз пытались наступать, но без успеха, без успеха, — он чуть не с упоением подчеркнул эти слова. — Сильные у немцев укрепления! Много у них оборонительных линий, блиндажей. Большое у них превосходство и в артиллерии, в том числе тяжелой, которой у нас, как известно, мало, да и снарядов к ней не хватает.
Брусилов подумал, что Куропаткин задался целью пропагандировать могущество противника.
— Я готов выполнить приказ о наступлении, — продолжал он, — но полагаю долгом своим заявить, что следствием такого наступления будут огромные, невосполнимые потери в людях и боевом снаряжении, и притом — без всякой пользы для дела…
Он маленькой рукой стиснул карандаш, взмахнул им и сокрушенно закончил:
— При наших теперешних средствах, думаю, нам чрезвычайно трудно будет прорвать укрепления противника. Горько это говорить, но как солдат, по долгу службы перед государем моим, обязан сказать всю правду.
Куропаткину возражал Алексеев. И когда он говорил, Брусилова поразило то, что Алексеев в первую очередь старался не обидеть Куропаткина, своего бывшего профессора по академии генерального штаба, и уже затем — не соглашался с ним.
— Не раз уже мы прорывали немецкие линии, — утверждал он. — Не так уж они неприступны, но суть в том, — он грустно посмотрел на Сергея Михайловича, который резко чертил на бумаге треугольники и вписывал в них кружки, — суть в том, что снарядов для артиллерии у нас действительно маловато, и этот недостаток надо во что бы то ни стало пополнить.
Попросил слова Шуваев. Он подчеркнул, что военным министром назначен недавно, но все, что можно, он делает.
— Для легкой артиллерии снарядов дадим сколько надо, — пообещал он, покосившись на царя, который не слушал его, — а вот для тяжелой, — он развел руками, — много дать пока не можем. Рассчитываем получить из-за границы, но когда — неизвестно. А свое отечественное производство скоро наладить не удастся.
Он поклонился и сел.
Царь вопросительно поглядел на Сергея Михайловича.
Великий князь небрежно приподнялся. Видно, что думал он о чем-то совсем постороннем и необходимость говорить отвлекла его.
— О легких снарядах вопрос не стоит, — вяло произнес он, как бы собираясь с мыслями. — Что же касается тяжелых, — он улыбнулся, — с тяжелыми тяжело! Но уверен, и это дело мы наладим. Союзники выручат. А на свою промышленность надежд не питаем. Во всяком случае, этим летом много тяжелых снарядов не дадим.
Он сел и так равнодушно обвел глазами весь зал, будто речь шла не о страшной беде русской армии, почти через два года после начала войны не обеспеченной тяжелыми снарядами, а так, между прочим — о самых обыденных вещах. Царь бездумно чертил карандашом по бумаге. Брусилов встретился взглядом с Клембовским, и тот почти неуловимо пожал плечами — что же делать, сами видите…
После великого князя выступил Эверт. Над столом высилась его грузная фигура, многочисленные ордена украшали его грудь. Толстое лицо хранило выражение глубокой уверенности.
— При создавшемся положении, — говорил он густым басом, — в успех наступления я не верю. Вполне согласен с Алексеем Николаевичем — теперь наступать не следует. Пока не будет достаточно тяжелой артиллерии и снарядов к ней, дал бы бог в обороне удержаться. Что же зря соваться? Не трогают нас пока немцы — и слава господу. А с наступлением, повторяю, надо подождать. Да, подождать!
Брусилов тяжело вздохнул:
«Боже мой!.. И они смеют так говорить в присутствии верховного главнокомандующего!»
Минуту все молчали. Алексеев беспокойно взглянул на царя, и тот, даже не подняв глаз на Брусилова, торопливо сказал:
— Вас, Алексей Алексеевич, прошу высказаться.
По залу пробежал легкий шумок. У Иванова дернулась борода. Великий князь весело улыбнулся: «Задаст им берейтор…»
Брусилов поднялся. Каким одиноким чувствовал он себя здесь! Он заговорил напористо и прямо — как солдат, бросающийся в атаку. Видно было, что он сдерживает себя, и первые фразы поэтому были отрывисты. Он тщательно отбирал слова и опускал те, которые казались ему слишком резкими. И все же то, что он говорил, было прямым вызовом Эверту и Куропаткину.
— Да, тяжелой артиллерии мало, — согласился Брусилов. — Кто может отрицать, что в таком положении наступать трудно. Но полагать, что вообще наступать мы не можем и не должны, — неверно, не могу этому поверить. Не берусь судить о других фронтах, хотя из слов Михаила Васильевича следует, что их обеспечение лучше моего фронта, но я могу наступать даже с теми средствами, которыми располагаю. Не безоружны мы, и если только захотеть, твердо верить в победу и все силы для этого напрячь, — еще раз повторяю и утверждаю, — наступать можно и должно!
Отпив воды из стакана, Брусилов продолжал:
— И еще, — голос его стал мягким, — мы забыли здесь об одном важнейшем факте, имеющем первостепенное значение: мы забыли о нашем русском солдате!
Он заметил гримасу, пробежавшую по лицу Эверта.
— Да, упускаем из виду русского нашего солдата, храбрее которого в мире нет. Он при Полтаве шведов — лучших вояк Европы — бил, ходил с Суворовым не только на турок, а к черту на рога — через Альпы. Он в Берлине был, он со славой воевал всюду, куда его водили, и земли своей нигде не посрамил! Вот его мы со счетов скинули. А я в русского солдата верю. Ничего не требую. Прошу лишь разрешения наступать вместе с другими фронтами. Ведь первая заповедь успеха — сковать противника повсюду, не дать ему маневрировать резервами, вырвать у него инициативу, бить там, где он нас не ожидает. Не выдержит немец, рассыплется…
Легкий румянец выступил на щеках Брусилова, синие глаза его светились ярко и сильно. Он возбужденно переводил взгляд с одного лица на другое, искал сочувствия тому, что говорил. Но царь сидел по-прежнему безмятежно, курил; Алексеев что-то записывал; Эверт зло барабанил пальцами по столу; Куропаткин ежился; Сергей Михайлович смотрел весело, даже чуть подмаргивал Шуваеву — смотри, как он их чешет!.. Иванов низко склонил голову, и только толстая его шея вздрагивала.
Брусилов опять остро почувствовал свое одиночество. Глаза его сделались суровыми.
— Счел долгом изложить свои соображения перед лицом государя и главнокомандующих, — ясным голосом произнес он и обратился к царю: — Прошу разрешения вашего императорского величества на участие вверенного мне фронта в общем наступлении.
У Николая дрогнули губы, и он обернулся к Алексееву. Алексеев как-то нерешительно поднялся. Глаза его были опущены, он перебирал бумаги нервной рукой.
— Здесь были высказаны противоположные мнения относительно возможности нашего наступления, — сказал он. — Но настоящее совещание, по мысли его величества, должно лишь обсудить план уже решенного ставкой наступления, согласованного с нашими союзниками. Несомненно, боевое снабжение наших армий сейчас значительно лучше, чем в прошлом году. Поэтому не могу согласиться с мнениями высокоуважаемых мною Алексея Николаевича и Алексея Ермолаевича о невозможности наступления. Армия накопила много опыта, много сил. Конечно, нужна тщательная подготовка и разумная осторожность.
Алексеев добавил, что ставка не имеет возражений против участия Юго-Западного фронта в наступлении, но просит помнить, что никакого добавочного количества снарядов и людских подкреплений этот фронт не получит.
Эверт не удержался, бросил на Брусилова язвительный взгляд: что, мол, съел?
Брусилов, едва окончил речь Алексеев, порывисто встал. Радость светилась в его глазах.
— Ничего не прошу и не требую, — сказал он звучным голосом. — Особых побед не обещаю. Однако войска будут знать, что работают на общую пользу отечества и облегчают своим братьям ратную страду. Во всяком случае, не позволю противнику оттянуть ни одного стоящего против меня полка, ни одной дивизии. И это уж будет поддержкой другим фронтам.
Он, дружески улыбаясь, взглянул на Эверта и Куропаткина: уж очень хотелось ему в эту большую для него минуту почувствовать их боевыми товарищами. Но Куропаткин суетливо собирал бумаги, уклоняясь от взгляда Брусилова, а Эверт смотрел волком, исподлобья.
— Карьеры ищет… — пробормотал он и тяжело встал. — Ну что же, — с видимым усилием сказал он, — я ведь от наступления не отказывался… Единственно, чего обещать не могу, — так это успеха. Не могу… не уверен…
Он постоял, точно хотел еще что-то сказать, и сел.
Куропаткин легко вскочил и низко поклонился царю. Он говорил бойко и путано и все повторял, что наступать ему можно лишь с большой оговоркой.
— Ну, уж если все, — закончил он, — тогда уж и я с божьей помощью… — он метнул на Брусилова тоскливый взгляд и бодро крикнул: — На миру и смерть красна!
Николай вдруг оживился, посмотрел на часы, поднялся и с видимым облегчением, как ученик после долгого, утомительного урока, обратился к присутствующим:
— Прошу завтракать, господа…
Все встали. Царь прошел мимо Брусилова и, как-то нерешительно взглянув на него, остановился. «Хочет что-то сказать», — догадался Брусилов и невольно шагнул к нему. Теребя рукой пояс, Николай тихо сказал:
— Вот вы, Алексей Алексеевич, говорили о солдатах. Но я не понимаю — причем же тут солдаты? Им только надо слушаться и выполнять приказ.
И, не ожидая ответа Брусилова, пошел вперед.
«Какой же он царь?! — возмущенно подумал Брусилов, следя за удаляющейся маленькой фигурой самодержца. — Он душу солдата не понимает… Они для него — серая скотинка и более ничего!..»
Вечером того же дня Брусилов уехал к себе в Бердичев.
Алексеев, перед отъездом принимавший его в своем кабинете, сначала был сдержан. Но когда Брусилов уже выходил, он обнял и поцеловал его.
— Не судите строго, Алексей Алексеевич. Были бы на моем месте — поняли, как тут тяжело: за все отвечать и в трудные минуты ни от кого не видеть поддержки. Ну, впрочем, это я так… От всей души желаю вам, дорогой мой, успеха.
Глубоко взволнованный, Брусилов сжал его руки…
— Михаил Васильевич, мы оба с вами русские и служим России. Не сердитесь, говорю как солдат солдату. На вашем месте я только бы совести своей слушался и никому, понимаете, никому ни на вершок не уступил!
Весна в тысяча девятьсот шестнадцатом году была ранняя и дружная. Снег еще лежал в низинах и тенистых местах, а первая зелень уже весело пробивалась из черной, влажной земли, тугие клейкие почки взбухали на деревьях, небо голубело так молодо и свежо, солнце светило в окопы и землянки такими щедрыми и теплыми лучами, что солдаты, стосковавшиеся по теплу, вылезали из окопов и от удовольствия покряхтывали.
Карцев сидел на пне рядом с Голицыным и посматривал на своих товарищей. При ярком солнечном свете лица солдат казались бледными, одежда грязнее, чем обычно. Немного уже осталось тех, кто вместе с ним начинал войну. Прямо на земле, подобрав ноги, сидел обросший черной, кудрявой бородкой Чухрукидзе и что-то напевал себе под нос. Он считался лучшим разведчиком в роте, и товарищи любили его за мягкий, незлобивый характер, за храбрость и готовность помочь каждому солдату, попавшему в беду. Рядом с ним примостился Рогожин, а немного поодаль — Защима, безучастно наблюдавший за тем, как маленький Комаров старался толстой иглой и суровой ниткой зашить прохудившийся сапог.
— Все равно разлезется, — сказал Защима. — Зря стараешься…
— Да хоть как-нибудь, — сокрушенно ответил Комаров, — хоть дыру эту проклятую подобрать, все легче.
— Эх, солнце-то какое! — мечтательно произнес Рогожин, почесывая бородатую щеку. — Греет, как у нас в Рязанской. Эх, милое…
— И у нас в Тамбовской не хуже, — заерзал Комаров, отложил в сторону сапог и так просительно поглядел на товарищей, будто защищал перед ними свое, тамбовское солнце. — Увидим ли его, а? — И, заметив, что Карцев достал кисет, весь съежился и заскулил: — Взводный, а взводный! Угостил бы табачком… право, угостил бы, а?
Цепкой рукой он полез в протянутый ему кисет, бережно ухватил щепоть махорки и струйкой высыпал ее в умело свернутую «собачью ножку». Зажмурясь от наслаждения, глубоко потянул в себя дым, долго не выпускал его и, блаженно улыбаясь, сказал:
— Вовремя покурить нет ничего лучше: будто царь я!
Здоровый солдатский хохот покатился над окопами: уж очень смешно было солдатам представить в образе царя Комарова — малорослого, с курносым, крошечным лицом, с жалобными глазками, в плохо заправленной, вытертой шинели, в драных сапогах, из голенищ которых торчали грязные концы бурых от пота портянок.
— Расскажи, Комаров, что бы ты сделал, кабы царем стал?
Комаров привык фиглярничать, потешать товарищей. Но тут вдруг болезненная гримаса исказила его лицо.
— Я бы, — серьезно сказал он, — первым делом войну кончил, ей-богу! Для чего она нам, война эта?.. Может, кто поумнее и знает, а мне не в толк, не в толк она, братцы…
Он хихикнул. Весь запас серьезности иссяк в нем, и на лице выступило обычное выражение мелкой угодливости. Но никто не засмеялся. Здесь были люди, испытанные в лишениях и опасностях, настоящие солдаты, умевшие воевать, храбрые, смышленые и бесконечно выносливые. Но в памяти их еще был свеж прошлый, девятьсот пятнадцатый год, когда они, засыпаемые тяжелыми снарядами, с одними винтовками и легкими пушками, для которых не хватало снарядов, плохо руководимые генералами, отвечая одним выстрелом на двадцать вражеских, отходили в кровавой сумятице поражения на восток — растерянные, оглушенные. Было еще в солдатском сердце и чувство тяжелой обиды: они здесь головы складывали, а в России их семьи бедовали, жизнь там разваливалась, пропадала деревня без мужиков, народ прижимали все больше и больше.
На фронт посылались необученные ополченцы, с одной винтовкой на троих. Их пытливо расспрашивали, что делается в России, и, слушая, недоумевали: к чему эта война, что может она дать народу? В десятую роту пришло несколько человек, и двое из них — в третий взвод, которым командовал Карцев. Один был узкий в бедрах и широкий в плечах человек с серыми, бесхитростными глазами, с реденькой бородкой, ратник ополчения. Он мирно и застенчиво улыбнулся, сбросил с плеч мешок, поклонился солдатам и сказал:
— Знакомы будем, славные люди. Хозяйство у вас не бог весть какое, а все же… Как-нибудь проживем.
Были в нем какая-то ясность и простота, которые понравились солдатам. На вопрос Голицына, как его зовут, он охотно ответил:
— Фамилия моя — Рышков, а больше зовут — Рышкой. Сызмальства так прозвали, и прилипло ко мне это названье, как наклейка к бутылке, когда я в трактире служил.
И, мягко улыбнувшись, пояснил:
— Что же, я не обижаюсь. Имя не одежда — век носи, не протрешь.
Другой солдат был костистый, с длинными руками и неловкими движениями, при ходьбе чуть припадал на левую ногу. Он, ни с кем не разговаривая, держался в стороне.
— И таких берут? — спросил Рогожин, показывая на хромого.
— Всяких берут, — неохотно ответил тот.
А Рышка живо вмешался:
— Его было в нестроевую назначили, да перепутали где-то писарьки. Фамилия ему рядовая — Иванов Василий, ну и пихнули в маршевую вместо другого тоже Иванова и тоже Василия. Вот как нехорошо у него вышло…
И примирительно добавил:
— Ничего, и здесь проживет. Везде люди.
Защима тяжело мотнул головой.
— Везде, — подтвердил он, — даже на каторге. Это ты верно заметил.
Рышка внимательно посмотрел на Защиму, на его будто обожженное лицо, на толстые, сургучные губы и сказал:
— Люди людям рознь. Бывают и хорошие…
— А ты много хороших видел? — спросил Защима. — Небось, когда ты в трактире служил, они к тебе в гости ходили?
— И хорошие ходили, — с готовностью ответил Рышка. — Я, славный человек, на людей не обижаюсь, я ведь сам по себе — тихий я…
— Врешь, «сам по себе»… Таких не бывает… — равнодушно отметил Защима. — Земли много у тебя?
— Земли? — растерялся Рышка, и губы его скорбно покривились. — Землей мы, милый, страдаем. Прямо сказать — похирели.
— Похирели, — безжалостно подтвердил Защима. — А кто сам по себе, тот не хиреет. Дошло?
Рышка недоуменно заморгал. Защима курил, глубоко затягиваясь и не обращая больше внимания на ратника.
Солдаты настойчиво выспрашивали у новеньких всякие подробности тыловой жизни.
— Постой, постой, — оживленно интересовался молодой кудрявый солдат с щегольскими усами и веселыми озорными глазами, хватая Рышку за рукав. — А народ по трактирам ходит? Машина играет? Эх! — самозабвенно крикнул он и так дернул на себя Рышку, что тот едва не упал. — Эх, разочек бы еще за столиком посидеть, братцы мои, студня бы с хренком поесть, да селедочки, да беленькой бы выпить!.. Неужто и я там, братцы, бывал? Неужто?..
И такое отчаянное и восторженное выражение было на лице у кудрявого солдата, что все вокруг него засмеялись. Иванов, длинный, костистый солдат, пришедший в роту вместе с Рышкой, хмуро посмотрел на кудрявого и сказал, как бы думая вслух:
— Ты вот чему позавидовал — трактиру. Я за всю войну — а живу я в Петрограде — ни разу в трактире не был. Не такая у нас теперь жизнь, чтобы по кабакам ходить.
— А что — трудно было? — спросил Карцев. Ему вдруг чем-то понравился этот человек. — На каком заводе работал, друг?
Иванов покосился на унтер-офицерские нашивки Карцева, на два Георгиевских креста и медаль на его груди.
— На Путиловском, — ответил он и с усмешкой спросил: — Еще что, может, спросишь?
Карцев улыбнулся. «За шкуру меня считает, — подумал он. — Надо с ним поговорить, — как будто парень стоящий…»
— Я и сам рабочий, — дружески сказал Карцев. — Токарь по металлу. А на вывеску мою ты не смотри: солдатская служба, как оспа, прилипнет — и возись с ней.
Иванов оживился, впалые глаза его блеснули, а он вполголоса объяснил:
— Разве признаешь по вашей одежде, что вы за человек?
Эти слова взволновали Карцева. Он по-новому, глазами этого петроградского рабочего, увидел себя, старшего унтер-офицера, и вспомнил, с какой злобой и отчуждением разглядывал он сам, молодой солдат, казарменное начальство; вспомнил, как мытарил его унтер-офицер Машков. Подобревшими глазами смотрел он на Иванова, и вдруг милы показались ему и плохо пригнанная шинель, и неуклюжий, невоенный вид этого человека: ведь с воли, из другой жизни пришел Иванов, из той, которой сам жил он прежде.
— Почему же тебя с завода взяли? — спросил Карцев.
— С начальством не поладил. Не ко двору пришелся… — И, всей грудью глотнув воздуха, Иванов жестко заговорил: — Я трудиться готов, да только бы работать давали честно! А то — все на обман, на наживу все рассчитано. Хозяевам что? У меня, может быть, душа болит брак поставлять, а мастер кричит: «Давай, давай побольше!» У них все казенные приемщики купленные — они воробья за ястреба примут, а ты — мало что с голода подыхаешь, еще с хозяином на пару обманывай. Ну, я и сказал мастеру… Обидно!.. Миллионами грабят, на рабочем поту да на солдатской крови жиреют. Только и утешенья, что когда-нибудь сочтешься с ними по-настоящему!
Рышка внимательно слушал. В тихих глазах его светились спокойствие и безмятежность.
— Огорченный он человек, — пояснил Рышка, точно извиняясь перед Карцевым за Иванова. — Жизнь, она, славный человек, не всегда прямой дорогой, она и чащей и буераком проходит. Где споткнешься, где и оцарапаешься… — И, ласково улыбнувшись, добавил: — Ты человека осудить не спеши, ты его раньше пойми. Так-то…
Вдруг Карцев вскочил, звонко скомандовал:
— Встать! Смирно!
Васильев шел вразвалку — маленький, худощавый, с зоркими голубыми глазами. Петров, не ожидавший командира полка, издали спешил к нему, но Васильев уже был на участке третьего взвода, и Карцев, держа руку у козырька, подошел к нему с рапортом.
Васильев принял рапорт и внимательно посмотрел на Карцева. Между ними было то взаимное понимание, которое возникает между людьми, долго воевавшими вместе.
Поздоровавшись с подошедшим Петровым, Васильев обратился к новым солдатам:
— Что ж это вы?.. Разве вас не учили, как надо стоять, когда подают команду «смирно»?
— Не учили, ваше благородие, — живо ответил Рышка. — Мы ведь ратники, на войну нас не готовили, сроду ружья в руках не держали. А тут взяли, лихим делом, на передовую погнали: там, мол, всему научитесь, там наука скорая.
— Займись им, взводный, — ровным голосом сказал он Карцеву и окинул взглядом стоящих кругом солдат. — Вольно, ребята!.. Ну как: австрияк не беспокоит?
Несколько голосов заговорили наперебой:
— Да нет, ваше высокоблагородие!..
— Засмирел австрияк…
— Для виду только копошится…
А Голицын добавил с фамильярностью бывалого солдата:
— Австрияк — он что! С ним жить можно… Германец, сволочь, зудит…
— Как же он зудит? — добродушно спросил Васильев.
— А так: германец для австрияков — что вода на негашеную известь: подольют ее, вот известь зашипит и воняет…
Солдаты захохотали. Смеялся и Васильев.
— Молодец, Голицын! Правильно подметил! — сказал он и, заложив руки за спину, сощурив глаза, спросил, как бы советуясь с солдатами:
— А что, если эту известь подальше забросить, чтобы не воняла?
Голицын ответил с угрюмой гордостью:
— Забрасывали. В четырнадцатом году били их под Гнилой Липой, под Перемышлем, Львов брали. Впору было гнать до самой Вены. Ан не вышло…
Последние слова прозвучали с дерзкой двусмысленностью: солдат шестнадцатого года был уже не тот, что в начале войны. У него образовался свой тяжелый счет к генералам и офицерам. Об этом счете знали лучшие офицеры, знал и Васильев. Но солдатам не было известно, что такой же счет к высшему командованию имелся и у Васильева, всей душою болевшего за русскую армию, гордившегося ее боевой славой, именами Суворова, Кутузова…
— Выйдет, Голицын! И тебе, старому солдату, георгиевскому кавалеру, первому надо это знать. Помни: молодые по тебе равняются, ты им пример.
Сказав это, Васильев ушел вместе с Петровым.
Голицын проворчал вслед:
— На войну не просился, на кой ляд мне она, — а если уж заставили воевать, не мешали бы солдату его дело делать… так-то!
— Ну, Сергей Петрович, довольны вы своими людьми? — спросил Васильев, шагая рядом с Петровым.
Петров уловил в этом вопросе скрытую тревогу: слишком мало кадровых солдат и унтер-офицеров осталось в строю — почти вся армия шестнадцатого года состояла из запасных старших сроков службы и ратников ополчения, плохо обученных и думавших только о том, как бы поскорее избыть ненужную и ненавистную им войну и вернуться восвояси. И офицеры ревниво берегли старых кадровиков, как драгоценную закваску, на которой только и может подняться добротная солдатская опара.
— Втягиваем понемногу, Владимир Никитич. Только, сами знаете, какой нам народ шлют. Эх!.. Не сберегли дорогого. Помните, Владимир Никитич, как у нас ефрейторы и унтер-офицеры запаса рядовыми в бой шли? Растеряли мы их зазря. А теперь где их возьмешь?
— Не советую вам, Сергей Петрович, вспоминать о прежних ошибках, — резко заметил Васильев. — Не время, да и нельзя жить вчерашним днем. Не думайте, что я на все происходящее смотрю сквозь розовые очки. Стиснешь зубы и молчишь, да-с, молчишь и все, что можешь, делаешь. Мы с вами солдаты. Наше дело простое — приказано драться и дерись, не жалея себя. Другого нам не дано. Поняли? Другого не надо, если даже, — голос у него стал жестким, — если даже мы обречены. За нами Россия, родина наша — забывать об этом нельзя-с!
Он снял фуражку и провел рукой по редеющим волосам.
— А если… если душа обливается кровью при виде того, что вокруг делается, ну что ж — свой долг мы все же выполним.
Минуту помолчав, уже другим тоном сказал:
— Получил от Бредова письмо. Страшно доволен, что наконец-то возвращается в родной полк.
— Вот это чудесно! — обрадовался Петров. — Очень рад буду ему!
Они простились. Петров посмотрел вслед Васильеву, идущему своей развалистой, охотничьей походкой, достал махорку, закурил.
Солнце грело нежно и мягко, свеж был воздух, и так хотелось какого-то своего, хоть маленького, счастья, что Петров вполголоса затянул старую семинарскую песню. Но в это время тяжелый вой послышался с востока и раздался глухой удар мощного выстрела. Русский снаряд летел к австрийцам. Вот уже несколько дней на позиции приходили артиллеристы, подолгу наблюдали в бинокли и подзорные трубы за австрийскими окопами, наносили что-то на карты; иногда открывали огонь и засекали австрийские батареи, отвечавшие им. Солдаты и офицеры каждый раз приветливо встречали артиллеристов. Однажды рыжий капитан в очках, работавший на участке роты Петрова и за несколько дней успевший подружиться с ним, шутливо спросил:
— Что это вы принимаете нас, как родных братьев?
У Петрова искренне вырвалось:
— Неужели не понимаете, господин капитан? Ведь мы, пехотинцы, исстрадались без вас. Штурмовать вражеские позиции без артиллерийской подготовки — это же могила, сами знаете. А тут — надежда! Если возитесь у нас, засекаете вражьи точки, — значит, поможете. Ведь так?
Оба дружелюбно поглядели друг на друга. Капитан присел на бурый от прошлогодней травы бугорок, жестом пригласил Петрова сесть рядом, достал кисет с махоркой и деловито осведомился:
— Из прапорщиков?
Тон его вопроса не обидел Петрова, хорошо знавшего, как свысока относятся кадровые офицеры к прапорщикам запаса (к тому же он никогда не чувствовал себя офицером — давняя мечта его была стать земским врачом). Во всем облике капитана было что-то приятное и простое, располагающее к себе.
— Сергей Петрович Петров, вольноопределяющийся, потом прапорщик и подпоручик, учился в рязанской семинарии, — весело ответил он. — Семинарию бросил, чем вызвал батькин гнев; батька у меня — сельский поп, под Рязанью. Думал на медицинский податься, да война помешала. Все.
Капитан, щедро выпуская изо рта клубы дыма, положил руку на колено Петрова.
— Милый мой юноша, — задушевно сказал он, — очень рад, что познакомился с вами. Очень, очень!
— Вы — кадровый, господин капитан? — в свою очередь спросил Петров.
— Федор Иванович Ермолов, приват-доцент Московского высшего технического училища, — представился капитан, снимая очки и протирая их платком. — В армию призван из запаса, а до того проживал в Москве, по Немецкой улице; женат, имею двух детей, при мне же — мать-старушка. Тоже — все.
Он немного помолчал, снова надел очки.
— Так вы, стало быть, из семинаристов, бурсак? Не могу передать вам, как приятно мне говорить с вами и хотя бы условно сбросить с себя эту сбрую, — он указал на свое обмундирование. — Рязань, Рязань — милые места!.. Рязань косопузая, там телушку огурцом резали, — продолжал он, не меняя тона и смеясь из-под очков карими глазами. — Помню: на окраинах старые монастыри, древние, замшелые стены, двухсотлетние вязы, трава вся в лютиках и ромашке — прелесть!.. В одном переулке набрел я как-то на старенький деревянный домик с мезонином, и на нем мраморная доска с надписью: «Здесь родился поэт Яков Петрович Полонский». Очень неожиданно и приятно вышло это… Господи, как давно это было! Побродить бы сейчас по московским переулкам, в Третьяковскую галерею забежать на часок, с Воробьевых гор на Москву полюбоваться — все это теперь кажется счастьем несбыточным, а ведь мы пользовались им и не ценили… Вы, голубчик, не думайте, что я так чувствителен, что я и в самом деле это счастьем считаю. Нет! Но сосет, сосет на сердце, когда вспомнишь Москву, семью, работу свою, мирную жизнь… Я ведь ее не идеализирую; в сущности, сволочная была жизнь, но если по ней так тоскуешь, значит, здесь много хуже… много!
Он точно в растерянности взглянул на Петрова, неловко развел длинными, худыми руками, рыжеватая его бородка встопорщилась, длинная спина ссутулилась, и Петров уже видел перед собой не артиллерийского офицера, а столь милого сердцу и хорошо знакомого ему российского интеллигента, многословного, бессвязно излагающего свои мысли, торопливо переходящего с одного предмета на другой.
Ермолов достал из кармана фотокарточку и показал Петрову семейную группу, где сам он был изображен в разлетайке и чесучовом пиджаке вместе с миловидной женщиной и двумя детьми — мальчиком и девочкой.
— В Кунцеве, на даче снято. Вот они, родные мои…
Глаза его увлажнились.
— Голубчик мой, Сергей Петрович!.. Вот уже столько времени живу здесь, на фронте, среди наших русских людей — жителей Петрограда, Москвы, Самары, Рязани, — и ни разу не пришлось поговорить с кем-нибудь из них по-человечески. Черт знает что, не правда ли, голубчик? А как хочется, как нужно душу свою омыть от всякой скверны, узнать, как живут в стране, что думают там о войне этой, что, наконец, там, наверху, делается… — Он нагнулся к Петрову и прошептал: — Много мерзкого говорят про Распутина, про царицу… Ведь тревожит это все… Ну ладно, оставим эту тему. Так вы учились, говорите, в семинарии, да? Семинаристы — народ крепкий! Если уж уйдут из семинарии, так что-нибудь сделают. Взять хотя бы Чернышевского или наше светило в физиологии — Павлова. Он, кажется, ваш, рязанский.
— Послушайте, — перебил его Петров. — Вы еще долго будете у нас работать?
Ермолов махнул рукой:
— Долго! Нужно обнаружить и засечь на карте все вражеские позиции, огневые точки, штабы и тому подобное.
— Значит, ударим? — торжествующе спросил Петров. — Верно?
— А вы чему радуетесь? Еще не надоело воевать?
— Может быть, и надоело… Но если уж воюю, так хочу воевать хорошо. Мальчишкой случалось мне драться стенка на стенку, обычно на реке, на льду. Тут уж не разбираешь, кто против тебя, — бьешь сплеча во всю силу. Я знаю — мы плохо воюем, снаряжение у нас жалкое, генералы никудышные, все, кто только может, — воруют, в России очень худо, но мы — солдаты, и как ни горько и ни трудно нам, а драться надо…
Он запнулся, растерянно подумав, что повторяет слова Васильева. Усмехнулся и тряхнул головой:
— Да, очень хочется победить! А там посмотрим. Можно будет тогда и у себя дома кое с кем поговорить — да так, что тому не поздоровится.
Ермолов бросил окурок, придавил его ногой и со странным выражением поглядел на Петрова.
— Стало быть, и вы об этом думаете? — шепотом проговорил он, как бы беседуя сам с собою. — Стало быть, проклятые эти мысли не одного меня мучат?.. Вот я сейчас большую работу делаю. Ну, что там скрывать: готовимся раздолбать австрийцев. Работаем дни и ночи, и я не могу плохо делать мое дело, не могу! Я хочу, чтобы наши пушки в дым разнесли их укрепления, хочу увидеть, как наша пехота ворвется в их окопы, погонит врагов к чертовой матери… Эх, Сергей Петрович, хороший вы мой, жить хочу только в России и помереть в России, лежать в русской земле, под березкой…
Помните?
Он хитро улыбнулся и поднял палец.
— А нос все-таки нечего вешать! Доложу вам, поручик, что здорово мы сейчас работаем. Еще помянете вы нас, артиллеристов, добрым словом. Ну, прощевайте, друже.
Он долго жал руку Петрова, близко засматривал ему в глаза и пошел, путаясь в полах шинели длинными ногами.
То чувство освобождения, с которым Бредов уехал из ставки, не оставляло его на протяжении всего пути, пока он пробирался к передовым позициям. И даже фронтовые дороги, забитые бесчисленными эшелонами, подолгу стоящими на станциях, полустанках и разъездах, что невольно создавало впечатление всеобщего хаоса, не уменьшали радостного подъема духа у Бредова. С особой теплотою он думал о Васильеве, которого любил и уважал за честность и военный талант, и хотел скорее увидеть его.
На какой-то маленькой станции Бредову сказали, что их поезд простоит здесь по крайней мере сутки. Начальник станции, еще молодой человек с серым лицом и бачками под Евгения Онегина, на вопрос Бредова, почему поезд не идет дальше, развел руками и устало ответил:
— Вы, господин подполковник, с таким же основанием могли бы спросить у меня, почему засохло вот это дерево, — он указал на липу с голыми ветвями, росшую в палисаднике. — Разве мы теперь что-нибудь знаем или чем-нибудь распоряжаемся? У нас сорок хозяев, и каждый мудрит по-своему. Должен признаться, что за всю свою службу я не видел еще такого безобразия. Не угодно ли полюбоваться? Прошу, убедительно прошу вас…
Они прошли мимо водокачки и пожарного сарая в самый конец станции, где в тупике стоял длинный товарный состав. Куры мирно бродили под вагонами, молодая трава пробилась между рельсами. Послышались звуки гитары: кто-то пьяный пел романс. Бредов недоуменно посмотрел на начальника станции.
— Вот это самое и есть, — проговорил тот. — Удостоверьтесь!
Они остановились перед синим вагоном с широкими зеркальными окнами. Одно из них было открыто, и оттуда неслось:
— Вот так уже третью неделю, — с отчаянием сказал начальник станции, дергая себя за бачки. — Сбили мне весь график, никакими силами отсюда их не выживешь… Пьют, безобразничают, все кругом запакостили…
Он показал на большую кучу мусора, битых бутылок, опустошенных консервных коробок, выросшую возле вагона. И в это время из окна вылетела бутылка, за ней другая, послышалось радостное гоготанье, и сиплый бас скомандовал:
— По прро-тив-ни-ку пальба бутылками! Первая — пли! Вторая — пли!
— Увидели… — безнадежным голосом пояснил начальник. — Они уже в меня стреляли, ей-богу!
Из окна вагона высунулась плешивая голова с выпученными глазами.
— Опять приперся? Сказано тебе, когда надо — уедем. А б-будешь шляться, как дупеля подстрелю… Гришка, наган! Э, да там кто-то еще заявился? Сейчас узнаем…
Плешивая голова исчезла, и через минуту со ступенек вагона сошел офицер в расстегнутом кителе с полковничьими погонами. Мутными глазами уставился он на Бредова и попытался даже щелкнуть каблуками, что явно было выше его возможностей.
— Э-э… — прохрипел он, — прошу до нашего шалашу!
Судя по серебряным погонам с красными просветами, это был полковник интендантской службы. Менее всего собирался Бредов впутываться в пьяную компанию и, отступя, сказал, что у него, к сожалению, нет времени…
— Да вы, подполковник, не бре… не брезгайте… Ей-богу, родной, мы рады каждому кур… куль… тьфу! — куль-тур-ному человеку!
Интендант сипло захохотал.
— Пошли бы, — поддержал начальник станции, — может, уговорили бы господина полковника скорее отправить свой эшелон.
— Я т-тебе отправлю! — заорал интендант, цепко хватая руку Бредова. — Ведь ты кондуктор, вот кто ты. Гришка, наган!.. Как дупеля…
Начальник станции, втянув голову в плечи, уходил рысью, все прибавляя аллюр.
— Ага! Убежал?..
Видя, что от пьяного все равно не избавишься, Бредов, негодуя на себя за то, что делает, направился к вагону.
В салоне сидели шесть человек (военные и штатские, один земгусар), развалясь за столом, уставленным бутылками и закусками. Их едва можно было разглядеть сквозь густую пелену табачного дыма. Молодой офицер в гвардейской форме поднял на свет бокал с вином и рассматривал его с пьяным упорством. Толстенький человек в одной рубахе и лиловых помочах, прижимая к пухлой груди коротенькие руки, уговаривал его:
— Князь! Ваше сиятельство! Уверяю вас, что спешить некуда… Неужели, князь, вам здесь плохо? Умоляю, скажите: плохо?
Не отрывая глаз от бокала, князь отвечал:
— Я не говорю, что плохо… нет! Но мы везем нашим солдатам подарки, всякие там материалы, и зачем же нам ждать, зачем, спрашиваю я?
— «Ах, зачем увлекаться, ах, зачем напиваться…» — пропел кто-то противным голосом.
— Вы представьте себе, ваше сиятельство, — продолжал толстяк, — что на фронте, в тот самый момент, когда мы приедем, — паф-бум! — и мы — трах, и все наши драгоценные подарки — фью!.. А оставаясь здесь, — глаза его стали сладкими, и как будто липкий сироп потек из них, — мы сразу, дорогой князь, двух зайцев убьем и обоих — ха-ха! — жареными скушаем! А?
— Не хочу жареных зайцев, — пробормотал князь. Осоловелыми глазами посмотрел он на Бредова, неверной рукой поставил бокал на стол и обратился к интенданту, растягивая слова: — А па-а-звольте, полковник, узнать, ко-о-гда мы… отсюда а-а-атправимся? Как будто — пора!
— Да что вы беспокоитесь? — с грубоватой фамильярностью ответил интендант. — Все на совесть сделаем!
— А к-как же мне не бе-е-е-спокоиться? — Князь опять взял бокал и стал его рассматривать на свет. — Если мне поручили… да, поручили, и солдатики там ждут, и всякое такое… Я своей честью отвечаю, — да, честью, говорю я.
— Честь выше всего! — выкрикнул интендант, широко расставляя толстые ноги. — Жизнь — копейка, а честь, — он ударил себя кулаком в грудь, — честь офицерская не продается! Раз честь затронута, значит, едем, князь! К черту эту станцию, к черту! И по сему случаю прошу, князь, и вас, подполковник, — он качнулся к Бредову, — выпьем! Выпьем и поедем… Сейчас же поедем!
Толстенький человек приподнялся, оперся руками о стол и змеиными, немигающими глазами впился в интенданта. Потом мелкими шажками подошел к нему и зашептал:
— А с чем поедем? В вагонах-то — пусто!
Интендант невозмутимо продолжал:
— Как только освободят путь — поедем! У них, князь, на железных дорогах нет никакого порядка!.. Дьявол их знает, когда они путь расчистят! Но все равно! Раз поставлена на карту честь — поедем! Выпьем за нашу честь, господа, за Россию… Эй, Гришка, вина!
Из-за стола поднялся офицер с белокурыми растрепанными волосами.
— Не понимаю, — сказал он. — Что у нас происходит, господа? Простите, не понимаю!.. Нам надо ехать, надо доставить на фронт снаряжение и подарки, а мы попали в какой-то тупик! Я больше не могу, не могу… Я убегу от вас… Зачем вы поите меня, зачем? Ведь это же хуже разбоя! Послушайте, князь, послушайте, полковник: Христом-богом умоляю — поедемте! Я с ума сойду, сам застрелюсь или кого-нибудь укокошу. Это же кошмар, бред какой-то!.. Поедем, поедем, ради бога!
На его молодом, опухшем от вина лице были страх, отчаянье, омерзение. Он вдруг заплакал, по-детски всхлипывая, и лицо его стало другим, точно слезы смыли с него все плохое и пьяное.
Интендант переглянулся с толстяком и захохотал сипло и раскатисто, как смеются плохие актеры, изображая пьяных. Он шагнул к офицеру, положил ему руки на плечи, сильно встряхнул его и крикнул:
— Отставить! Стыдно вам закатывать истерику, как девчонке! Выпьем — и марш-марш! — в дорогу!
Бредов с ужасом посмотрел на молодого офицера. Он хорошо знал интендантские обычаи, знал, какое чудовищное воровство процветает в их среде, и вся картина, развернувшаяся сейчас перед ним, стала ему до боли ясна. Душный комок подступил к горлу.
Молодой офицер, пошатываясь, прошел мимо Бредова в коридор, и вслед за этим оттуда раздался выстрел. Интендант выскочил в коридор и тут же вернулся. Стоя в дверях, хрипло сказал:
— Все!.. Щенок паршивый…
Толстяк, громко выругавшись, подошел к интенданту.
— Ну? Чего стоишь? Сам знаешь, что делать…
И, передернув плечами, как-то боком выбрался из вагона.
Бредов вышел в коридор. На полу, откинувшись головой на стенку вагона, лежал молодой офицер. Темная извилистая струйка крови медленно стекала с виска на грудь. Послышались шаги. Возле выросла фигура интенданта. Бредов повернулся к нему, увидел его сизую физиономию, воровские глаза, настороженные, с подлым страхом глядевшие на него, и, охваченный яростью, он наотмашь ударил интенданта по щеке.
Тот вытянулся, опустил руки по швам и все с тем же подлым выражением смотрел на Бредова.
Бредов бросился вон. Выскочив из вагона, он бежал, не в силах остановиться, вдоль красных запломбированных вагонов. Вот и последний вагон, за ним — тяжелые изогнутые металлические брусья — тупик. Бредов уперся руками о них, поник головою, растерянно думая, что дальше бежать некуда — вся Россия зашла вот в такой же страшный тупик. Поднял глаза к небу.
Наступал вечер, и розоватые облака были похожи на парусные ладьи в безветренном море. Вдруг потянуло дымом. Бредов оглянулся. Кто-то, похожий на большую жабу, осторожно полз из-под третьего от края вагона. Оттуда и шел дым.
— Ах, сволочи! Так вот оно что?!
И Бредов, нащупывая на ходу наган, побежал к вагону, увидел метнувшегося оттуда толстого человечка и с таким чувством, будто уничтожает все то черное и мерзкое, что мешает жить и ему и всей России, стал выпускать в него одну пулю за другой…
Бредов явился в штаб своей дивизии. Щеголеватый адъютант, небрежно приняв у него бумаги, пробежал их, и вдруг глаза его широко раскрылись, как будто он прочел нечто поразительное. Он сразу преобразился, вытянулся, пробормотал:
— Прошу покорнейше садиться, господин подполковник!
И почти выбежал из комнаты. Но скоро вернулся и учтиво попросил Бредова пожаловать к начальнику штаба.
Начальник штаба — пожилой полковник в роговых очках — вежливо привстал навстречу Бредову, пожал ему руку, пригласил садиться и после двух-трех общих вопросов прямо перешел к делу:
— Пожалуйста, расскажите, что делается в ставке? Каковы предположительные планы? Кто из генералов пользуется там влиянием? Видели ли вы государя?
Удивленный этими скоропалительными вопросами, Бредов подумал, что так, наверно, расспрашивают провинциалы приехавшего к ним столичного человека. Он сухо ответил, что его положение в ставке не давало возможности что-либо знать или видеть, и тут же попросил отправить его поскорее в полк, к Васильеву.
Полковник вскочил и замахал руками.
— Как можно! — в ужасе проговорил он. — Начальник дивизии не простит мне, если узнает, что я отпустил вас, не представив ему!.. Нет уж, подполковник, не подводите меня… — Он испытующе посмотрел на Бредова, услал адъютанта, немного поколебался и затем спросил: — Скажите, ради бога, о чем они там думают? Знают ли настоящее положение в армии? Учитывают ли настроения солдат, офицеров? Знакомы ли с нашей боевой техникой? Ведь такая нужда в снабжении!.. Мы как в лесу живем — ничего не знаем… Трудно, очень трудно так воевать!
Начальник дивизии приехал часа через два. Это был старый генерал с красными слезящимися глазами. Он испуганно посмотрел на Бредова и так долго изучал его бумаги, точно сомневался в их подлинности. Особенно долго разглядывал он печать ставки и наконец с благоговением подтвердил:
— Так точно. Печать ставки верховного главнокомандующего… Покорнейше прошу садиться.
Пожевав губами, он первым делом спросил, где Бредов обедал, будучи в ставке. Тот ответил.
— А генерал Алексеев где обедает?
Бредов объяснил, что Алексеев питается в общей столовой, за исключением тех дней, когда его приглашает государь.
— Государь!.. — прошептал начальник дивизии. — Не всякий удостоится такой чести, не всякий!..
Бредов сухо сказал, что все офицеры, работающие в ставке, в порядке очереди приглашаются к царскому столу. Генерал крякнул и округлившимися глазами посмотрел на Бредова.
— Так что и вы, подполковник… — запинаясь, спросил он, — то есть я хотел сказать, что и вам выпало высокое счастье…
— Так точно, — жестко ответил Бредов. — И я обедал у государя.
Он нарочно сказал «обедал», а не «имел счастье обедать», но генерал не заметил такой, вольности. Обеими руками он взял руку Бредова и проникновенно зашептал:
— Нет, уж извольте все до ниточки рассказать. Я ведь туркестанец, еще с Михаилом Дмитриевичем Скобелевым вместе воевал, но в большом свете, знаете ли, не бывал, не приходилось… Так вы, говорите, у государя обедали? Кто же на обеде присутствовал? Какие блюда подавали? А посуда какая была? Вы, родной мой, уж все, все подряд выкладывайте, ничего не пропускайте.
Генерал кивнул начальнику штаба — подсядьте к нам! — по-стариковски поднес согнутую ладонь к уху и в упоении приготовился слушать. Бредов невольно взглянул на начальника штаба, но тот как будто ничуть не был смущен поведением генерала и тоже приготовился слушать.
Бредов рассказывал яростно, едва сдерживаясь. Когда он кончил, генерал спросил, исподлобья взглянув на него:
— А по какой причине вас откомандировали из ставки?
— По собственному желанию. Полагал, что больше пользы принесу в строю.
— Ну, вам виднее, — недоверчиво прошамкал генерал. — Вам виднее…
Мазурину, лечившемуся после второго ранения в одном из московских госпиталей, удалось получить короткий отпуск. Куда же поехать? Конечно, в Егорьевск! Это счастье — снова обнять Катю, повидать Семена Ивановича…
В Егорьевске на перроне рослый жандарм с красным щекастым лицом и круто заверченными усами пристально посмотрел на него и, видимо не найдя для себя ничего примечательного в аккуратном унтер-офицере, уверенно идущем к выходу в город, скрылся в вокзальных дверях.
Мазурин вышел на площадь. Большая, грязная, с керосиновыми фонарями на низеньких столбах, окруженная покосившимися деревянными домиками и щелястыми заборами, она была удручающе похожа на сотни таких же площадей в захолустных российских городах. Вдали виднелись красные кирпичные корпуса фабрик, мимо них, словно нехотя, текла Гуслянка, как всегда — маслянистая и сизая от фабричных отходов. Он прошел мимо казарм, где ютились рабочие хлудовской, бардыгинской и князевской фабрик, повернул за угол, и перед ним потянулись одна за другой жалкие и тусклые улички. Весь город представлялся ему оплетенным пыльной серой паутиной; вдали виднелось самое высокое здание города — тюрьма.
Вот наконец и переулок, где живет Катя. По привычке оглянувшись — не следят ли за ним, Мазурин вошел в калитку. Трухлявая верея едва держала старенькие ворота. «Новые бы поставить, да не время…» — по-хозяйски подумал он, толкнул знакомую дверь, она легко отворилась, будто ждала его. Васена, возившаяся около печи, обернулась. Она была все такая же — сухая, крепкая, живая. Насмешливые ее глаза вспыхнули радостью. Однако она не вскрикнула, а, положив палец на губы, подошла, обняла, притиснулась губами к колючей щеке Мазурина.
— Пойдем, — шепнула она.
Он сбросил походный мешок и пошел за ней, улыбаясь, зная, как Васена любит подготовлять всякие неожиданности. Во второй комнате, одетая, поджав ноги и подложив руку под щеку, спала на кровати Катя.
— Скоро ей на смену вставать. Разбуди, обрадуй… — сказала Васена и вышла на цыпочках.
Мазурин опустился на колени возле кровати и поцеловал Катю в разрумянившуюся от сна щеку. Она проснулась, не понимая, сон это или нет. Потянулась к Мазурину:
— Алешенька!..
— Я, я, Катюша! — говорил он, целуя ее волосы, руки, горячо обнимая ее.
— Опять ранили? — в тревоге спросила она.
— Опять…
— Только когда тебя ранят, и видаемся с тобою, — грустно проговорила она. — Что же ты не написал? В Москве лечили? Я опять бы приехала к тебе, милый, родной Алеша! Замучилась без тебя.
Потом все трое сидели в первой комнате за столом и оживленно разговаривали. Васена налила тарелку щей. Мазурин не стал отказываться, зная, что она угощает от всего сердца, да и отказа не примет — изведет насмешкой. Катя спрашивала, как живется солдатам на фронте. Мазурин отвечал и с аппетитом ел вкусные, наваристые щи, с блестками жира и пряным запахом лаврового листа. Мастерица Васена стряпать!.. А она слушала, спрятав руки под платок, часто кивала головой в знак согласия с Мазуриным, потом сказала:
— Ничего, перестрадает народ. Я хоть баба, а многое вижу. Поворачивается жизнь… Новые хозяева придут. Царь — он убогий, кто ему нынче верит, кто его боится? Теперь рабочих одной полицией не возьмешь, и солдаты, как ты говоришь, тоже не прежние. Поворотится жизнь, ой поворотится…
— С воздуха, само собой, Васена, ничего не бывает… — ответил Мазурин. — Надо людей учить, как правду добыть. И еще надо, чтобы армия пошла вместе с народом.
— Пойдет! — уверенно, вмешалась в разговор Катя. — Ты же сказал, что теперешнего солдата с кадровым не сравнишь: одежда на нем солдатская, а душа вольная.
— За солдатскую душу и воюю! — горячо сказал Мазурин.
Помолчали. Умные, насмешливые глаза Васены не отрывались от лица Мазурина, и от ее взгляда он почувствовал неловкость.
— Что это ты, мать, так смотришь? Или переменился?.
— Переменился… И не ты один, Алеша. На людей погляди в нашем городе. Все другими стали.
— Все? И Бардыгин тоже? — с усмешкой спросил Мазурин.
— Я о горбатых не говорю, — пояснила Васена.
— Вот то-то же! — подтвердил Мазурин. — Но дожидаться, пока Бардыгиных могила примет, — нельзя. Нужно гнать их с фабрик, завести там свои порядки, директорами посадить таких, как, скажем, Семен Иваныч. И так по всей России сделать!
— А что ты думаешь? — серьезно сказала Васена. — Семен Иваныч справился бы, голова у него золотая… Представить только: сидит наш Семен Иваныч в директорском кабинете и всей фабрикой управляет!.. Да только не бывать этому, Алешенька, — не в сказке живем… беда наша горькая!
— А мы беду изживем, мама, — громко прозвучал голос Кати. — Не век же нам бедовать? Так, Алеша? — И она прижалась головой к его плечу.
Вечером Мазурин навестил Семена Ивановича. Старик только что вернулся с работы и, сидя за столом в расстегнутой на груди рубахе, читал газету. Увидев Мазурина, он с таким видом, будто они только вчера виделись, сунул ему газету и сердито проговорил:
— Что только пишут — читать противно.
И, вскинув на лоб очки, вскочил, обнял Мазурина.
— Опять ранили? А не много ли? Хватит с тебя!..
Семен Иванович был горячий, неугомонный в разговоре и очень сдержанный и терпеливый в деле. Хорошо зная это, Мазурин спокойно слушал его.
— Про бабьи бунты слыхал? — живо спросил Семен Иванович и рассказал о целой волне женских бунтов, которые прокатились по всей стране.
— Понимаешь, баба, простая крестьянка, против помещика поднялась! — с гордостью говорил он. — А деревню не так просто поднять, это не наш брат рабочий. Тут вековой застой пробить надо!..
И, подталкивая Мазурина локтем в бок, с увлечением продолжал, поблескивая стеклами очков:
— Ты не знаешь еще, что на фабрике делается! Туда вместо мобилизованных женщины да подростки пришли. Сначала кроткими были, а потом присмотрелись, да мы их кой-чему научили… Тут и Катя хорошо поработала. Одним словом, народ в огне!.. Не только у нас, по всей России забастовки растут… Ну, а на фронте как? Рассказывай.
— На фронте не так, как здесь. Там так просто не забастуешь. А нужно добиться, чтобы и фронт и тыл вместе шли. Связь здесь хорошая нужна!
— Вот такие, как ты, и есть наша связь… Долго у нас пробудешь?
— Дня три, пожалуй.
— Так, так… Среди народа, конечно, потолкаешься?
— Обязательно! Меня ведь про вашу жизнь на фронте будут расспрашивать, да и самому интересно людей повидать. За год много воды утекло… Вот бы новых работниц послушать!
Семен Иванович хитро посмотрел на него:
— За чем остановка? Идем к ним в гости!
Он спрятал очки в старенький футляр, сунул его в карман, надел куртку, схватил свой помятый картуз.
— Что время зря переводить!
Они вышли на улицу. Были синие сумерки, на западе угасал последний розовый отблеск уходящего дня. Галки весело перекликались, сидя на крестах пятиглавой церкви. Мазурин и Семен Иванович свернули в глухую улицу и вскоре очутились в большом дворе.
В комнате, куда они затем вошли, было людно, но тихо. На кроватях, скамейках, а то и просто на полу, застланном пестрядинными ковриками, сидели женщины и вязали. Семен Иванович низко поклонился, взметнув над головой свой картузик:
— Ну, кого не видал — здравствуйте! А тебе, Анна Акимовна, хозяюшка, особый привет.
Анна Акимовна — еще молодая женщина, с полным лицом и ясными голубыми глазами — поднялась со скамеечки и тоже низко поклонилась.
— Садитесь, гостями будете, — приветливо сказала она.
Мазурин рассматривал всех с любопытством, и на него тоже глядели пристально. Семен Иванович уселся на табурет и спросил, чуть улыбаясь в седенькую бородку:
— Может, помешали?
— Что вы, что вы! — живо ответила Анна Акимовна. — Никаких особых дел у нас нету, так — отводим душу, судачим о житье-бытье.
Маленькая женщина с сухим, строгим лицом, почесав спицей лоб, спокойно сказала:
— Наше дело известное — болтовня, а вот ты, солдат, расскажи, как там наши мужья воюют, скоро ли домой вернутся?
— Немца победят и вернутся! — звонко и зло крикнула черноволосая молодуха, что расположилась на коврике.
— Тут уж не до победы, — сурово вмешалась пожилая женщина. — Вернулись бы целыми — и спасибо, а то без них хоть пропадай!
Она окинула быстрым взглядом своих подруг и продолжала, не прекращая вязать:
— Съела нас фабрика, и нужда нынче косточки догрызает. Ни к чему не подступишься — все втридорога. А заработки какие? На хлеб да на тюрю и то не запасешь.
— А как с хозяйством и с ребятишками управиться, когда на фабрике по четырнадцать часов торчишь? — подхватила худая работница с нездоровым румянцем на впалых щеках. — Уж лучше смерть, чем жизнь такая треклятая!
— Давеча из Рязани соседка моя вернулась, — доверительно проговорила Анна Акимовна. Спицы в ее руках мелькали с удивительной легкостью. — Там, в мастерских, швеи забастовали. Бухаркой, говорят, заставляют штаны да рубахи шить, а какая в ней крепость, в бухарке этой? Наденет на себя такую одежу солдат, и сразу она по шву и распорется.
— Зато бухарка дешевле катушечных ниток, — отозвалась какая-то женщина в углу. — Хозяевам на них нажива, а солдат хоть пропади — разве им жалко?
И вдруг работницы разом все заговорили, перебивая одна другую. Много выстраданного горя и злобы слышалось в их словах. Движения их были порывисты, глаза горели. Мазурин взглянул на Семена Ивановича. Тот сидел не шевелясь, положив руки на колени, и только очки его строго блестели в желтом отсвете керосиновой лампы. Среди возбужденных выкриков ровно выделился голос Анны Акимовны. Видно, что ее здесь любили слушать.
— Спокойно нельзя нам жить, — сказала она. — Спокойно теперь жить — все равно что в пропасть катиться. К горлу подошло — дальше некуда! Томление одно, а не жизнь, хоть криком кричи! А разве он поможет — крик-то?
— А что поможет, Акимовна? — настойчиво спросила пожилая женщина. — Если знаешь — скажи.
В комнате стало тихо. У Мазурина даже сердце похолодело: что ответит хозяйка?
Анна Акимовна вздохнула, грустно улыбнулась:
— Что я вам, бабоньки, на это скажу? Я такая же, как и вы, одна у нас с вами жизнь, одна печаль. Муж на войне, дети-малолетки…
Она задумалась, перестала вязать. Глаза женщин не отрывались от ее лица, и Мазурин с удивлением думал: «Чем же привлекла эта женщина сердца своих подруг? Отчего с такой верой глядят они на нее, будто ждут вещего слова, которое объяснит им все: и что делать, и как жить?»
— Иду я вчера на работу, — снова заговорила Анна Акимовна, и спицы ожили в ее руках, — прохожу через будку у ворот. От нее справа домик, где вахтер живет, а у домика сарайчик, помните? Он всегда запертой, этот сарайчик. А теперь вижу — дверь открыта и у самого входа пулемет. Вышел из сарая Гаврюшин, околоточный, повесил замок на дверь: не увидел бы, часом, кто. Получается, бабоньки, что они нас до того страшатся, что пулеметы готовят. Значит, если мы будем прав своих добиваться, они в нас стрелять начнут, как в немцев…
— Уже стреляли, — сказал Семен Иванович. — Забыли? В прошлом месяце Кудряшова Сидора да Гришку Малькова в роще на сходке ранили.
— Да, уже стреляли… — подтвердила Анна Акимовна. — Я так думаю, бабоньки: нет хуже, когда человек бараном живет, лоб свой подставляет. Вся Россия разворочена, всюду забастовки, народ за свою правду борется. А куда нам от своего народа деться? Говорили, — она прямо взглянула на Мазурина, — что и солдатам на фронте тягота смертная. А ведь они нам родные — у кого там брата, мужа или сына нет? Ну, так коли уж идти, то всем вместе. Старое оставить — все равно пропадать, так лучше уж вперед идти — хуже не будет, а верится, — глаза ее блеснули, и она звучно повторила, — а верится, что так лучше будет!
— И другого ничего не остается, как вперед идти! — послышался знакомый голос, и Мазурин вздрогнул: «Катя!»
Она сидела, забившись в уголок, и он до этого не замечал ее. Анна Акимовна что-то сказала Семену Ивановичу, и тот повернулся к Мазурину:
— Тебя просят рассказать, как вы там воюете, как царя-батюшку защищаете…
— И жить нам как, идти куда, правда-то наша где? — не повышая голоса, обращалась Анна Акимовна к Мазурину, требовательно глядя на него, и так же непреклонно смотрели на солдата и другие работницы. — Нам такой человек нужен, чтобы все, все до ниточки распутал и дорогу показал. А то, как слепые, на свете маемся…
— Такой человек есть, и я хочу вам рассказать про него, — начал Мазурин. — Он всю свою жизнь отдает нам, простым людям, учит, как завоевать свободу, как жить без войны, без фабрикантов и помещиков, чтобы сам народ управлял и все богатства доставались ему, а не хозяйчикам, которые с трудового люда шкуру дерут. Его за эту любовь к народу бросили в тюрьму, сослали в Сибирь, но он и там делал свое дело, и не было такой силы, что заставила бы его изменить своему долгу.
— Он и сейчас в Сибири? — спросила пожилая женщина.
— Нет. За границей, и оттуда руководит борьбой рабочих против войны, против всех, кто угнетает нас. Его статьи указывают нам, куда идти, что делать. Он зовет свергнуть царское правительство, сбросить его с народных плеч, как ярмо, как тяжелую глыбу, если мы не хотим, чтобы эта глыба задавила нас окончательно. Он требует мира, справедливого мира. Довольно зазря лить кровь. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — вот что, товарищи, должно огнем гореть на нашем знамени!
— Это как же, — и нам, бабам, стало быть, сзади не оставаться? — спросила Анна Акимовна, и шепот пронесся по комнате.
— И вам, — ответил Мазурин. — Разве вы — работницы, крестьянки — страдаете меньше других? А сколько женщин пошло на каторгу, сколько их повешено царскими палачами? Вот в прошлом году в Швейцарии был съезд женщин-социалисток. Знаете, какое они приняли решение? Война эта, мол, преступная, и нужно всем работницам всего мира бороться против несправедливой человеческой бойни.
— А тот, про кого ты говорил, знает про этих женщин?
— Знает. Он все знает! Он нашими думами живет.
— А кто он такой? Ты видел его?
— Нет, не видел, но каждое его слово — до сердца доходит.
— Зовут его как?
— Скажи, как зовут? Наш он, русский?
Многие встали, надвинулись на Мазурина. Он видел их лица: что-то грозное и решительное было в блестящих глазах женщин.
— Русский. Зовут его — Ленин!
— Ленин!
— Ленин!
— Ленин!.. — много раз пронеслось по комнате.
Мазурин поражался неожиданным вопросам, которые задавали работницы: кто будет вместо царя?.. Кто будет управлять и владеть фабриками?.. Кому пойдет прибыль?.. Куда денут полицию и хозяев?
Кто-то застенчиво спросил:
— Женат он, Ленин-то? И кто жена у него? Детки есть?
…Выходили маленькими группами и в одиночку, Семен Иванович толкнул Мазурина в бок:
— Хорошо получилось. Просто, душевно говорил… Ну, прощай, до завтра.
И сокрушенно добавил, уходя:
— Мне бы на фронте побывать, с солдатами побеседовать.
Мазурин медленно шел по улице. Он думал о своей жизни, о товарищах, и вдруг странное беспокойство овладело им: предчувствие опасности. По старой привычке подпольщика, он весь собрался, насторожился. За ним, по другой стороне улицы, шел какой-то низенький человек. Шпик! Мазурин свернул в первый же переулок, и низенький, уже не скрываясь, побежал за ним.
— Эй, земляк! Минутку! — крикнул он и, обернувшись, махнул кому-то рукой. У него было узкое, лисье лицо, тонкие губы.
«Проследили! — понял Мазурин. — Неужели с первого же дня моего приезда рыщут за мною?» Он старался быть спокойным, даже немного вялым.
Он остановился:
— Что надо?
Шпик посмотрел на торопливо подходившего к нему грузного человека и сказал:
— Прогуляйтесь с нами, кавалер, тут недалече.
Мазурин пошел с ними. Его мало беспокоила собственная судьба. Что могут они сделать солдату, который и так должен ехать на фронт? Он беспокоился о подпольной организации фабрики, о Семене Ивановиче, о Кате. Неужели они провалятся?
Его доставили в полицию. Он прошел грязным коридором, пропитанным запахом карболки, опустился на скамейку в маленькой пустой комнате. Вся обстановка здесь и даже запах чем-то напоминали мертвецкую.
Шпик с лисьим лицом скрылся, а второй уселся против Мазурина и, упершись руками в колени, глядел на него полузакрытыми глазами. Так длилось около двух часов. Эта пытка ожидания и неизвестности была знакома Мазурину. Нет, он не дастся! Мазурин достал махорку, закурил. Оперся спиной о стену, удобно вытянул ноги. Шпик сидел как каменный. Вошел первый. Они заставили его снять сапоги, одежду, белье, ощупали подклейки голенищ. Потом велели одеться и повели к полицейскому, что-то тому шепнули. Полицейский открыл длинным ключом дверь с крошечным решетчатым оконцем.
— Входи.
Первый шпик вежливо посоветовал:
— Отдохни немного, кавалер, скоро вызовут.
Но прошел час, другой, наступила ночь, и Мазурин понял, что никуда его сегодня не вызовут. Лег на голые нары и уснул. Утром и в полдень его тоже не вызвали. Он постучал в дверь, попросил воды.
— И так обойдешься, — ответил вчерашний полицейский. — Не велик барин.
Мазурин понял: перед допросом решили его обессилить. Он опять улегся на нары. Только вечером вызвали на допрос.
В комнате, куда его впустил полицейский, за столом сидел офицер, на стене висел портрет царя. Офицер писал, не поднимая головы, как бы не замечая вошедшего Мазурина.
— Так, — сказал наконец офицер, кладя перо. — Так, — повторил он и посмотрел на Мазурина ласковыми карими глазами. — Тебе что от меня надо?
— Привели, ваше высокоблагородие, — вытягиваясь, сказал Мазурин. — Шел по улице, остановили и… привели.
— Ах, взяли?.. С улицы взяли? — грустно проговорил офицер. — А не лучше ли, братец ты мой, так себя вести, чтобы тебя не надо было брать?.. Так за что же тебя взяли? За какие дела?
И он, как бы в рассеянности, начал листать лежащее перед ним дело.
— Не могу знать, — ответил Мазурин. — Ошибка, верно. Мне завтра в часть являться, на фронт отправляюсь…
Офицер сразу преобразился. Он приподнялся, вдавил ладони в стол, из-под усов блеснул желтый оскал зубов, и он хрипло крикнул:
— Ах, на фронт?! За маршевой ротой спрятаться хочешь? Нет, у нас не спрячешься, шалишь!.. Ты нам прежде о всех своих делишках расскажешь… Ты за каким чертом опять в Егорьевск приехал? Куда ходил? С кем виделся? Мы, братец, тебя еще с мирного времени помним! На фронт попадешь — не беспокойся, но раньше расскажешь — все расскажешь!
И чем больше кричал следователь, тем спокойнее становился Мазурин. «Ну, с таким не страшно, — думал он. — Выкладывай, кричи, а я послушаю, что ты знаешь обо мне».
Офицер неожиданно замолчал и сел. Осмотрел Мазурина с ног до головы, покачал головой.
— Послушай, — мягко сказал он, — ты сам знаешь: теперь война и с вашим братом цацкаться не будут. Мы о тебе все знаем! — Он постучал пальцем по папке. — Все! Если будешь отпираться, — свистящие ноты появились в голосе следователя, — ты на фронт не поедешь, понял? Военно-полевой суд, и в двадцать четыре часа — в расход! Ну, говори!.. И говори, прежде всего, о том, как ты баб с бардыгинской фабрики взбаламутил. Кто мог им, кроме тебя, о Ленине наболтать? Они сегодня у станков орали: солдата, мол, нашего заарестовали, который о Ленине рассказывал… Никакого другого солдата, кроме тебя, не могло быть! Они, чертовки, чуть фабрику не подожгли… Говори! Сейчас же говори, мерзавец!
«Так, значит, они узнали о моем аресте… Так, значит, я недаром говорил с ними!.. — обрадованно подумал Мазурин. — Бунт устроили… Молодцы! Но как же все это случилось, как?»
— Не о чем мне говорить, — спокойно ответил Мазурин и твердо посмотрел в глаза следователю.
Тот улыбнулся, закурил папиросу.
— Заговоришь… У нас заговоришь! И не таких ломали… Эй! Кто там? Уведите его!
После мучительного допроса, длившегося несколько дней, после пытки бессонницей, жаждой (кормили селедкой и не давали воды), после неоднократных угроз расстрела (два раза ночью его водили в мрачный подвал, ставили к стене) Мазурина отправили под конвоем на фронт — в тот полк, где он служил. «Хотят проследить фронтовые связи, узнать, с кем встречаюсь, захватить всю организацию…» — сообразил Мазурин.
Дорогою он упорно размышлял, как ему вести себя. «Надо во что бы то ни стало передать верным товарищам связи и инструкции», — решил он. И тут же подумал, что если его возьмут, то не миновать расстрела. Нет сомнения, что вслед за ним послана секретная бумага.
Но тем не менее он чувствовал себя бодро и, явившись в полк, увидел товарищей, их приветливые глаза, ощутил дружеские пожатия рук, вдохнул знакомый запах прокисших шинелей, кожи, махорки. А когда встретил своих старых друзей, теплая волна радости охватила его, обнимал их, целовал и взволнованно спрашивал:
— Целы? Живы? Ну, здравствуйте… Ишь, прямо медведи, такие мохнатые… И Комаров тут, и Защима… Дядя Голицын, я ж говорил, что тебя ни одна пуля не возьмет!.. Вот я и опять с вами!
Они плотно его окружили, закуривали из его кисета, не спускали с него глаз, рассматривали его долго и прилежно, как дорогую обнову, отыскивая в его облике, в каждом слове следы той мирной, далекой жизни, по которой они так истосковались, представляя ее в мечтах и разговорах много лучше, чем она была в действительности. И Мазурин, посматривая на них, с грустью отмечал, какие глубокие морщины прорезали их лица, какие угрюмые у них глаза.
Карцев уселся рядом с Мазуриным, весело сказал:
— А ты, Алеша, в большие начальники вышел — шутка ли, три нашивки, кресты и медали! Скоро, поди, полком будешь командовать?
Солдаты засмеялись.
— Нет, ему не с руки, — с обычной вялостью проговорил Защима. — У него душа наша, солдатская.
— А что с того, что солдатская? — спросил Мазурин. — Что плохого в том, ежели солдат научится командовать полком? Всякая наука нам нужна, и военная тоже… — Он приподнялся. — Постой, постой, кто это идет? Неужели Чухрукидзе? Вылечился?
Чухрукидзе возвращался из разведки. Высокий, тонкий, с черными усами, загорелым лицом и живыми, горячими глазами, он не был похож на того забитого солдата, каким Мазурин знал его раньше.
— Первый разведчик в полку! — с уважением отозвался о нем Рогожин. — Давеча австрийского офицера на спине приволок. Храбр как черт! Говорят, крест дадут.
Чухрукидзе, узнав Мазурина, широко улыбнулся, сверкнув белыми зубами:
— Друг, дорогой друг к нам вернулся!
Он как родного обнял Мазурина.
Голицын свернул из мазуринской махорки толстейшую завертку и наставительно заговорил:
— Вот оно — солдатское житье! Самое дорогое в нем то, что солдат своего товарища никогда не продаст. Под одной шинелью спим, одна вошь нас кусает, одной смертью умираем. В бою товарища всегда прикроешь, хотя драться нам, может быть, и незачем. Солдату на войне товарищ дороже отца-матери, он его от смерти убережет, последним куском с ним поделится. Верно я говорю, Мазурин?
И толстыми, как корневища, руками он так ударил Мазурина по плечам, что тот покачнулся и засмеялся.
— А и крепок же ты, дядя, — добродушно сказал Мазурин. — И говорил верно: солдатам надо всегда друг за друга держаться — в этом сила наша.
— А что там в России делается? — спросил Рогожин. Глаза его потемнели, он хрустнул пальцами и глубоко вздохнул.
— В тылу плохо, братцы. Все валится. И с каждым днем, видно, будет тяжелее. Бабы и те на фабриках бунтуют. На нас, на фронтовиков, надеются…
Все молчали потупясь, и только Чухрукидзе горько проговорил, точно сам у себя спрашивал:
— За что мы бьемся? Что навоевали?
— Крест деревянный да сапог драный! — сказал Защима. — Мало тебе?
Мазурин слушал солдатские разговоры и уже не думал о той опасности, которой подвергался он сам в случае, если будет обнаружена его подпольная работа. Им овладела одна мысль: надо быть вместе с товарищами, жить с ними одной жизнью, учить их, выводить на верный путь. Ведь придет, непременно придет тот час, когда народ поймет, куда ему надо идти, подымется на вершину высокой горы, лежащей перед ним, и увидит, какая черная ночь осталась позади.
«Ну что же, — подумал он, — если я и погибну, другие увидят новую жизнь, а я свое дело сделаю, не отступлю, не сдамся!»
В первые же дни Мазурин попросил Карцева устроить встречу с Балагиным и Прониным. Они встретились ночью в землянке у Карцева.
Балагин — уральский рабочий, металлист из-под Екатеринбурга. Он был хорошо знаком со Свердловым, работавшим в екатеринбургской большевистской организации, и от него перенял многие полезные навыки подпольной работы. Балагин всегда говорил и действовал не торопясь, обдуманно, отличался удивительной памятью. Пронин был полной ему противоположностью. Он служил старшим писарем в штабе полка и обладал настоящей писарской наружностью: белокурый, голубоглазый, с ухарским хохолком, с напомаженными усиками, чистенький, франтоватый. Таким он ухитрился остаться и на фронте, привез с собой гитару, перевитую красными и голубыми ленточками, играл романсы, и его считали пустым, никчемным человеком. Но под этой наружностью скрывался опытный, закаленный подпольщик, и Мазурин не раз говорил ему:
— Молодец ты, Пронин, умница: лучшей маскировки не придумаешь!
Начальство ценило Пронина за работоспособность, за красивый и четкий почерк. Получая всю корреспонденцию, приходившую в штаб полка, он часто оказывал своим товарищам большие услуги.
Они сидели в землянке, сосредоточенно обсуждая сложившуюся обстановку. Мазурин рассказал о своем последнем аресте.
— Вероятно, прислали обо мне секретную бумагу, — предположил он.
— Мне еще не попадалась, — ответил Пронин. — Но одно скажу тебе, Мазурин: на время притаись. Есть осведомители и среди солдат. Получена инструкция: каждого, кто будет замечен в пропаганде, — под военно-полевой суд. Что могу — я сделаю, но, может быть, бумага о тебе стороной пройдет. Знай только: возьмут — в двадцать четыре часа расстрел. Понял?
Мазурин курил. Карцев с тревогой посмотрел на него.
— Алексей, — глухо сказал он, — остерегись. Ты очень нужный нам человек.
Мазурин помолчал, притушил окурок.
— Связи и инструкции — это я все вам передам, — медленно проговорил он, — на рожон лезть не буду. А только чтоб совсем бросить мне работу — нельзя, не такое время. Беседовать с солдатами пока воздержусь, а встречаться с вами и решать, что надо делать, — буду!
И, улыбнувшись, добавил:
— Тут, может быть, от немецкой пули скорее погибнешь, чем от своей.
— Скоро наступление, — подтвердил Пронин. — Сильно готовятся.
И в самом деле, с каждым днем становилось яснее, что наступление близко. Разведчики по ночам пробирались во вражеское расположение, тщательно изучали его. Опытные артиллерийские и саперные офицеры следили в бинокли и подзорные трубы за неприятелем, отмечали каждое его движение. Все данные, добытые наблюдением и разведкой, наносились на карты, размножались и передавались в штабы дивизий и полков фронта.
Перед русской армией находились мощные позиции, которые германцы и австрийцы строили почти целый год: это был ряд укрепленных полос, находившихся одна от другой на расстоянии нескольких километров; каждая полоса, в свою очередь, состояла из рядов превосходно оборудованных окопов, с блиндажами, убежищами, волчьими ямами, гнездами для пулеметов; все укрепления были связаны многочисленными ходами сообщений; окопы и блиндажи защищались заграждениями из толстой колючей проволоки, с пропущенным через нее электрическим током, с подвешенными бомбами, фугасами и минами.
Украинская весна была в полном расцвете. Высокие тополи зеленели молодыми, нежными листьями, и трава на лугах всходила легко и весело, пестрея первыми цветами. И как ни заняты были солдаты предстоящим наступлением, как ни тревожили их думы о своей судьбе и о своих семьях, все же они не могли оставаться равнодушными к этому празднику обновления природы. В свободное время они грелись на солнце, пряча головы за брустверами (вражеские снайперы дежурили и снимали каждого, кто неосторожно высовывался), а те, кто были в ближнем резерве, мылись в самодельной бане, устроенной в землянке, стирали белье и развешивали его на чем придется. С ближнего болота доносилось протяжное курлыканье недавно прилетевших с юга журавлей, иногда их красивый косяк проносился над окопами, исчезая в синеве неба. Солдаты завистливо следили за журавлями и вздыхали.
— Одним словом — вольная птица, — наставительно говорил Голицын. — Живет без всякого беспокойства — правильно живет!
Защима, любивший его поддразнивать, отвечал безразличным голосом:
— Зачем без всякого беспокойства? Ты гляди, дядя, — они строем летят. Стало быть, есть у них свой журавлиный хфельдфебель, жучит он их, тычет в зад клювом, если что не так сделают, наряды не в очередь дает. А ты — «вольная птица». Эх, дядя!..
Банька, дружок ротного писаря, прибежал с новостью: полк, обучавшийся в ближайшем тылу, через два дня опять должен занять передовые позиции.
Новость расстроила солдат. Рышка, сильно тосковавший по дому, печально сказал:
— А я уж думал, что так пронесет, — бог поможет.
— Он поможет, — скучно заметил Защима. — Бог вроде генерала, а когда ты от генерала хорошее видел? Хотел бы я хоть с одним генералом в окопах посидеть.
— А зачем это тебе? — спросил Голицын. — Ой, мудришь, Защима!
— Как зачем? Ведь нам говорят, что генерал солдату заместо отца, вот я и хочу с отцом вместе побыть.
Дружным смехом ответили солдаты на эти слова. Но Защима обиделся:
— Чего смеетесь? Я без шутки про то говорю…
В поле, с трех сторон прикрытом лесом, происходили последние занятия. Здесь было множество окопов и блиндажей, воспроизводящих австрийские позиции. Васильев проверял учебу, неутомимо ходил по ротам. И вот однажды он заметил Рышку, который, выставив горбом спину, неуклюже полз к блиндажу. Васильев сердито окликнул его.
Сколько уже пробыл на фронте Рышка, а все никак не мог осолдатиться, побороть в себе добротного рязанского мужичка. Он вскочил и, уставившись на полковника безгрешными глазами, как бы затянутыми туманом, сказал:
— Нам, ваше высокоблагородие, было приказано вон к той яме ползти. А земля — она мягкая, парная, ее пахать давно пора.
И сразу сник, растерялся, увидев холодные глаза Васильева, вытянулся, как его учили, и пробормотал:
— Покорнейше простите, ваше высокоблагородие! Обеспамятел… Как землю почуял (он невольно взглянул на левую свою руку, где была зажата горсть земли, и разжал пальцы), так прямо все из ума вон! Покорнейше простите…
— Ротный командир! — позвал Васильев Петрова. — Это кто же у вас такой, разрешите узнать: мужик с пашни или солдат? У него, изволите ли видеть, не окопы, а яма, земля у него парная, и ему эту землю пахать хочется. Черт знает что!
И, повернувшись к Рышке, спросил с раздражением:
— Ты знаешь, почему находишься здесь, на фронте?
— Так точно, знаю. Как призвали меня из ратников, так лихим делом на фронт и послали.
— То есть как это — лихим делом? Да ты русский или нет?
— Не сумлевайтесь, ваше высокоблагородие. Православные мы, в церковь ходим.
— А если ты русский и на твою родину-мать, вскормившую тебя, напал враг, то разве ты не должен защищать ее, не щадя жизни?
«Допытывается он чего-то от меня? — с тоской подумал Рышка. — Мне бы нужные слова знать…» И вдруг, вспомнив, радостно крикнул:
— За веру, царя и отечество как христолюбивый воин обязан живот свой положить!
Васильева передернуло. Как казенно, заученно выкрикнул эти уставные слова маленький, нескладный солдат. А хотелось, чтобы тот всей душой понял, сколь великую ответственность несет он на себе.
— Россия послала тебя, меня, всех нас, — глухим от волнения голосом сказал Васильев, кладя руку Рышке на плечо, — оборонить ее от злого врага. Представь себе, что на твой дом напали разбойники, грабят его, отымают последнее добро. Что ж, ты так и смолчал бы им?
— Как же такое — смолчал? — решительно ответил Рышка. «Жалеет он меня, что ли?» — мелькнула у него мысль. — Только, ваше высокоблагородие, — он ласково улыбнулся, — что меня разбойникам грабить! Что им с меня взять — гол как сокол, а всего имущества — вошь на аркане.
«Прост он или хитрит со мной? — Васильев заглянул в глаза Рышке. — А может, прячется от меня, как от чужого?»
— Поговорите с ним потом, Сергей Петрович, — уж не сердясь, сказал он Петрову. — Надо, чтобы солдат видел в нас старшего брата, отца, чтобы мы были близки ему. Очень это важно, очень…
В штабе полка Васильев увидел черноусого, смуглолицего солдата, видимо только что прибывшего, с походным мешком за плечами. Солдат стоял перед писарем и говорил ему:
— Да ведь я в десятой роте служил. Пожалуйста, господин старший унтер-офицер, направьте меня опять туда.
Голос солдата показался Васильеву знакомым. Когда тот при команде «Встать, смирно!» повернулся к нему, он узнал в нем Гилеля Черницкого, тяжело раненного при отступлении из Галиции. Осенью четырнадцатого года Васильев представил его к Георгию и обрадовался, увидев его теперь. Он инстинктивно сделал движение, чтобы пожать Черницкому руку, но рука протянулась к усам, и он погладил их.
— Здравствуй, Черницкий, — приветливо сказал он. — Вылечился?
— Так точно, ваше высокоблагородие! — радостно и почтительно ответил Черницкий, и глаза его так выразительно скользнули по полковничьим погонам Васильева (когда Черницкий выбыл из строя, Васильев был еще подполковником), что тот довольно улыбнулся.
— Хочешь опять в десятую?
— Сделайте милость, ваше высокоблагородие! Там все старые товарищи.
— Назначь в десятую, — приказал Васильев писарю.
Черницкий побежал так быстро и весело, что встречные солдаты с завистью думали: «Вот счастливый! Наверно, в отпуск поехал».
— Эй, землячки! Где здесь десятая? — спрашивал Черницкий на ходу, но больше руководствовался своим солдатским чутьем. И скоро сам отыскал свою роту.
Из землянки выглянуло чье-то незнакомое лицо, и Черницкий с тревогой подумал, что, может быть, те, кого он ищет, давно уже гниют в братской могиле. Он остановился, охваченный печалью, как вдруг увидел у входа в землянку Голицына, густо заросшего седеющей бородой.
— Голицын! Дядя! Живой? — закричал Черницкий и, обняв ошалевшего Голицына, притиснул к себе, стал целовать в колючие щеки, в прокуренный рот, смеялся и говорил: — Герой ты!.. Герой, дядя! И ничего тебе не делается!..
А Голицын все еще не верил, что это его старый друг Гилель Черницкий, которого он считал давно умершим. Губы его сморщились, и он заплакал басом, всхлипывая и крепко держа Черницкого, точно боясь, что тот убежит от него.
— Гилель… — бормотал он, — родная душа!.. Ты ли это? А я ведь думал…
— Ну, ну, — успокаивал Черницкий и пытливо смотрел на плачущего старого солдата. — Еще постоим за себя… Карцев жив? Мазурин, Рогожин, Чухрукидзе, Защима?
Он нетерпеливо тащил Голицына, и оба, глотая слова, расспрашивали друг друга, смеялись, качали головами. Потом Черницкий целовал Карцева, Рогожина, Защиму, маленького Комарова, глаза у него были влажные, а Голицын, не стесняясь, стряхивал слезы, которые, как капельки чистой росы, скатывались по его бороде. Да, не простое это дело, когда опять встречаются старые боевые друзья, столько времени прослужившие и провоевавшие бок о бок!
— Ну вот и опять сошлись, — радостно говорил Голицын. — А вместе чего нам бояться? От нас смерть убежит!
Защима достал обернутую солдатским сукном фляжку.
— Хорошо, что сберег, — сказал он.
— Ну-у? — уважительно протянул Голицын. — Вон как встречаешь товарища? Хорошо!
— Одной скучно, — засмеялся Черницкий, доставая из вещевого мешка бутылку. — Вот ей подружка. Будь хозяином, дядя!
Толстая свеча, привезенная Черницким, скупо освещала землянку, выхватывая из полумрака солдатские лица. Ждали Мазурина, за которым побежал Комаров, и когда его высокая фигура появилась у входа, Гилель с воплем бросился к нему, перескочив через сидевшего у двери Защиму. Они стиснули друг друга, крепко расцеловались, и Мазурин взволнованно говорил:
— Ну, милый! Ну, дорогой!.. Значит, выкрутился? А я о тебе по госпиталям наводил справки…
— Выкрутился! — счастливым голосом отвечал Черницкий. — Старого солдата и пуля не берет!
В эти дни посланные в разведку Карцев и Чухрукидзе захватили «языка» — австрийского капрала. Его привели к Васильеву. Пленный — разбитной венский житель, краснодеревщик по профессии — желал только одного: спасти свою жизнь. Он с готовностью отвечал на все вопросы, рассказал, что в штабе полка у него есть близкий друг — вице-фельдфебель Линце, по должности шифровальщик, который передал ему, что никакого русского наступления не может быть, так как русские до сих пор не оправились от прошлогоднего разгрома. Командир полка и старшие офицеры уверены, что затишье на русском фронте будет продолжаться до тех пор, пока германцы не расправятся с французами, не дожмут их под Верденом. Потом они ударят на Россию, которую и вынудят заключить сепаратный мир. В доказательство того, что австрийцы не верят в русское наступление, пленный привел факт, только вчера сообщенный ему Линце: в начале следующей недели будет отпразднован день рождения эрцгерцога Фердинанда. Закупаются в большом количестве вина и закуски, повара получили большие заказы. Все уверены, что австрийские позиции неприступны.
Краснодеревщика звали Франц Ежек. Он — из онемеченных чехов, но чешского в нем осталась только фамилия. Это был уже лысеющий человек лет тридцати пяти, с толстыми, лихо закрученными усами, с красным, полнокровным лицом. Васильев смотрел на него изучающим взглядом, и Ежек решил разыграть себя перед русским начальством смелым и честным солдатом. На вопрос Васильева — какие настроения в австрийской армии, он ответил, что хотя солдаты и устали от войны, но готовы выполнить свой долг перед императором и отечеством. Однако Васильев подметил блудливый огонек в выпуклых, с красными прожилками глазах Ежека, уловил дрожание его рук, излишнюю готовность отвечать. Считая, что этот человек выбит из своей привычной колеи, трусит и больше всего хочет, чтобы его оставили в покое, он, словно между прочим, спросил, как ведут себя славяне в австрийской армии. Ежек запальчиво ответил, что славян отправляют больше на итальянский фронт, так как они свиньи и изменники. Но тут же спохватился и елейно добавил, что там славяне лучше воюют, чем на русском фронте…
Приказав увести пленного, Васильев несколько часов подряд просидел над картой, изготовленной им самим. Это была карта всего русского фронта — от Балтийского моря до Карпат. Васильев был прирожденным военным и часто мысленно представлял себя, как бы он действовал, если бы ему пришлось командовать армией или фронтом. Изучая операции как русских, так и союзников (поскольку они были доступны его изучению), он к концу второго года войны имел ясное представление о главном пороке этих операций: полное отсутствие взаимодействия между Западным и Восточным фронтами, что позволяло немцам свободно маневрировать по внутренним операционным линиям, по мере нужды перебрасывая войска с одного фронта на другой.
И сейчас, следя за боями под Верденом, за наступлением австрийцев на итальянском фронте, Васильев думал: теперь самое время союзникам навалиться на Германию сразу на всех фронтах, не давая ей маневрировать резервами, заставляя ее одновременно сражаться на западе и на востоке.
Так думал он. И, думая так, по опыту почти двух лет войны мало надеялся, что все это осуществится.
Подпольное собрание армейских большевиков происходило в заброшенном окопе под вечер. Земля вокруг была разворочена снарядами, кое-где курчавились кучи ржавой колючей проволоки и торчали концы разбитых бревен, служивших настилом для блиндажей. Были приняты все меры предосторожности. Дозорные охраняли подступы к окопу.
Как ни требовали товарищи от Мазурина, чтобы он не присутствовал на этом собрании, зная, какая слежка ведется за ним, он все же решил прийти.
— В случае чего, дозоры известят, и я успею скрыться, — говорил он. — А дело нужное. Увидите — все обойдется хорошо.
Среди собравшихся были Казаков, Балагин, Карцев, Пронин и петроградский рабочий Иванов.
Мазурин привез с собой манифест Цеммервальдской конференции — к рабочим всех воюющих стран, подписанный Лениным. Этот важный документ, перепечатанный на папиросной бумаге, Мазурин прятал в каблуке сапога. В Егорьевске, сидя в одиночке, он колебался, не уничтожить ли его. Ведь если обнаружат — расстрел. Но, подумав, решил рискнуть: этот манифест произведет огромное впечатление на фронте.
Бережно держа листок, с трудом разбирая неясные буквы, Балагин читал дрожавшим от волнения голосом:
«ПРОЛЕТАРИИ!
С начала войны вы отдали вашу действительную силу, вашу отвагу, вашу выносливость на службу господствующим классам. Теперь вы должны начать борьбу за с в о е с о б с т в е н н о е д е л о, за священную цель социализма…»
Василий Иванов не выдержал, крикнул:
— Правильно! Мы в Питере еще в пятнадцатом году начали забастовки!
И Казаков добавил:
— А в шестнадцатом уже по всей стране бастовали…
Балагин кивнул им и продолжал:
— «…за освобождение подавленных народов и порабощенных классов, — путем непримиримой пролетарской классовой борьбы.
Задача и обязанность социалистов воюющих стран — поддержать всеми действительными средствами своих братьев в этой борьбе против кровавого варварства.
Никогда раньше в мировой истории не было более настоятельной, более высокой, более благородной задачи, выполнение которой должно явиться нашим общим делом. Нет таких жертв, нет таких тягот, которые были бы слишком велики для достижения этой цели: мира между народами».
Теперь говорили все, вскакивая, сжимая кулаки, но не повышая голоса.
— Ленина бы в Россию, — сказал Карцев, — он бы знал, где и когда начать.
— Нельзя ему сейчас приезжать, — жестко ответил Иванов. — Беречь его надо.
«Значит, недаром я эту бумажку привез», — подумал Мазурин. Он рассказал, как на одной станции встретился ему идущий из Тамбова на фронт маршевый эшелон. С места выехало около полутысячи солдат, но почти на каждой остановке убегали по нескольку человек, а за Житомиром осталось уже около половины эшелона. Тогда солдат стали выпускать из вагонов только под конвоем.
— Народ — он все переборет, — убежденно сказал Карцев.
— А у тебя что нового, Пронин? — спросил Мазурин.
— Пришло пополнение — сто рабочих. Их отправили на фронт за революционную деятельность. Мне с ними говорить было неудобно. Но многих я запомнил.
Он назвал несколько фамилий и номера рот, в которые были назначены новые солдаты. Потом отозвал в сторону Мазурина:
— О тебе бумага пришла из Егорьевска. Я перехватил… Но не лучше ли тебе скрыться?
Мазурин отрицательно покачал головой:
— Пока подожду. А если что — скажешь. Сам смотри не попадись! Узнают, что жандармские бумажки воруешь, — не помогут ни твои усики, ни весь твой щегольской вид.
— Теперь послушаем Иванова, — предложил Балаган.
Василий Иванов прибыл на фронт, не умея даже стрелять, не знал, как заряжать винтовку. Фельдфебель сначала не поверил ему, но по бумагам оказалось, что Иванов был ратником второго разряда, не проходил военного обучения и его, как политически неблагонадежного, срочно отправили на фронт.
Он работал в Петрограде, на заводе Лесснера, рабочие которого издавна славились своими революционными традициями. Девятнадцати лет Василий вступил в подпольный кружок, и с тех пор его жизнь, протекавшая до этого серо и безрадостно, вдруг словно осветилась. Когда он узнавал о том, как рабочие должны бороться за новую, свободную жизнь, когда он читал нелегальные книги и брошюры, ему казалось, что все это совершается не с ним, Васей Ивановым, простым рабочим, а с каким-то другим человеком, перед которым открыта далекая, прекрасная дорога, озаренная ярким солнцем. «Манифест Коммунистической партии» был его настольной книгой. Он выучил наизусть наиболее поразившие его строки, и особенно заключительные:
«…Пусть господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией. Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей. Приобретут же они целый мир!»
Началась война. Почти двести тысяч рабочих забастовали в эти дни в столице. Рабочее движение распространилось по всей стране с такой силой, что у многих появилась мысль: а не пора ли подумать о вооруженном восстании? Но Петроградский комитет большевиков считал, что нельзя бросать безоружных людей на восстание. Это означало бы обречь их на явное поражение, тем более что полиция провоцировала рабочих на выступление, желая повторить Кровавое воскресенье 1905 года.
Шла война. Большевистская организация была разгромлена, депутаты-большевики Государственной думы сосланы, «Правда» закрыта. Но подпольная работа все же продолжалась, выходили листовки и воззвания. Ленинский манифест, написанный от имени Центрального Комитета в Женеве и нелегально доставленный в Россию, был подобен яркому лучу, осветившему русским рабочим их положение и задачи. Иванов с восторгом читал:
«Превращение современной империалистической войны в гражданскую войну есть единственно правильный пролетарский лозунг».
Это превращение виделось Иванову так, будто оно совершалось наяву: война с фронта переносится в города, деревни, заводы, шахты, и весь народ принимает в ней участие вместе с армией.
Однажды Иванов познакомился с солдатом, лечившимся от ран в госпитале, и пригласил его поговорить с рабочими. Встреча происходила в маленькой комнатке Иванова. Солдат сидел на койке, курил и с любопытством поглядывал на собравшихся.
— Нам бы почаще встречаться, — сказал солдат в конце беседы, — у нас в госпитале много хороших ребят. А то нас с вами, — усмехнувшись, пояснил он, — как полено топором — пополам разрубили. Пока полено цело — оно стоит, а половинки — валятся…
Как-то, после ссоры с мастером, Иванова вызвали в контору. Помощник директора долго держал его перед своим столом, притворяясь, что не замечает.
— Вы звали меня? — спросил, не вытерпев, Иванов. — Вот я здесь.
— Вижу, что здесь! — сердито ответил помощник директора. — А тон у тебя — разбойничий. Я тебя хоть весь день не замечу — ты жди. Не велик кулик!
— Ну что же, подожду, — спокойно сказал Иванов и опустился в кресло. Терять ему было нечего, он догадался, зачем его вызвали, и хотел своим независимым поведением досадить чиновнику. И когда тот, брызжа слюной, закричал, что быть Иванову через сутки на фронте, Иванов насмешливо ответил: — Ну что же, не страшно: и на фронте люди живут. Только думается мне, — он встал и наклонился к испуганному помощнику директора, — думается мне, что мы еще встретимся с вами. Желаю здравствовать!
И вышел, засмеявшись.
Рабочие-большевики уходили на фронт во всеоружии, везли с собой, рискуя жизнью, подпольную литературу. Иванов последовал их примеру.
Когда Пронин по сопроводительным бумагам узнал, что представляет собой Иванов, он, поговорив с ним наедине, свел его с Балагиным. Иванов даже не поверил своему счастью: попал к людям, делающим с ним одно дело! Он как бы забыл, что находится на фронте, где каждую минуту могли его убить, весь отдался революционной работе, присматривался к солдатам, разговаривал с ними о Петрограде, о борьбе рабочих и быстро свыкся с новой жизнью.
На собрании он сидел как-то незаметно, немного позади. Мазурин с любопытством поглядывал на него. Лицо у Иванова было темное, как бы закопченное. «Наверное, литейщик, — подумал Мазурин, — литейщика, как и шахтера, сразу узнаешь».
— А мне, товарищ Балагин, говорить-то особо нечего, — застенчиво сказал Иванов. — Забастовки у нас в Петрограде не прекращаются. Охранка с ног сбилась. Четвертого апреля удалось провести массовые забастовки в память Ленского расстрела. Тогда меня и взяли… Я давно у них на крючке был — с мастером поссорился. Очень даже рад, что попал к вам. Повезло, что и говорить. Буду здесь, как и на заводе, ту же самую работу проводить.
— Очень хорошо, — одобрил Мазурин. — Дай пожму твою руку, товарищ!
Синие сумерки темнели, и на самом краю неба, скрываясь за горизонтом, виднелся багровый шар солнца. Было тихо и торжественно, как обычно бывает ясным весенним вечером. И вдруг что-то случилось. Грохот, от которого дрогнула земля и, как при урагане, зашелестели деревья, возник сзади них, с востока. Вспышки ярких огней обозначились там, и воздух наполнился страшным металлическим визжанием тяжелых снарядов.
Собрание пришлось прекратить.
Казаков стряхнул с рукава рыжую, глинистую землю и громко крикнул:
— Началось!
— Ну вот, теперь не до тебя будет, — сказал на ухо Мазурину Пронин. — Выходит, нет худа без добра!
Сначала войны это русское наступление Юго-Западного фронта в 1916 году, которое вошло в историю под названием «Брусиловское», можно было считать одним из самых организованных и подготовленных. Командование собрало значительные силы. Ударные артиллерийские кулаки сосредоточились на важнейших пунктах атаки. Скрытность и внезапность удара — главные условия успеха — были соблюдены полностью.
Ночью Васильев получил приказ вывести полк на исходные позиции. В том особом нервном напряжении, которое обычно бывает перед боем, солдаты осторожно, стараясь не зацепить штык о штык, двигались по узким ходам сообщения.
Работая только по ночам, саперы подготовили атаку настолько хорошо и скрытно, что австрийцы ничего не подозревали. Роты двигались параллельно, батальоны — в затылок один другому, образуя последовательные и глубоко эшелонированные в глубину волны атакующих войск.
Австрийские позиции были расположены так близко от русских, что солдаты до мелочи различали их: рыжие бугры земли, мохнатую паутину колючей проволоки, молодую траву, упрямо пробивавшуюся на волю, хитро устроенные пулеметные гнезда, брустверы и блиндажи — всю глубокую и крепкую первую линию обороны, которую они должны будут взять.
Взвод Карцева сосредоточился в назначенном месте. Солдаты сидели на корточках, прислонившись к стенкам окопов и держа винтовки между колен, другие стояли, разговаривая шепотом, томясь ожиданием атаки и запрещением курить. Голицын поучал Рышку и еще двух солдат, внимательно его слушавших. Защима, командовавший первым отделением, равнодушно смотрел на усыпанное звездами небо, а Банька, вынув пробку из плоской фляжки, добытой у австрийцев, и отвернувшись к стене окопа, тянул ром. Рогожин судорожно зевал. Черницкий, отвыкший от сражений за долгое пребывание в госпитале, шутливо ему советовал:
— Вася, закрой глоточку. Тут летучие мыши, того и гляди какая-нибудь дура и залетит. Будет хуже, чем от пули…
Но шутка не давалась ему. Старая рана заныла в груди. Он подался ближе к Карцеву, и тот, поняв, что происходит в душе Черницкого, обнял его:
— Спокойно, Гилель! Мы с тобой и не такое преодолевали! Жаль вот только, что покурить нельзя!..
Карцев был полон заботы о своих людях. Он медленно обошел солдат, шутил с молодыми, бодро хлопал их по плечам. Он знал, как хорошо действует на солдат спокойствие начальника.
Рогожин говорил, ни к кому не обращаясь:
— В ночное любил я ездить. Сидишь, бывало, в поле, у костра, картошку в золе печешь, слышишь, как кони фыркают, кузнечики в траве стрекочут. Посматриваешь, вот как сейчас, на звезды… Звезда сорвется, чиркнет по небу, ты перекрестишься — мол, младенческая душа из мира ушла — и за картошку. Вкусная она, когда в золе печенная-то…
На востоке чуть-чуть посветлело. Точно кто-то осторожно приподнял там край занавески — не пора ли начинаться майскому дню? И тогда уходящая ночь загорелась и загремела. Это было так грозно и так неожиданно, что люди невольно прижались к стенкам окопов. Петров пробежал по окопу.
— Готовься, ребята! — ободряюще кричал он. — Сейчас начнем!
Сигнал открыть огонь дали одновременно по всему Юго-Западному фронту. Орудия не были разбросаны равномерно. По приказу Брусилова каждая армия, каждый корпус наметили для себя участок атаки и там сосредоточили главную силу удара, прочищая пехоте путь через вражеские укрепления. Солдаты ударных частей сидели в укрытиях, слушая могучий голос своей артиллерии.
Быстро прошел Васильев, радостно возбужденный. Обернулся к солдатам, сказал:
— Ну, ребята, это вам не прошлый год. Не с голыми руками пойдем в атаку. В дым разнесем все австрияцкие укрепления! Но смотрите: атаковать по-русски, по-суворовски!
Карцев осторожно приподнялся и стал в бинокль наблюдать за действиями артиллерии. Солдаты нетерпеливо поглядывали на него. Банька попросил:
— Ты бы говорил, взводный, чего там видишь. А то душа томится…
— Ладно, скажу…
В цейсовский полевой бинокль Карцев видел та хорошо неприятельские позиции, будто они были рядом: распадалась колючая проволока, взлетали в воздух бревна накатов, маскировочные кусты и деревья. Брызгами разлетался бетон, и на земле возникали воронки. Обгоняя друг друга, побежали назад из блиндажа, верх которого снесло тяжелым снарядом, австрийцы и точно растворились в черном дыме взрыва.
В светлеющем, еще молочно-синем воздухе горели красные и желтые огни, вспыхивали ослепительные солнца разрывов. Отрывистым голосом, дрожа от возбуждения, Карцев передавал товарищам все, что наблюдал. Но вот огонь артиллерии прекратился, и тишина показалась очень страшной. Звенело в ушах. Руки солдат судорожно сжимали винтовки. Карцев обернулся, ожидая, что ротный командир вот-вот подаст сигнал к атаке. Но Петров не подавал сигнала. Он сердито толкнул телефониста — не прозевал ли тот? Но телефонист покачал головой: не было еще приказа атаковать.
— Глядите, вон они! — закричал Карцев.
По развороченным, полузасыпанным ходам сообщения австрийцы, низко пригибаясь, бежали из тыла занимать первую линию, уверенные, что прекращение огня означало начало русской атаки. Едва они успели занять эту линию, как русская артиллерия возобновила ураганный огонь. Опять снаряды обрушились на австрийские окопы, солдаты падали, а уцелевшие в ужасе мчались назад, в укрытия второй линии.
— Здорово обманули их! — услышал Карцев голос Васильева.
Широко расставив ноги, полковник в бинокль смотрел на австрийские линии.
Удары артиллерии становились все гуще и убийственнее. Вместе с визгливыми трехдюймовыми летели тяжелые снаряды, круша укрепления противника, его батареи и штабы. Уже были сметены рогатки с колючей проволокой, рушились своды блиндажей; бревна, как разбитые ребра, торчали из земли. Высоко над русскими позициями парили привязанные аэростаты, с которых наблюдали и по телефону корректировали стрельбу. Иногда такой аэростат, подожженный снарядом, вспыхивал голубым пламенем, и корзина с людьми, вертясь в воздухе, стремительно летела вниз.
А русский огонь все продолжался. Каждая группа орудий стреляла по заранее намеченной и пристрелянной цели. Сносились наблюдательные и командные пункты противника, узлы его связи. Специально выделенные тяжелые орудия били по штабам (они давно уже были обнаружены терпеливыми наблюдателями по движению всадников, машин и другим признакам). Иногда огонь затихал, и тогда ошеломленные австрийцы, потерявшие всякое представление о том, что хотят от них русские, вновь бежали на первую линию и, попадая опять под огонь, в безумии кидались обратно, бросали оружие, оставляя на поле убитых и раненых. Адский, жестокий и хитрый огонь так измучил их, что они, словно избавления, ждали русской атаки.
Снова затих огонь. Зажужжал полевой телефон. Петров вскочил, взмахнул рукой.
— В атаку! Ура! — закричал он. — Братцы, не выдавай! Милые, ура!
И бросился вперед, весь полный ликующим чувством силы, неукротимого натиска, близкой победы.
Карцев поднял свой взвод. Хозяйским взглядом окинул людей, увидел Рышку, мертвенно-бледного, с выпученными от страха глазами, Голицына, со штыком наперевес, рядом с ним Черницкого, равнодушного и сейчас Защиму, съежившегося Комарова, молодцеватого Чухрукидзе, явно трусившего Баньку и повел их в атаку. Они не пригибались: неприятельский огонь почти прекратился. Атака нарастала, как большая волна прибоя, которая не может остановиться, пока не ударится о берег. Разгоряченные солдаты одним махом покрыли небольшое расстояние, отделяющее их от врага, и ворвались в его окопы. Карцев увидел два сине-голубых столбика (поднятые и будто окаменевшие в смертном напряжении руки австрийца) и пробежал мимо. Не видя, бегут ли за ним солдаты, но зная, что они не могут не бежать, так же как и он, Карцев вскочил в разбитый сверху блиндаж. Там было пять смуглых, черноусых солдат, и с ними — вооруженный револьвером офицер. Карцев бросился на него. Офицер выстрелил и, пронзительно взвизгнув, повалился, проколотый в грудь штыком.
— Бросай винтовки! — закричал Карцев.
Вид его был так страшен, что австрийцы дружно бросили винтовки и подняли руки. А он уже бежал дальше…
Мазурина назначили командиром второго взвода в роте Казакова. После подпольного собрания им не пришлось больше говорить между собой. Старшие офицеры по нескольку раз в день бывали в роте, каждый шаг сурово ими проверялся, и нельзя было уйти никуда от того грозного напряжения, что господствовало в эти дни на всем фронте. Мазурин был задумчив, даже печален. То он спрашивал себя, зачем ему идти в бой, если он желал поражения царской армии, то, вспоминая обстоятельства, при которых он вернулся на фронт, и свои встречи в тылу с партийными товарищами, думал, что его место среди солдат — всюду, где они находятся, и, значит, в бою он должен быть с ними — продолжать свою работу. Да, он должен пройти с ними вместе кровавый путь, избежать которого ни ему, ни им, как ни горько это, нельзя, и пройти его нужно ради великого будущего.
И он пошел в бой. Солдаты наступали бодро, видя, что артиллерия расчистила им дорогу, что враги укрылись или в панике бегут. Вдруг застрочил пулемет. Кто-то упал, остальные повалились на землю, и поднять их было трудно. Мазурин, низко пригибаясь, выбрался во фланг пулеметчику. Второй номер, стоя возле него на коленях, подавал и менял ленты. Подобравшись как можно ближе, Мазурин поднял винтовку. Толстый немец с багровым лицом, в мундире лягушачьего цвета и плоской фуражке, весело оскалясь, что-то выкрикнул, припал к пулемету и дал очередь. Мазурин выстрелил пулеметчику в голову и ударом штыка свалил второго.
Васильев был на командном пункте вместе с артиллерийским подполковником, распоряжавшимся огнем. Полк шел в атаку волнами, и Васильев в холодном возбуждении рассчитывал, время ли бросить вперед резервный батальон, которым командовал Бредов, чтобы ворваться во вторую линию противника.
«Нет, подожду еще», — решил он и приказал:
— Подкиньте огонька, подполковник. Только пожарче! Надо попробовать с налета вышибить австрияков из второй линии, пока они не опомнились.
Артиллерист, худенький офицер, с седеющими волосами, высоким лбом и мечтательными глазами, схватил телефонную трубку, выкрикивая слова команды. Потом снял фуражку, посмотрел на Васильева и спросил:
— По совести, господин полковник: хорошо работает артиллерия?
— Отлично-с! Прямо молодецки работает. Не подведите только и в следующие дни. Ведь нам еще долго бить австрияков.
— Пока снарядов хватит, — улыбнулся артиллерист. — А там еще обещали…
Васильеву очень хотелось быть на первой линии атаки. Он выслушивал по телефону донесения, отдавал приказы, с наслаждением чувствуя сильный пульс боя. Когда же узнал, что вторая линия достигнута и там завязался упорный бой, он, уже не колеблясь, бросил туда батальон Бредова и сам пошел с ним.
В полдень вторая линия была взята. Полк захватил более тысячи пленных, несколько орудий и много боевого снаряжения. Васильев встретил Бредова.
— Владимир Никитич, дорогой мой! — воскликнул Бредов. — Не могу передать вам, как горд я сегодняшним днем! Смыл горечь Танненберга — помните те позорные дни? — и как хорошо, что могу опять сражаться в нашем полку, под нашим старым боевым знаменем!
Приехал офицер из штаба корпуса и передал, что со всех участков восьмой армии сообщают о блестящих победах. Особенно хорошо действует артиллерия.
Возбужденный успехом, с яростным и отчаянно веселым выражением лица, Петров бежал с винтовкой впереди своих солдат. Десятая рота продвигалась быстро, встречая лишь слабое сопротивление. Петрову хотелось захватить побольше пленных, трофеев, используя панику, смятение противника и боевое воодушевление своих солдат. Он увидел, как русские полевые орудия, взятые на передки, мчались вперед, на новые позиции. Ездовые понукали крупных, толстоногих лошадей. Пожилой полковник, лихо скакавший впереди батареи, крикнул:
— Валяйте, пехота, валяйте скорее вперед! Мы переносим огонь в глубину позиций противника.
И, ударив коня нагайкой, поскакал дальше, а за ним, тяжело грохоча, неслись орудия и зарядные ящики. Лица у артиллеристов были довольные, как после удачной работы.
Уцелевшие австрийцы сидели в своих убежищах, покрытых толстыми накатами из бревен, и когда к ним врывались русские, они сдавались без промедления — ошеломленные, с тупыми, покорными глазами. Карцеву посчастливилось захватить в одном из таких убежищ целую роту с тремя офицерами. Щеголеватый капитан с нафабренными усами, с опаской поглядывая на него, совал ему в руки свою саблю, быстро что-то говоря. Банька кинулся к капитану, рванул его кобуру:
— А ривольверт не отдает, сволочь! Снимай скорее, пока живой…
Подошел Васильев. Капитан вытянулся перед ним, успокоенный тем, что видит перед собой старшего офицера.
— Полнейшая неожиданность для нас, господин полковник, — пробормотал он, — мы никак не могли ожидать. В планах нашего командования исключалась возможность вашего наступления… и притом мы были уверены в неприступности своих позиций.
— Как будто существуют неприступные позиции, — с иронией заметил Васильев. — Стоит только захотеть — и можно взять любую позицию!
Австриец посмотрел на него с вежливым недоумением, видимо не желая вступать в спор. На его лице появилось снисходительное выражение.
— Варварами нас считают, — проворчал Васильев. — Сколько же еще бить надо их, чтобы переучить!
— Не переучишь, — послышался спокойный голос. — Они и Суворова неучем считали, не по правилам, мол, побеждал.
— Хоть и не по правилам, а лишь бы бить, — раздался второй голос. — А там уж разберемся, кто ученее.
Васильев оглянулся. Говоривших было двое: унтер-офицер с золотистой бородой и карими глазами и коренастый, кривоногий солдат.
Пленных повели в тыл. Австрийцы шли охотно, переговариваясь между собой и с любопытством рассматривая русских.
— Эти рады, — сказал коренастый солдат, — воевать больше не придется… Эй, приятель, — крикнул он, — нет ли у тебя завернуть?
Усатый австриец, к которому обратился солдат, торопливо достал из кармана кисет, вынул щепоть темного, крупно нарезанного табака и с улыбкой отдал:
— Кури.
— Э, да ты по-русски балакаешь?
— Словак я…
— Ну, тогда другое дело, — важно заметил солдат.
И, помяв толстыми пальцами табак, скрутил папиросу, закурил и сказал с видом знатока:
— Против нашей махорки не выдержит, хотя и ядовит…
Иванов шел в бой, плохо владея винтовкой. Грохот орудий оглушал его, так и хотелось лечь на землю и закрыть голову руками. Вдруг что-то рухнуло на него, и он упал, думая, что все кончено. Но чья-то дружеская рука бережно помогла ему встать, и он увидел перед собой улыбающееся лицо Чухрукидзе.
— Ничего, ничего, совсем ничего. — Он подал оброненную Ивановым винтовку. — Привычка надо, потом легче будет. Айда со мной!
И они побежали догонять ушедших вперед товарищей.
Черницкий бежал в атаку рядом с Голицыным. Тот заметил, как у Гилеля сводило скулы от судорожной зевоты. Он хорошо знал это состояние повышенной нервозности в бою и крикнул:
— Первая колом, вторая соколом!.. Держись, Гилель!
Черницкий засмеялся.
— Уже пошла соколом, — Ответил он. — Держусь, дядя, держусь!
И бросился вперед. Вскочил в австрийский окоп и наткнулся на Защиму, который со своим отделением охранял кучку пленных австрийцев. Пленные сидели на дне окопа, и Защима говорил тягучим голосом:
— Царь ихний по-смешному зовется — казер. Почему казер? — неизвестно. Хотя с нашим — два сапога пара. А только противно слышать такое название. За казера, что ли, воюете? — спросил он у пленных.
Они молчали.
— Что же с вами делать? Мне наступать надо… Ну, вы тут тихонько посидите. Ведь не такие же вы дураки, чтобы опять идти за казера. А мы дальше двинем.
И, больше не обращая на пленных внимания, он повел свое отделение вперед.
Бредов руководил наступлением своего батальона и весь был полон неуемной жажды боя и победы. То, о чем он мечтал — сознавать себя крепкой частицей победоносной русской армии, — осуществилось.
Перед ним была вторая линия австрийских укреплений. Тут только что прошел ураган русского артиллерийского огня, и батальон должен был развить уже достигнутый успех. Бредов в бинокль видел, как австрийцы побежали прятаться в укрытия. Наученные горьким опытом, они не торопились вернуться, боясь, что сейчас возобновится огонь. Бредов опустил бинокль.
«А что, если стремительным ударом, не давая противнику опомниться, взять эти окопы и блиндажи?»
Эта мысль обожгла его, и он передал приказ в роты.
— Главное — не терять ни одной минуты! — сказал он и, став во главе одной из рот, размашисто забирая длинными ногами, побежал вперед. На одно мгновение ему показалось, что риск велик, — а вдруг австрийцы успеют вернуться и открыть огонь? «Нет! Они, как суслики, сидят в своих норах», — подумал он и побежал еще быстрее.
Из флангового окопа затрещал пулемет. Понимая, что теперь уже поздно остановиться и что все заключается в быстроте, Бредов протяжно закричал «ура» и вырвался вперед. Им овладело дерзкое чувство удачи. Он первым прыгнул во вражеский окоп, с упоением видя, что разгоряченные солдаты не отстают и набегают широкой цепью.
Он послал донесение Васильеву, думая, что тот прикажет ему закрепиться на занятых позициях, и был поражен, прочитав приказ с аллюром три креста, написанный на листке полевой книжки.
«Первый батальон уже обогнал вас, — сообщал Васильев, — второй продвигается уступом с вашего правого фланга. Используйте удачу и боевое настроение солдат — смело продвигайтесь вперед. В случае нужды — помогу вам. Держите со мной связь. С богом!»
Бредов даже засмеялся от радости: с таким командиром, как Васильев, хорошо воевать! Да, надо полностью использовать успех, гнать ошеломленного врага, не давать ему опомниться. Он зорко поглядел на солдат, уверенный, что и они думают то же, что и он. Многие из них были радостно возбуждены. Но он увидел и мрачные лица… А бородатые ополченцы совсем не имели солдатского вида, вбирали головы в плечи, и ясно было, что они только идут за остальными, а дай им волю — побежали бы назад, в безопасное место.
Австрийцы усилили огонь, пулеметы били с флангов. Солдаты замялись, стали ложиться. Бредов понял, что наступил момент, когда командир своим собственным примером должен увлечь за собой солдат. Он любил вспоминать великие примеры из истории и подумал, что сейчас надо действовать подобно Наполеону на Аркольском мосту, бросившемуся вперед под градом вражеских пуль. Это сравнение не показалось ему смешным, и он пошел впереди одной из своих рот, бывшей в центре атаки. Их встретили усилившимся огнем. Бредов понял, что штурмовать в лоб нельзя. Беспокойно подумал о своей левофланговой роте, которой командовал Казаков: вот если бы тот догадался с фланга охватить пулеметы, погасить их огонь!.. Бредов поспешно вынул полевую книжку, с досадой думая, что, пока будет доставлен приказ, пройдет несколько драгоценных минут, которые могут решить судьбу боя. Но пока он писал, рота Казакова сделала то, чего он хотел. Вражеские пулеметы смолкли, и батальон ворвался в австрийские позиции.
В эту минуту из казаковской роты прибыл связной. Он доложил, что сам Казаков ранен, из строя выбыли все офицеры и командование ротой принял старший унтер-офицер Мазурин.
Узнав, что это случилось еще до того, как ротой был произведен фланговый маневр, Бредов удивился: «Как же это? Значит, фланговый маневр с захватом австрийских пулеметов произвел не Казаков, а Мазурин? Молодец. Право, молодец! Надо представить его к Георгию…»
Одновременно с возвращением Мазурина на фронт в штаб полка прибыло секретное донесение о том, что старший унтер-офицер Мазурин политически неблагонадежный и за ним необходимо особо следить. Васильев, раздраженный полицейским вмешательством в военные дела, вызвал Казакова, сердясь, рассказал ему суть дела и спросил, что же им делать с Мазуриным.
Казаков пожал плечами.
— Вы сами знаете, Владимир Никитич, — сказал он, — какая у нас страшная нужда в опытных унтер-офицерах. А Мазурин воюет с начала войны, один из лучших взводных. Заменить его некем.
И резко добавил, зная слабую струнку Васильева:
— Они там, в тылу, любят в наших делах копаться. Их бы сюда хоть на недельку, они бы другое запели!
— Да, да, — согласился Васильев. — Мы его пока не тронем. Но только прошу вас, поговорите с ним по душам, скажите, что сейчас не время заниматься всякими там… ну, сами понимаете… — он строго посмотрел на Казакова. — И предупредите, что в случае чего — пусть не обижается на нас.
В тот же день Казаков наедине переговорил с Мазуриным, и они решили, что Мазурин пока ни с кем не будет видеться, а все, что нужно, передаст Балагину сам Казаков.
Дело как будто обошлось. Но через несколько дней прибыла вторая бумага, в которой сообщалось, что о Мазурине обнаружены новые данные и потому следует его арестовать и держать, пока не будет указано, как с ним поступить и куда направить. Эту-то бумагу Пронин и скрыл, хотя хорошо знал, чем рискует.
Мазурин думал, что победа царской России в войне надолго отдалит революцию. Но в бою он не мог оставаться бездейственным, и это было ему особенно тяжело. Когда он, после ранения Казакова, временно принял командование ротой, то сразу же оценил обстановку. Слева тянулась роща, ярко-зеленая от свежих листьев, достигавшая фланга австрийских окопов. Идти в лоб не было смысла, и, оставив один взвод с пулеметом, приказав поддерживать огонь и погромче кричать «ура», изображая атаку, Мазурин повел остальные взводы рощей, выслав вперед сильную разведку.
Австрийцы были заняты отражением атаки с фронта. Их сторожевые дозоры в роще были бесшумно сняты, и Мазурину удалось пробраться незамеченным к самому неприятельскому расположению. Не теряя темпа, он сразу начал последний бросок. Солдаты так дружно ринулись за ним, что без выстрела ворвались в окопы, прежде чем австрийцы успели очухаться. И сейчас же поняв, что надо поддержать другие роты батальона (сам он действовал на левом фланге), Мазурин приказал пустить в дело захваченные неприятельские пулеметы и стал продвигаться к центру австрийского расположения.
— Ну, я бы тебя командиром полка назначил! — с уважением смотря на него, сказал сероглазый, уже немолодой ефрейтор, украшенный Георгием. — Просто по нотам, как музыкант, разыграл бой!
И другие солдаты дружелюбно смотрели на Мазурина, и ему были необычайно приятны их похвалы. «А что же, — подумал он, — хорошо я роту повел. Если бы пришлось, и с батальоном, пожалуй, справился бы… Нет, не плохо знать военное дело. Кто его знает, как оно еще может нам пригодиться…»
По окончании боя в роту пришел Бредов, и Мазурин обо всем доложил ему…
— Прекрасно действовал! — похвалил Бредов. — Мы, кажется, с тобой еще по Егорьевску знакомы? — нерешительно спросил он.
Мазурин внимательно посмотрел на Бредова (он хорошо помнил предмет их разговора), но не счел нужным напоминать об этом.
«А ведь он тогда говорил мне о войне и как будто намекнул, что она не нужна русскому народу, — вспомнил Бредов. — Что же он теперь — иначе думает? Нет, не похож он на человека, меняющего свои убеждения». На следующий день Васильев прислал в роту нового командира — прапорщика Рылеева. Рылеев служил до войны вольноопределяющимся, затем был направлен в Иркутское военное училище и там за бравый вид и хорошее знание строевой службы оставлен в кадрах. В шестнадцатом году, устыдившись тыловой работы и мечтая о боевой славе и орденах, он отпросился на фронт. Широкоплечий, с упрямым подбородком, узкими монгольскими глазами и черными жесткими волосами, он понравился солдатам: был прост и ласков с ними, курил, как и они, махорку, не прятался от опасности. Но в бою слишком горячился и как-то под сильным огнем приказал штурмовать противника в лоб, правда сам идя среди атакующих. Неразумность приказа была ясна солдатам. Они замялись.
— Не стоит так, ваше благородие, — спокойно посоветовал Мазурин. — Лучше бы обойти, иначе перестреляют нас, а толку не будет.
Рылеев вспыхнул.
— Ты что это? — приглушенно спросил он. — Кто здесь командир? Я у тебя совета не просил. Да ты знаешь…
И сразу замолчал. Во взгляде Мазурина не было никакого вызова, но такая ясная и разумная твердость светилась в нем, такая спокойная сила чувствовалась во всем его облике, что Рылеев понял: нельзя так говорить с этим человеком.
А Мазурин продолжал, будто ничего не произошло:
— Разрешите мне, ваше благородие, с первым взводом обойти их? Местность подходящая, проберемся незаметно через кусты и по вашему сигналу — ударим. Вот здесь — буерачек, а здесь — низинка с болотцем. Не заметят они нас. Мы их ловко обманем…
— Да, пожалуй!.. — согласился Рылеев. — Да, пожалуй! — решительно повторил он и крепко стиснул руку Мазурина. — Прости, взводный. Больше не будем с тобой ссориться…
Они сошлись друг с другом. Рылеев оказался хорошим парнем. Сибиряк родом, сын мелкого акцизного чиновника, он вырос, часто общаясь с отчаянными тобольскими ребятами, которые никому не давали спуска и были известны озорными выходками и проказами.
— Фамилия у вас хорошая, — сказал ему Мазурин, когда они поздним вечером, после боя, сидели в австрийском окопе и курили крепчайшую нежинскую махорку.
Рылеев быстро взглянул на него:
— Ого, взводный, ты и про декабристов знаешь?
Скоро он убедился, что Мазурин во многих областях знает гораздо больше его, а в военном деле разбирается с удивительным пониманием и чутьем, поражавшими Рылеева.
Незаметно для себя Рылеев все больше поддавался влиянию Мазурина и любил беседовать с ним. Мазурин же был сдержан, чаще отвечал, чем спрашивал, но отвечал так, что обсуждаемый вопрос неожиданно освещался в совершенно новом свете.
— Хорошо воюем, — с гордостью сказал ему как-то Рылеев, вытягивая короткие ноги в запачканных грязью сапогах. — Вот какая она, матушка Россия, когда во весь рост поднялась!
Мазурин ничего не ответил, и Рылеев ревниво произнес, придвигаясь к нему ближе:
— Что же ты, взводный, молчишь, не согласен?
— Да так… — неохотно ответил Мазурин. — В рост ли?
— А как же не в рост?! — воодушевился Рылеев. — Ведь весь народ воюет — от Сибири до Москвы и Киева! Это ли не в рост? Нет, ты не спорь.
— Я и не спорю, — в глазах Мазурина Рылеев опять увидел ту убедительную силу, которая так привлекла его. — Народ наш любит свою родину и никому не отдаст ее. Но он за свое хочет воевать, а не за чужое.
— Как — за чужое? — оторопел Рылеев, бросая самокрутку. — Ну, ну, говори. Я послушаю.
— Молчание — золото, ваше благородие, — сказал Мазурин, улыбнувшись, и отошел от командира роты.
Русское наступление продолжалось. Главный удар наносился на Луцк, Ковель и далее — на Брест-Литовск, чтобы срезать правый фланг германских армий, действовавших против Западного фронта. Наносившая этот удар восьмая армия уже к вечеру первого дня заняла на широком фронте первую, самую сильную линию австро-германцев, взяла до пятнадцати тысяч пленных, много орудий и другой военной добычи. Вторая линия оказалась слабее первой, и, обессиленные тяжелыми потерями, австрийцы вяло защищали ее. Четвертый кавалерийский корпус русских, войдя в образовавшийся прорыв, прошел в глубокий тыл противника и перехватил железную дорогу Ковель — Сарны и Ковель — Луцк, что сразу затруднило противнику передвижку резервов и маневрирование ими. Австрийцы бросили последние силы, чтобы прикрыть Луцк. Германский генерал фон Линзинген, командовавший на этом участке, был уверен в прочности своего фронта и считал русское наступление несерьезным. Он даже объявлял в своем приказе: «Численность противника и сравнительно небольшие потери, нанесенные огнем его артиллерии, не обещают русским успеха. Это слабое наступление, предпринятое русскими для уравновешения успехов союзников против Франции и Италии, будет сломлено».
Как всегда, немцы недооценивали противника и переоценивали свои собственные силы. В одном только Линзинген был прав: наступление было начато с целью помочь союзникам России — Франции, которую немцы жестоко теснили под Верденом, заставляя стягивать туда свои последние резервы, и Италии, разбитой под Изонцо, где австрийцы угрожали прорваться через горные проходы и выйти на венецианскую равнину.
Начальник австрийского генерального штаба Конрад фон Гетцендорф, один из немногих способных генералов габсбургской монархии, с начала войны с Италией мечтал о военном разгроме бывшей союзницы, изменившей центральным державам и перешедшей в стан ее врагов. Но только весной тысяча девятьсот шестнадцатого года ему удалось накопить против Италии достаточные силы А начать наступление. Первые успехи русских не могли его заставить снять ни одной дивизии из Тироля. Австрии была нужна хотя бы одна победа. Но когда оказалась разгромленной четвертая армия эрцгерцога Иосифа-Фердинанда, когда в полной панике, бросая оружие и оставляя артиллерию, австрийцы, теснимые русскими войсками, побежали через мосты у Борятин и Подгайцы и командование потеряло всякую связь со своими частями, тогда в отчаянии и бессильной ярости фон Гетцендорф был вынужден отказаться от успешно проходившего наступления против Италии и начать переброску войск на русский фронт.
…Подходила осень, небо становилось бледнее, чаще шли дожди, падали листья с деревьев, устилая землю. Так блестяще начатое русское наступление замирало, не достигнув своей главной цели — вывести из строя Австро-Венгрию. Другие русские фронты вовремя не поддержали Юго-Западный, и только союзники много тут выиграли, так как немцы прекратили против них всякие активные действия, оттянув свои силы из Франции на Восточный фронт.
Васильев за военные заслуги был произведен в генералы и получил в командование дивизию. Но он мало радовался этому. Его томило и мучило горькое сознание, что самое главное не было сделано. Опять против русской армии тянется крепкий фронт противника, опять придется все начинать сначала…
Поздним вечером он сидел в избе у раскрытого окна. Надвигалась ночь, тихая, свежая, звезды устало светили в небе. По улице медленно шел офицер, и, когда поравнялся с окном, Васильев узнал Бредова.
— Зайдите, Сергей Иванович!
Он обратил внимание на бледное лицо Бредова, на глаза, в которых виднелись смущение, боль, и тихо спросил:
— Устали?
— Нет, не устал, Владимир Никитич! — Бредов поднял глаза, встретив острый, испытующий взгляд Васильева. Несколько мгновений они смотрели друг на друга. В глазах Васильева Бредов прочел: «Можете говорить все. Я разрешаю — так нужно».
Но он молчал. То, что мучило Бредова в последние дни, было так глубоко и сложно, столько страшных мыслей приходило ему в голову, столько мучений причиняли ему эти мысли, которые он гнал от себя, полагая, с солдатской прямотой, что ему не дано право так думать, что он никогда не решился бы высказать их, да еще перед старшим начальником.
— А скажите, Сергей Иванович, — спросил вдруг Васильев, — замечали вы у ваших офицеров то, что теперь испытываете сами?
Бредов вздрогнул. Почти неслышно он спросил:
— Что именно думаете вы, Владимир Никитич?
— Ну, вы понимаете… То самое, что тревожит вас. Ведь тревожит, грызет, да? Не скрывайте от меня ничего, ни-че-го. Это мне очень важно знать!
…Всего несколько дней назад Брусилов побывал в дивизии Васильева. Он приехал, как всегда, неожиданно, в сопровождении только двух офицеров, выслушал рапорт Васильева и просто сказал:
— А я уже походил тут у вас. Хорошие полки. Особенно моршанцы. Они ведь и на японской воевали?
— Точно так, ваше высокопревосходительство, воевали, — ответил Васильев. — Мой родной полк, я с ним в Маньчжурии был.
— Да, на нашего русского солдата грешно жаловаться, — задумчиво произнес Брусилов, и Васильев уловил оттенок горечи в его голосе. — Много он вынес и бог весть сколько еще вынесет за отечество свое, за Россию…
Он скоро уехал, и Васильев, для которого самое дорогое в Брусилове были воинская честность и талант, много думал о нем.
Все великое наступление, так талантливо и энергично организованное и проведенное Брусиловым вопреки воле трусливого и бездарного верховного командования, наступление, которое, как это твердо знал Васильев, спасло Францию и Италию от разгрома, могло, при поддержке другими фронтами, вывести из строя и Австрию, изменить всю судьбу войны. Не по вине Брусилова все случилось иначе, и полководец горько переживал крушение своих больших и смелых планов. Так же переживали это и лучшие офицеры Юго-Западного фронта, в том числе и Васильев. Вот почему хотел он узнать — не те ли же горькие чувства, что и его самого, мучат Бредова?
Он близко наклонился к его лицу, покусывая свой светлый ус, и слушал медленные, трудные, отрывистые слова своего старого боевого товарища, офицера, которого он ценил за честность и воинское умение. Он неспроста допрашивал Бредова: та трагедия, что назревала в нем, когда выяснилось, что большое их наступление гасло, не поддержанное другими фронтами, переживалась не им одним. Те же мысли, что мучили его, подметил он и у других офицеров и боялся, что эти мысли, такие страшные на войне, могут проникнуть еще глубже — в солдатскую массу…
— Вы можете с меня взыскать, — говорил Бредов, — но я считаю своим долгом все доложить вам как на духу. Первые дни нашего наступления были для меня очень радостные, самые счастливые в этой войне! Я уже говорил вам об этом. Именно так я представлял себе наш большой удар. Я следил в бинокль за действиями нашей артиллерии. Как она работала!.. С каждым днем возрастал наш успех, с каждым днем! Мы расширяли прорывы, гнали врага, брали десятки тысяч пленных, орудия, пулеметы. Я часто думал: почему создается вокруг нас какой-то заколдованный круг, почему, черт возьми, победа, которая не раз улыбалась нам, уже блистала перед нами в дыму и огне боя, почему она всегда ускользала от нас? Ведь мы дрались, не щадя жизни. Сколько подвигов совершали наши офицеры и солдаты, и все это тухло, как тухнут отдельные искры в костре, который не может разгореться. Надо же хоть раз честно сказать об этом, вложить персты в свои собственные раны!.. Страшно вспомнить Мазурские озера, пятнадцатый год, страшно вспомнить мне нашу ставку, ее чиновников-генералов, которые не поражения боятся, нет!.. а того, как бы не угодить высшему начальству, и думают об одном — как бы получше выслужиться и сделать карьеру… О, бедная, бедная наша Россия! Кто же виноват, кто, скажите, довел ее до такого состояния?!
Он опустил голову.
— Я дрался с японцами, — глухо продолжал Бредов, — в ту пору было еще хуже, еще более мерзко. Когда началась теперешняя война, я подумал: вот оно — искупление, вот она — вторая отечественная война. Помню, как мы сбили пограничный столб с черным германским орлом, как вошли в Восточную Пруссию. Чем это кончилось — известно…
Он машинально потянулся к карману и отдернул руку.
— Курите, — разрешил Васильев.
Бредов достал папиросу, помял ее, покатал между пальцами, закурил.
— Выходит, что я всю историю войны вспоминаю, — сказал он, — но я не историю вспоминаю, а жизнь свою вам рассказываю…
И, подняв на Васильева потемневшие глаза, он сказал с такой болью, что видно было, какие это выстраданные слова:
— Вся история войны говорит за то, что… — он вдруг растерянно замолчал.
Васильев сурово глядел на Бредова, рука его повелительно поднялась. Да, он не мог больше сдержать себя и в то же время не мог понять, что так потрясло его, почему он так ненавидел в эту минуту Бредова? Неужели, вызвав Бредова на откровенный разговор, он теперь не может сдержать возмущения от всего того, что слышит? И тут же признался самому себе: да, не может! Самые горькие и затаенные свои мысли, которые он гнал прочь от себя, считая их неверием в Россию, были брошены ему в лицо Бредовым. Теперь он видел, что все идет не так, как представлялось в начале наступления. Бывает у человека во время сна состояние, когда ему кажется, что на него нападают, а он не может шевельнуться, поднять руку, чтобы защититься. Это ужасное ощущение собственного бессилия, связанных рук было невыносимым для него, и он прятал его от всех, от всех, и вот случилось то, чего он больше всего боялся: это сознание мучит не только его, а многих, очень многих…
Васильев молчал, прижав пальцы к вискам.
— Я пойду, Владимир Никитич…
Согнувшийся, с потухшими глазами, с дрожащей рукой, которая все пыталась застегнуть перчатку на другой руке и не могла, Бредов был исполнен такого мужественного, солдатского горя, что у Васильева сжалось сердце. Он как будто узнал в Бредове самого себя, свои сомнения. Резко шагнул к нему, спросил:
— Так как же, Сергей Иваныч, что полагаете делать?
Бредов ответил ровно и спокойно, только голос был приглушен:
— Драться, Владимир Никитич, драться…
Васильев протянул ему руку, крепко пожал:
— До свиданья, Сергей Иваныч. Желаю успеха.
Оставшись один, Васильев прошелся по комнате, стиснул руки.
«Крылья, крылья связаны, — тоскливо подумал он и поглядел в окно, в черную ночь. — Сколько силы в нас, какое широкое сердце у людей наших… Когда же, господи, взмахнут наши крылья во весь свой размах, во всю русскую силу? Когда же?.. Когда?»
Вернувшись из дивизии Васильева, Брусилов прошел в свой кабинет и сейчас же принялся разбирать на письменном столе бумаги. Среди них он нашел пачку солдатских писем с сопроводительной запиской начальника секретной части. Тот докладывал, что, так как задержано очень много писем революционного содержания, он счел необходимым ознакомить с некоторыми из них главнокомандующего фронтом.
Брусилов стал читать письма на выборку.
Вот Павел Соломенников, канонир мортирного дивизиона, скорбит о России:
«…Слабые мы очень, видно, и разорилась наша Россия — довели ее до нехорошего, до горького позору… Если самим не взяться да не кончить, то и в 50 лет не станет Россия на старое место. Нет, так уж воевать нельзя. Разве стерпит народ?»
«А если в самом деле не стерпит? — подумал Брусилов. — Разве мало вынес народ? Где же проходит граница его долготерпения?»
Он взял из пачки следующее письмо.
«Олимпиаде Михайловне Степановой, город Саратов.
Мы воюем, страдаем, а за нашей спиной жиреет всякая дрянь да за нас решает, конечно, в свою пользу, наши собственные дела. Когда читаешь газеты, то ужас до чего обнаглели все эти Питиримы да Распутины, а мало ли их? Понятно: им и подобным им выгодно вести войну без конца, а спросили бы народ, хочет ли он воевать? Я что-то давно не слыхал про победы, все отходы да отходы. Положим, до Сибири еще далеко…»
«И сколько таких писем!.. — вздохнул Брусилов. — Да, недоброе творится в армии, недоброе…»
Он достал еще одно письмо, адресованное солдатом Мещевиновым в Сарапул. Пробежал несколько строк и покачал головой. Страшно подумать, какими стали солдаты, о многом они думают, многое понимают по-своему…
Брусилов перебрал несколько писем, выхватил одно, написанное, как ему показалось, более грамотным почерком. Опять такое же! Значит, подобные настроения становятся массовыми?.. Он стал читать:
«…Напрасно в России народ уничтожается, убивают напрасно, весь народ волнуется, и все готовы к революции. А что революция будет, так это, пожалуй, более чем вероятно. А разве народ, который раньше был слеп, разве народ этот не прозрел, разве он не видит, что измена проникла в верхние слои правительства, которое дискредитировало свою власть? Ну и правительство едва ли добровольно выпустит власть из своих рук. И власть притом безграничную…»
Брусилов вскочил, в волнении прошелся по комнате. И вдруг показалось ему, что ставка и все высшее командование как бы повисли над солдатской пучиной, готовой поглотить их. Ох, страшен будет солдатский счет к тем, кто так преступно управлял ими, бросил в мясорубку войны.
Он не мог больше читать. Ему стало душно. Подошел к окну. Запах свежего сена донесся до него. Где-то негромко заржала лошадь.
— Да, да, это очень страшно, — вслух сказал Брусилов. — А я думал, что знаю русского солдата.
Ему надо было отвлечься. «Проедусь верхом», — решил он и вышел.
— Сам подседлаю, — бросил он ординарцу, быстро входя в конюшню и с наслаждением вдыхая запах сена, наваленного в углу.
Кобыла, стоявшая в деннике, повернула к нему голову, покосилась выпуклым темно-синим, как спелая слива, глазом и обдала сильным, теплым дыханием. Он огладил ее, дал с ладони кусочек сахару, накинул уздечку, потник и седло, затянул подпруги. Кобыла немного поиграла с ним, притворяясь, что хочет укусить.
— Застоялась, ваше высокопревосходительство, — пояснил ординарец. — Утром водил ее по двору, так она рвется, просится, ей-богу!
Ординарец Брусилова служил в гусарах, любил и понимал лошадей и в конюшне чувствовал себя равным генералу.
Брусилов проверил длину стремени и велел ординарцу вывести лошадь. Взяв ногой стремя и ухватившись рукой с зажатыми в ней поводьями за гриву, Брусилов легко поднялся в седло, и в ту же минуту кобыла, играя, встала на дыбы. Нажимом поводьев он опустил ее на передние ноги и толкнул шенкелями. Она охотно пошла легким, танцующим шагом, прося повода, весело мотая головой и пытаясь выброситься вперед. Сдерживая ее, чувствуя каждое ее движение, Брусилов немного проехал короткой рысью и затем галопом поскакал в поле, глубоко дыша, чувствуя себя, хоть ненадолго, освобожденным от тяжелых дум.
Вечером ему доложили, что в штаб фронта приехал французский генерал Савиньи.
Брусилов с досадой подумал, что ему придется возиться с вылощенным штабным генералом, но Савиньи приятно разочаровал его. Это был черненький, сухощавый, очень бодрый старичок, с мушкетерскими, тронутыми проседью усами и воинственной острой бородкой, с живыми глазами, одетый в поношенный мундир и коричневые краги. Вытянувшись, а затем крепко пожав руку Брусилова, француз стремительно заговорил:
— А, мой генерал! Сегодня большой день в моей жизни. Простите, я старый солдат и не мастер в речах, но я чертовски рад, что могу познакомиться с вашей славной армией и с вами лично. А! Как вы здорово поколотили бошей! Мои боевые товарищи просили меня передать вам их сердечный привет и признательность.
Брусилов спросил, каково сейчас положение под Верденом. Савиньи сердито фыркнул и стал горячо рассказывать, непрерывно жестикулируя:
— Да, мой генерал, все идет не так прекрасно, как это, может быть, кажется издали и как это, — он опять сердито и насмешливо фыркнул, — подносит наша Главная квартира. Я бы не советовал вам, мой генерал, воевать вместе с англичанами. Нет, не советовал бы! Вы не имели бы никакой радости от такого союзника, а только одни огорчения, уверяю вас. У них старая колониальная привычка посылать в бой других, а самим больше наблюдать со стороны. Притом они никогда не спешат, даже когда обстановка требует быстрых решений, и терпеть не могут никакого риска, — а как же можно воевать без риска, мой генерал, хотел я спросить вас?.. Они желали бы, чтобы победу поднесли им на блюде, как зажаренного рождественского гуся, и тогда им осталось бы только съесть его! О, этот труд они бы еще согласились взять на себя. Я хорошо знаю их и никогда не забуду сентябрь четырнадцатого года, когда положение показалось им слишком опасным и наш старый Жоффр едва умолил их не грузиться на корабли, кстати стоявшие наготове. Да, у них славные солдаты, и я ничего плохого не могу о них сказать, но политика Англии, — ах, мой генерал! — Савиньи щелкнул пальцами и сделал гримасу, — это очень неуютная политика для ее союзников, уж поверьте моему опыту.
Он придвинулся к Брусилову и доверительно продолжал:
— Представьте себе, что двое спят под одним одеялом и кто-то из них без всякой церемонии натягивает на себя все одеяло — что остается делать другому?
И он так выразительно сверкнул живыми глазами, что Брусилов рассмеялся: француз все больше нравился ему.
— Вы сами были пед Верденом, генерал? — спросил он. — Трудно пришлось?
— А! — Савиньи зябко передернул плечами. — Боши устроили нам большую неприятность, надо сознаться. На это способны только они — выматывать столько времени подряд, тупо и беспощадно, как машина. Да, там было не весело, особенно в июне. И я хочу от французской армии передать вам, мой генерал, нашу благодарность за вашу великодушную помощь. Если бы боши не вынуждены были из-за вашего наступления снять несколько корпусов из-под Вердена и отправить их на восток, там могло быть для нас плохо. Да, Франция никогда не забудет, что русские своей храбростью, своей кровью два раза спасали ее во время этой войны. В августе 1914 года, когда они шли на Париж и вы своим наступлением заставили их снять с фронта два корпуса, и вот теперь.
Он резкими движениями пальцев встопорщил усы.
— А как не хотелось им прерывать операцию под Верденом! Они надеялись найти там решение войны. А Италия! Австрийцы изрядно поколотили итальянцев и готовились уже маршировать на Венецию! Как ни тяжко нам было, а пришлось бы послать туда парочку-другую дивизий, иначе Италия вышла бы из игры. И тут опять помогло ваше наступление. А!.. Сковать, вырвать инициативу, как зуб из челюсти, спасти Францию и Италию! Да, это было великолепно, мой генерал, от души говорю вам… Наполеон и ваш Суворов гордились бы такой победой!
Савиньи говорил искренне. Это было видно по его взволнованному лицу, по блестящим глазам, по сердечной манере простого служаки, которая была свойственна ему.
Брусилов пригласил Савиньи к обеду. Отдав честь русской водке и похвалив ее, француз развеселился и рассказал несколько анекдотов об англичанах, которых он, в чем убедился Брусилов, явно не любил.
— Я дрался в начале войны во Фландрии рядом с англичанами. Боши теснили нас, и пришлось просить помощи у соседей. Я сам примчался туда. Вопрос решали буквально минуты, но мне сказали, что генерал занят, и просили подождать. Я, как вы, очевидно, заметили, человек горячий, не выдержал, выругался и, вопреки всякому этикету, ворвался к генералу. Он брился и был очень шокирован моим бесцеремонным вторжением. А я до тех пор не знал, что бритье важнее выигранной операции!
— И что же, отдал он нужный приказ? — спросил Брусилов.
— Не раньше, чем его побрили и даже сделали массаж, — меланхолично ответил Савиньи и угрюмо добавил: — Два моих батальона потеряли половину людей из-за этого бритья. Уверяю вас, мой генерал, это было совсем не весело…
Уезжая, Савиньи дружески простился с Брусиловым и оставил ему на память свой портрет с надписью.
Вот что он написал:
«Я с особым чувством пишу эти строки, мой дорогой генерал. От всей души желаю я, чтобы два великих народа — России и Франции жили в вечной братской дружбе и единении. Тогда никакие враги не будут им страшны. Весь ваш генерал Савиньи».
После производства Васильева в генералы полк принял Бредов. Полк сражался в районе местечка Кисилина, северо-западнее Луцка. Это было на важном Ковельском и Владимиро-Волынском направлениях, где в начале наступления наносился главный удар 8-й армией. Немцы хорошо учитывали важность этого направления и, когда их фронт был прорван, поспешно перебросили туда с запада десятый имперский корпус, в состав которого входила 20-я брауншвейгская дивизия. Этой дивизии за боевые успехи Вильгельм присвоил название стальной — «штальдивизион».
Немцы, считавшие, что русские солдаты слабые противники, в первом же бою сгоряча бросились в атаку.
— Мы — не австрийцы, — хвастались германцы.
Как всегда, они подготовили атаку мощным артиллерийским огнем.
Русских солдат засыпало в окопах землей, старые деревья с треском падали, а вырванные с корнями взлетали на воздух, и ветви их шелестели как бы в предсмертном вздохе. Защима сохранял безмятежное спокойствие и говорил Голицыну, который уткнулся лицом в землю и прикрыл голову саперной лопаткой:
— Ты, дядя, с богом не спорь. Он тебя, когда нужно, все равно отыщет. Вот ты голову спрятал, а зад у тебя горбом торчит.
Голицын в ответ глухо выругался, не подымая головы. Черницкий и Карцев засмеялись. Едкая солдатская шутка ценилась в бою.
— Покурить бы, — простонал Комаров. — Там у тебя, дядя, остался недокурок — дай, ради Христа.
Голицын, не глядя, высунул руку с толстым окурком, И Комаров жадно схватил его.
Огонь усилился. Брауншвейгцы, дико крича, шли в атаку. Они двигались густыми цепями, уже были видны их лица.
Карцев зорко смотрел вперед.
— Без приказа не стрелять! — крикнул он и, зная, как важен в эти минуты твердый голос начальника, скомандовал: — Взвод, пли! Часто начинай!
Немцы бежали вперед. Чувствуя своим солдатским сердцем, что настал самый острый момент боя, который нельзя пропустить, Карцев вскочил.
— В атаку! Ура-а-а!
Полк атаковал, имея десять — двенадцать рядов в глубину. И самый грозный вид боя — встречный — разгорелся по всей линии.
Участвовал в нем со своей ротой и Мазурин. Накануне Пронин доставил ему письмо из Петрограда (на имя Мазурина писать было нельзя, и письма шли по другим адресам). Писал Иван Петрович, иносказательно описывая то, что делалось на заводах и в городе.
«Теперь уже и слепому ясно, — читал Мазурин, — что с дядей никакого сговора не может быть. Он начисто грабит семью, выжимает из нее все соки, продает последние вещи. Дети решили, что выход у них один: самим взяться за хозяйство, а то дядя все погубит и пустит их по миру. Вот что сообщают, значит, мне из деревни, а еще хотелось знать, как у вас дела, пишут ли тебе из дому, какие у них виды на урожай. Все пропиши подробно. Мы так думаем, что дяде крышка и семья управится без него, мужик он злой и вороватый — не долго ему осталось хозяйствовать».
Письмо это взволновало Мазурина, он долго не мог успокоиться, по многу раз перечитывал отдельные строки, отыскивая между ними все новый смысл. Как хотелось бы ему знать, что делается там, в далеком Петрограде, нет ли новых вестей от Ленина. Мазурин слышал, что в Швейцарии опять собирается международная социалистическая конференция, на которой должен выступать Владимир Ильич. Что он предложит, что скажет? Как дорого было бы им, армейским большевикам, услышать в эти трудные дни ленинское слово!.. А надо идти в бой. На мгновение уныние охватило Мазурина, и он ворочался, лежа на земле, с головой укутанный шинелью, потом не выдержал и встал. В ночи вспыхивали зарницы выстрелов, вдали от пожаров нехорошо багровело небо. Вспомнилась Катя… Хорошо бы хоть на минутку увидеть ее, встретить ее ласковый взгляд!
И вот он в штыковой атаке, идет в свое будущее этой кровавой дорогой…
Атака, предпринятая русскими, опрокинула брауншвейгцев. Два лучших полка стальной немецкой дивизии были наголову разбиты, и вражеские атаки прекратились.
Утомленные солдаты сидели за прикрытиями, с аппетитом черпали из котелков кулеш. Вдруг Черницкий приподнялся и стал всматриваться в немецкие окопы.
— Ого! — удивленно сказал он. — Посмотрите, ребята!
Над германскими позициями покачивался плакат, пристроенный к высокому шесту. На фанере было крупно написано мелом:
«Ваше русское ж и л е з о не хуже германской стали, а все же мы вас разобьем».
— Ах, сволочи! — вскипел Голицын. — С разбитым рылом, а туда же — хвастаются! Ответить бы им надо…
Несколько человек уже что-то писали на чистой портянке, макая в пузырек с чернилами щепочку. Скоро над окопом десятой роты тоже поднялся плакат. Надпись была очень краткая:
«А ну, попробуй!»
Однако немцы не пробовали. На следующее утро десятый германский корпус, обессиленный огромными потерями, был выведен в тыл и заменен другими частями.
Как-то в один из сентябрьских дней Васильев увидел возле штаба дивизии незнакомого человека лет тридцати пяти, грузного на вид, но с легкими, спорыми движениями. Он был одет в защитный полувоенный костюм, какой носили представители Земского союза, насмешливо прозванные на фронте «земгусарами». Однако незнакомец не походил на земгусара. В нем чувствовалось сознание собственной силы. Расставив ноги, он внимательно смотрел на батарею тяжелой артиллерии, расположившуюся на лужайке. Васильев усмехнулся. Этот человек чем-то напомнил ему Пьера Безухова, попавшего во время Бородинской битвы в гущу военных событий.
«Надо все же узнать, что ему тут нужно», — решил он и послал адъютанта. Он видел, как тот подошел к «Пьеру», как они разговаривали и адъютант пожал ему руку. Потом оба, беседуя, направились к штабу. Васильев встал, с любопытством разглядывая пришедшего. У незнакомца были живые серые глаза, толстые, наморщенные будто в усмешке губы, на голове сидела плоская фуражка с непонятной кокардой. Близко подойдя к Васильеву, он свободно поклонился и сказал негромким, сочным голосом:
— Простите, ваше превосходительство, что незваным гостем явился к вам. Я, видите ли, работаю на фронте по поручению Академии наук.
Он отстегнул пуговку на грудном кармане френча, достал и протянул Васильеву бумагу. Штаб фронта удостоверял, что доктор геологических наук Александр Евгеньевич Фирсов, посланный по специальному заданию Российской императорской Академии наук, имеет право посещать части на различных участках фронта.
— Милости просим, — сказал Васильев. — Мы на фронте рады каждому свежему человеку оттуда, — он показал рукой на восток. — Вы надолго к нам?
Фирсов пожал плечами.
— Да как вам сказать, генерал? Я не впервые на фронте. А задание у меня довольно-таки обширное, много придется поработать.
— Вы, может, переночуете у нас? — приветливо спросил Васильев. — Будем очень рады.
Фирсов поблагодарил и согласился.
Вечером они сидели в комнате Васильева. Пришла ночь, звезды голубым сиянием переливались в небе, потом на востоке, где была Россия, посветлело, а они все сидели друг против друга, пили крепкий чай и разговаривали.
— Вот в кои веки встретились два русских человека и никак не наговорятся! — усмехаясь, заметил Фирсов. — Мне вас, Владимир Никитич, так интересно слушать, — даже не объяснишь, как интересно.
— А я, Александр Евгеньевич, слушаю вас, как посланца чуть ли не с другой планеты. Иногда обидно становится, до чего мы мало знаем, что делается в России!
— Вам в Сибири не приходилось бывать, Владимир Никитич?
— Как же, приходилось! Всю ее, матушку, проехал. Служил там. Кроме того, с японцами воевал.
— Да, благодатный край. В нем будущее наше. Редко где в мире найдутся такие богатства, да в таком изобилии, да в таком подборе.
— Неужели так велики, Александр Евгеньевич?
— Велики — не то слово! Грандиозны, неисчислимы, как в сказке! Вот только подобраться к ним не умеем, и приходится за границей втридорога покупать то, что есть у нас… Эх, открыть бы нам наши недра! Мы тогда Россию можем поднять на такую высоту, что мир ахнет!
— Так вы же ученые, геологи, — вам и карты в руки!
— Дорогой Владимир Никитич, скоро сказка сказывается!.. Все у нас втуне под землей лежит, а ведь как нужно нам эти богатства исследовать, добыть их!.. Тогда и воевать было бы легче — засыпали бы фронт всем, что нужно: снарядами, пушками, — вот что!
— Да, тяжело, Александр Евгеньевич… А знаете ли вы, что значит для нас, солдат, этот ужас голых рук, когда противник садит по тебе тысячами снарядов, а ты ему одним на сто отвечаешь?
— Знаю. Ведь нас, минералогов и геологов, еще в самом начале войны привлекли, чтобы добыть нужное для фронта сырье. Совещались мы при химическом комитете Главного артиллерийского управления. Многое мы там узнали, многого наслушались: нет ничего страшнее и позорнее.
Он провел рукой по лицу, как бы снимая с него что-то липкое.
— Мы ведь тоже в ответе. Перед солдатом, которого в бой посылаем, перед Россией, — сказал Васильев. — Думаете, легко нам?
Фирсов тяжело кивнул, доставая папиросу.
— Да, солдат расплачивается за всех, — грустно проговорил он. — Долго пришлось нам заседать, рыться в цифрах, подымать архивы. Ставка ведь хорошо знала, что в мобилизационном запасе всего четыре миллиона винтовок, а надо не менее семнадцати! И так оказалось со многим вооружением — ничего не было подготовлено! Россия вступила в эту гигантскую войну фактически безоружной. К чему это привело, вам лучше меня известно.
Он замолчал, сердито глядя на лежанку, покрытую черной мохнатой буркой.
— Представьте себе, — снова заговорил он, — что вы живете в доме, в своем имении, живете там всю жизнь и совершенно незнакомы ни с этим домом, ни с этим имением. Вы не в курсе даже расположения комнат, не знаете, какая в них мебель, а если выходите из дома, то не знаете, что вокруг — лес, поля или река. Может ли быть такое положение? Нет, не может, — ответит каждый благоразумный человек. А мы, русские, как раз и очутились в таком положении. Мы не ориентируемся в собственном доме, в котором живем уже много столетий.
— Погодите, — перебил его Васильев, — как это так? Разве не добываем мы уголь, металл, золото и прочие ископаемые?
— Все это капля в море, Владимир Никитич, ничтожная крупица того, что нам нужно и что мы могли и должны были сделать!
Фирсов с силой ткнул окурок в шрапнельный стакан, служивший пепельницей, и сейчас же достал другую папиросу, сунул ее в угол рта и так оставил ее незакуренной. Васильев, глядевший ему в глаза и вертевший в руках коробок со спичками, тоже забыл предложить огня.
— Спохватились мы, да поздно, — продолжал Фирсов. — Создали комиссию по разведке естественных производительных сил, специальные комитеты — военно-технический, военно-химический и прочие. Собрали ученых, начали обсуждать, как и что делать. Одним словом, вздумали креститься, когда за окном давно гром гремел. Нас спрашивают: есть ли у нас никель, сурьма, молибден, фтор, бром, фосфор, мышьяк?.. Где достать соли бария и стронция для ракет? Существуют ли у нас месторождения бариевых солей? Есть ли алюминиевые руды, есть ли сера и так далее, и так далее, без конца. Сыплются на нас со всех сторон вопросы, а ответить на них трудно. Ох, как трудно, и… стыдно!.. Да, стыдно, — повторил он, машинально взял из рук Васильева коробок, чиркнул спичкой, поглядел на узенький, заостренный кверху огонек и держал спичку в пальцах, пока она не сгорела. — Что тут таиться: не знаем мы своей страны, богатств и недр ее на малую долю не исследовали! И это честно признал наш крупнейший ученый, академик Вернадский. Слыхали о нем? Он работает в этих комиссиях. Вот он и подал мысль, что надо немедленно, не теряя времени, подытожить наши знания, осветить, если можно так сказать, запасы и месторождения всех видов природного сырья в стране. Идея эта была принята, знаете, как откровение, честное слово! Война подстегнула нас, и вот за два года, что прошли с тех пор, удалось кое-что сделать. Мало, конечно, но все же… Открыли тихвинские бокситы, начали вырабатывать свой алюминий, добываем немного сурьмы, вольфрама, молибдена…
Издали послышался грохот, похожий на взрыв, и в избушку вбежал молодой прапорщик. Он что-то торопливо сказал Васильеву, и тот, извинившись перед Фирсовым, быстро, вместе с прапорщиком, вышел.
Фирсов пошел за ними. В темноте не было видно ни окопов, ни артиллерийских позиций, ни уродливых зарослей колючей проволоки — всего грозного пейзажа войны. Справа сонно шелестела роща, высокое небо с чистыми звездами раскинулось над землей, и Фирсов недоуменно оглянулся: не у себя ли он на даче под Петроградом? И вдруг далеко на западе вспыхнули багровые зарницы и оттуда донесся глухой удар. Фирсов пошел наугад, вперед — к тем далеким зарницам, пошел, сам не зная почему. Внезапно перед ним возникла черная фигура.
— Стой! Кто идет?
Фирсов остановился и назвал себя. Штатский человек, полностью преданный науке и преклонявшийся перед ее мудростью, он до мучительности остро сознавал над собой грозную, чужую власть, в которой было нечто стихийное, — власть войны. Он покорно ждал, пока солдат, остановивший его, проделает все, что в таких случаях полагается. Солдат подошел близко и, сверкнув фонариком, осветил лицо Фирсова.
— Вы у генерала Васильева были, — сказал он. — Я видел вас там. Пожалуйте. Только туда, — он показал рукой в направлении, куда шел Фирсов, — не советую идти.
Тон его голоса удивил Фирсова. Солдат говорил с ним мягко и свободно, как говорят между собою люди равного развития.
— Можно узнать — кто вы?
— Старший унтер-офицер Мазурин.
— А, очень рад! — Фирсов поздоровался, ощутив твердое пожатие сильной руки. — Так мне, говорите, опасно идти туда?
— Да, да. Можете наткнуться на проволоку, свалиться в окопы. Приятного мало.
— Это верно, — согласился Фирсов. — А вы давно на фронте?
— С начала войны. Но два раза уже был в тылу, лечился от ран.
— Угу… Так вы, значит, у генерала Васильева меня видели?
— Даже, извините, слышал ваш разговор. Дежурным был.
— И что же, как отнеслись вы к тому, что я говорил? — В голосе Фирсова прозвучал неподдельный интерес.
— Говорили вы правильно. Но скажите: уверены ли вы, что все эти комитеты, комиссии и само правительство так сумеют наладить дело, что обеспечат фронт всем, чем нужно? Тут ведь нужна прямо-таки революция в геологическом деле! Разве при теперешних порядках это возможно?
Фирсов был ошеломлен. Странный у него собеседник, странная обстановка, странный разговор!
— Думаю ли я так? — переспросил он. — Если честно признаться — нет, не думаю. Слишком мы отстали. Но следует ли из этого, что надо опускать руки?
Мазурин стоял против Фирсова, опираясь на винтовку, и когда какая-то далекая вспышка осветила их на мгновение, Фирсов различил лицо солдата — простое русское лицо, с глазами проницательными и глубокими, с морщинками по краям рта.
— Послушайте, — сказал он, — а ведь ваше лицо знакомо мне… и голос знаком. Да, да, ведь мы даже разговаривали с вами! Постойте, постойте… Где это было?
Мазурин улыбнулся.
— А я сразу узнал вас, Александр Евгеньевич, — сказал он. — Ведь я по явке ночевал у вас, в Петрограде. Такие вещи не забываются… До сих пор с благодарностью вспоминаю, как эта ночевка спасла меня от ареста — больше некуда было тогда деться.
— А! Да, да, да! — радостно воскликнул Фирсов. — Теперь я узнал вас! Мы тогда еще толковали с вами о возможности социалистической революции в России, помните? Интересный был спор.
И, наклонившись к Мазурину, прошептал:
— И сейчас ваши товарищи иногда ночуют у меня.
— За это вам великое спасибо, — с волнением произнес Мазурин.
— Я с теми, кто хочет переделать жизнь по-новому. Еще Чехов мечтал о том времени, когда не станет тунеядцев и все без исключения будут трудиться.
— Работать надо всем, — согласился Мазурин, — только не так, как это принято теперь, — не на чужих, не на врагов. Работать надо для народа нашего, все для него подготовить — ему потом легче будет жить.
— Когда это «потом»?
Мазурин продолжал говорить, не отвечая на вопрос:
— Вот вы ссылались на нашу бедность, на неурядицы, на то, что мы не знаем своих богатств. Неужели вы, ученый и знаток своего дела, считаете, что все это случайно? Неужели не видите, что страна, которой так варварски управляют, не может выиграть войну и продолжать жить по-прежнему? Нет, дальше так жить нельзя! Один путь — взять народу управление страной в свои руки. Нужно ломать стену, которая не дает возможности выйти на простор, добыть те несчетные сокровища, о которых вы так хорошо изволили говорить генералу Васильеву. Кто же, по-вашему, будет прав: тот ли, кто станет ахать, что можно ли и время ли эту стену ломать, или тот, кто поплюет на ладони, схватит лом да саданет им что есть силы в эту проклятую стену, да товарищей позовет на помощь?
— Ах, вот оно что — «садануть»! — язвительно сказал Фирсов. Он слушал Мазурина со смешанным чувством сознания силы, простоты его слов и смутного своего несогласия с ними и обрадовался, что последние мазуринские мысли дали повод возразить ему. — Садануть-то легко, а как же вы саданете, когда надо в это же самое время немца остановить? Нет, друг мой, нужно быть осмотрительным, рассчитать все как следует. Семь раз примерить, а затем уже действовать.
— …Примеряли-то давно, — лукаво ответил Мазурин. — Еще Разин и Пугачев этим занимались, потом декабристы, народовольцы… Мы, господин Фирсов, по-другому примеряемся: рубить дерево, так уж и пень корчевать, ломать стену, так до земли, чтобы и следа от нее не оставить!
— Кто же это «мы»?
— Народ! Простые люди! Прежде всего — рабочий класс, которому, как вам известно, кроме цепей, терять нечего, а приобрести он может весь мир! Разрешите узнать, — другим тоном вдруг спросил он, — вот вы ведете изыскания, отыскиваете руды, а кому все это достанется?
— Как кому? Все это для нас с вами, для России — для народа!
— Да что там достанется народу! — простодушно сказал Мазурин. — Вот народ добывает золото на Лене, а получает за это гнилое мясо в желудок и пули в грудь! Давайте начистоту говорить: народ тут ничего и не понюхает. Вы бывали в Донецком бассейне? Видели, как шахтеры живут? В забой спускались? В каких условиях шахтер трудится? Нет, народу от всех богатств, что он добывает, достанутся только гроб да могила.
Он не горячился, не повышал голоса, как человек, прочно знающий свое, и тон его голоса действовал на Фирсова, может быть, еще сильнее, чем слова, которые он слышал.
— Скажите мне, я верю вашей искренности и честности, — разве можно отдать Россию немцу? — спросил Фирсов. — Разве есть сейчас что-либо важнее нашей победы? Мы погибнем, если не победим в этой войне.
— Не погибнем, — твердо сказал Мазурин. — Мы своей России не отдадим никому. Я слышал, как вы говорили, что мы постыдно не знаем дома, в котором живем. Такая ли Россия нужна вам, честному ученому, или вашему учителю Вернадскому, всей интеллигенции, всему нашему народу? Так вот, ту новую Россию не отдадим никому, за нее будем драться и умирать и, умирая, славить и любить ее. А желать победы царской России — все равно что желать ее мертвецу. Да и с кем, скажите, побеждать ей? С царем, верховным главнокомандующим, с Распутиным, со всей этой, простите, сволочью, что окружает их, с разрушенным тылом и с народом, который эту царскую власть ненавидит и только и ждет, чтобы ее сбросить? Неужели вам не ясно, что такая Россия победить не может?
— Нет, это уж вы чересчур сильно, — проговорил растерянно Фирсов, — так нельзя. Мы в море, и надо нам плыть, добраться до берега.
— На гнилом, тонущем корабле моря не переплывешь, — жестко ответил Мазурин. — Надо строить корабль другой, крепкий….
Земля вздрогнула от разорвавшегося невдалеке тяжелого снаряда, и когда Фирсов опомнился, никого уже возле него не было.
Бывает в природе состояние, которое можно назвать предгрозьем. Тяжелые, темно-серые тучи, точно каменные, нависают над землей, тишина — даже ветер не шумит в деревьях, но уже чувствуется, что надвигается и скоро разразится буря небывалой силы.
Вот такое же состояние было в России в конце шестнадцатого года, прерываемое, как отдаленными раскатами грома, забастовками на заводах и волнениями в деревнях.
Когда закончилось наступление, из войск Юго-Западного фронта точно выдернули последнюю пружину, еще державшую их в напряжении, и недовольство и возмущение среди солдат вспыхнули с новой силой.
Они отбыли суровую страду четырехмесячного наступления и, точно очнувшись, как люди, только что вынырнувшие из воды, старались наверстать то, что временно было утеряно ими, — связь с семьями, со страной и теми подпольными ячейками, число которых в армии, даже по донесениям охранки, необычайно выросло.
Как-то ночью Пронин разбудил Мазурина:
— Уходи сейчас же, а то возьмут. За каждым твоим шагом следят. Приготовил тебе отпускные документы на чужое имя. Возьми и уходи.
— Сейчас нельзя, — решительно отказался Мазурин. — Не могу бросить работу. На всякий же случай помни: связи у Балагина. Он сделает все…
Пронин ласково посмотрел на него. Он не сказал Мазурину, что сам с минуты на минуту ждет ареста. Сегодня Денисов вдруг появился в канцелярии около полуночи и поймал его за чтением солдатских писем, перехваченных военной цензурой и хранившихся в особом секретном пакете.
— Ты что тут делаешь?! — закричал Денисов, вырывая письма. — Под суд пойдешь, мерзавец!
Дрожа от бешенства, он бегло просмотрел листки, исписанные корявыми почерками. Потом сунул письма в карман.
— Вон отсюда! У меня еще одна бумага пропала… За все ответишь! Вон!
Пронин притворился невинно страдающим: поник головой, даже выдавил слезу, тяжело шагнул к порогу, но, как только вышел из канцелярии, со всех ног бросился к Мазурину.
В ранней юности Пронин пережил революцию тысяча девятьсот пятого года. Отец и старший брат трудились на Луганском паровозостроительном заводе. Пронин тогда мало знал об их работе. Но вот на заводе произошла стачка, на улицы вышли колонны рабочих с красными флагами, а ночью у отца было собрание. Окна завесили, маленькая лампа едва освещала комнату, и он, еще совсем мальчик, лежал у стены и едва-едва различал суровые лица рабочих, слышал их приглушенные голоса. Вдруг резко стукнули в дверь, затем сильно ее рванули. Он на всю жизнь запомнил эту ночь. Отец встал, страшный в своем спокойствии, показал товарищам на внутреннюю дверь. Но они не успели скрыться. Снаружи с треском и звоном высадили окно, и в комнату с револьверами в руках прыгнули полицейские. Отца увели. Только через пять лет Пронин опять увидел его — постаревшего, но такого же непреклонного духом, как прежде. И он пошел дорогой отца, уверенный, что это единственно верная дорога, что ею, только ею должны идти рабочие, чтобы добиться свободы. В армию он попал по призыву уже членом партии, большевиком.
— Скажи, Алексей, ты веришь, что скоро все повернется по-иному? — спросил Пронин.
— Верю, но скоро ли — не скажу.
— Скоро! Ведь я ежедневно читаю секретные бумаги, вижу, в каком настроении начальство. Утратили спокойствие, не твердо ходят по земле, поверь мне! Недавно подслушал, как Денисов душу свою раскрывал приятелю, думая, что его никто не слышит. «Кажется мне, — сказал он, — что стою я на берегу моря и на меня с глухим ревом катится волна вышиной в десятиэтажный дом. Бежать хочется, голова кружится — вот-вот тебя затянет в пучину»…
Пронин чуть слышно засмеялся.
— Он хорошо объяснил мне, что происходит в их душах… Ну, надо идти, Алексей. Каждую секунду будь начеку. Может, все-таки уйдешь? Вот документы.
Мазурин только покачал головой. Они молча обнялись.
Уже светало. Бледная полоска наметилась на востоке.
Мазурина взяли следующей ночью. Пришли за ним незнакомый подпрапорщик и два солдата чужого полка. («Своих побоялись послать», — усмехнулся про себя Мазурин.) Мысль работала у него ясно, неторопливо. Он отметил, что его предварительно вызвали из землянки — не решились взять при солдатах. Подумал о том, что Балагин в курсе всей работы и хорошо заменит его. Да, работа будет продолжаться, а это самое главное. Что же теперь будет с ним? Пожалуй, не захотят долго возиться…
Той же ночью его увезли, посадили в отдельное купе с тем же подпрапорщиком и двумя солдатами. Мазурин пробовал было заговорить с ними, но они тяжело молчали, не глядели на него, и только подпрапорщик сердито оборвал его:
— Молчать, арестованный! Разговаривать запрещено.
Вылезли на какой-то маленькой станции, шлепали по грязи, вошли в одноэтажное серое здание, в комнату, где за столом сидели три офицера. Сидевший посредине подполковник, с коричневыми усами и плохо выбритым лицом рылся в бумагах и даже не взглянул на Мазурина. Потом отрывисто спросил у него фамилию, имя, национальность и место прежней работы.
— Знаешь, в чем обвиняешься?
— Никак нет!
Подполковник равнодушно кивнул, точно ожидал, что получит именно такой ответ.
— Здесь, братец ты мой, фронт и суд скорый — военно-полевой. Разговор у нас с тобой будет недолгий, — понимаешь, надеюсь? Вот здесь, — он коснулся папки, — все твои дела, начиная еще с мирного времени. Мы о тебе достаточно осведомлены, все твои заводские дела знаем, да и солдатские тоже все!.. Осталось тебе одно: чистосердечно во всем сознаться. Так лучше будет. А не признаешься — мы и так обойдемся. Против царя и отечества идешь?
— За отечество, за Россию, за народ иду, — голос Мазурина прозвучал задушевно.
— Ах, так? — У подполковника кровью налилось лицо. — Что же, у тебя, выходит, своя собственная Россия?
Через полчаса судьи, посовещавшись между собой, решили отложить дело, так как должны были поступить дополнительные сведения о связях Мазурина и они надеялись распутать весь клубок.
Мазурина отвели в тюрьму. Два дня он провел в одиночной камере. В последнюю ночь услышал под дверями осторожный шепот:
— Эй, земляк! Не спишь?
Мазурин встал, подошел к двери. Из глазка потек страстный, приглушенный голос:
— В Петрограде волнения. Солдаты отказались в народ стрелять…
Голос сразу потух, в коридоре послышались чьи-то шаги. Минуту спустя говоривший снова подошел к двери, поднял крышку глазка. Это был часовой.
— Видел я, когда тебя в камеру вели, — заговорил он. — Много н а ш е г о брата здесь перебывало. Одних — в землю, других — на каторгу. С тобой-то что будет? Ах, милый… Горе, горе… Бьемся как мухи в паутине… Я ведь знаю — сюда тихих не приводят. Кто за нашу солдатскую правду стоит — того и хватают. Что будет с Россией-то, с народом?..
Он слушал Мазурина с такой жадностью, с какой пересохшая земля впитывает в себя влагу. Задавал отрывистые вопросы. О себе сказал:
— Мы — нижегородские. Братан у меня на Сормове работал. Теперь тоже воюет, а где — не знаю. Может, убили…
Он стремительно отскочил от двери, забыв прикрыть глазок, поправил на ремне винтовку. Лязгнула входная дверь, послышались шаги нескольких человек, чей-то начальственный, сердитый оклик. Мазурин прильнул к глазку и едва подавил готовый вырваться крик. Двое конвойных провели мимо его камеры Пронина. Мазурин до боли стиснул пальцы, мысли лихорадочно проносились в его мозгу: «Неужели раскрыли всю организацию? Как могли взять Пронина, ведь он лучше всех законспирирован? Значит, взяли и Балагина, Карцева, Иванова… Как бы узнать? Ах, как бы узнать?..»
В соседней камере ржаво взвизгнул замок.
«Рядом со мной посадили», — подумал Мазурин. Он немного выждал и затем стукнул в стенку. Молчание. Он снова и медленно простучал: «Пронин, это я, Мазурин. Как тебя взяли? Как Балагин? Карцев, другие?»
Пронин был осторожен. Он заставил Мазурина ответить ему на некоторые проверочные вопросы и лишь тогда ответил: «С другими пока хорошо. Меня подвела бумага о тебе… Я ее похитил… Денисов раскрыл. Набросился с кулаками. Я тоже его ударил. Вероятно, расстреляют. Если выберешься — передай привет товарищам. Обо мне не печалься. Не боюсь смерти, не струшу!»
На рассвете Пронина увели. Проходя мимо камеры Мазурина, он на мгновение остановился.
— Прощай, Алексей! — крикнул он. — Поклонись товарищам!
— Прощай, Пронин! Мы не забудем, не забудем тебя!
Мазурин застонал от страшной скорби, охватившей его. Он метался по камере, страдая от своего бессилия. Мучительно тянулось время. Через окно глухо донесся ружейный залп. Мазурин рванулся так, будто выстрелили в него.
Это было в феврале тысяча девятьсот семнадцатого года.
Карцев метался во сне. Ему снилось, что на него налез немец — огромный, грузный, и он никак не мог сбросить его с себя. Потом он схватил немца за грудь, но тот так его встряхнул, что он вскрикнул и открыл глаза. Кто-то, наклонившись, тряс его за плечи. Балагин! Глаза у него горели, губы дрожали.
— Что случилось?
— Вставай! Революция!.. Вставай скорее и буди товарищей. Эх, черт побери, Мазурина бы нам сейчас!..
В землянке рядом спали Голицын и Черницкий, а немного поодаль, с головой укрывшись шинелями, лежали Защима, Чухрукидзе, Рышка и Рогожин. В углу, свернувшись калачиком, спал Комаров. Когда их разбудили, Голицын бросился к винтовке, думая, что объявлена боевая тревога. Черницкий, густо покрякивая, достал махорку, и Комаров, как обычно, цепкими пальцами залез в его кисет.
Новость по-разному подействовала на солдат. Голицын солидно осведомился, не врут ли; Рышка немедленно спросил Балагина, дадут ли землю крестьянам; Рогожин, мелко крестясь, радостно бормотал: «Слава тебе господи! Теперь непременно мир будет, по домам пойдем»; Защима объявил, что он первым делом зарежет фельдфебеля; Чухрукидзе сгоряча сказал что-то по-грузински Черницкому, и тот, хотя ничего не понял, дружески закивал ему и повторял: «Правильно, брат, правильно!»
— Не обман, не ошибка? — спросил Карцев осевшим от волнения голосом. — Расскажи все подробно.
Он представил себе родную Одессу, широкую Преображенскую улицу, по которой, может быть, уже идут колонны рабочих с алыми знаменами, бульвар, знаменитую лестницу, сбегающую террасами вниз к порту, — как хотелось ему хоть на денек увидеть все это!..
А Балагин думал о том, что надо скорее оповестить солдат о великих событиях. Он взглянул на крестящегося Рогожина, на выжидательно смотревшего Рышку. Все солдатское сошло с Рышки, его острая бородка опустилась, он отжевывал усы.
— Теперь хорошо будет, — ласково сказал Балагин.
— Это уж как водится… — неопределенно ответил Рышка. — Одним хорошо, а нам всегда плохо. Ты вот объясни: без царя, значит, жить начнем? А не страшно? Кто теперь за порядком уследит? А становые, урядники — останутся? Воевать не кончим? Землице кто хозяином будет?
Он расспрашивал страстно, настойчиво, хорошо помня и девятьсот пятый год, и расправу, которая затем последовала, и земляков, отправленных на каторгу… Горько было ему, что не мог он разобраться в том, что случилось теперь, и вопросительно, с тревогой глядел на Карцева, на Иванова, с которыми не раз по душам беседовал, которым верил: не повторится ли то же самое и сейчас, в семнадцатом году?
…Прошли первые дни Февральской революции — сумбурные и еще непонятные. Выяснилось, что во многих частях офицеры скрывают от нижних чинов события в стране. Солдаты собирались кучками, оживленно толковали и враждебно смолкали, когда появлялись офицеры. А те растерялись. Среди них было много прапорщиков, сочувственно принявших весть о революции. Но главной бедой кадрового офицерства было малое политическое развитие, полная беспомощность перед разразившейся бурей, оторванность от солдатской массы, которая их ненавидела и не верила им.
В те дни Мазурин сидел в тюрьме. Двадцать восьмого февраля его снова вызвали в суд. Подполковник прочел приговор:
— «Военно-полевой суд Энской армии постановил: старшего унтер-офицера Алексея Ивановича Мазурина разжаловать, исключить из списков армии и расстрелять за принадлежность к преступной социал-демократической партии, поставившей своей целью низвержение существующего строя и борьбу против ведения войны».
Мазурин внешне спокойно выслушал приговор. Но когда его привели обратно в камеру и он подумал, что через несколько часов — смерть, что в последний раз увидит он высокое небо, услышит шум ветра, голоса людей (каким дорогим все это казалось ему сейчас!) и все — весь мир, товарищей, Катю, надежду на грядущую революцию — все это он утратит навсегда, лицо его сжалось от боли, губы задрожали. Человеческая слабость на какие-то секунды овладела им. Но вдруг что-то свершилось с ним. Та большая сила, что всегда вела его вперед, вновь проснулась в нем. Он вздохнул глубоко, как человек, вынырнувший из омута.
— Ну что же, — вслух сказал он. — Если так надо во имя нашей борьбы — встречу смерть, как в бою!
Он услышал шорох под дверью и вспомнил часового, с которым разговаривал. «Передаст письмо, — подумал Мазурин, — и бумагу достанет, и карандаш…» Он сосредоточился, думая о том, что написать товарищам в предсмертный час. Но вот раздался топот многих ног в коридоре, зазвучали чьи-то голоса, кто-то сильно застучал в дверь камеры. Мазурин выпрямился, оправил гимнастерку, подтянулся, чтобы достойно, как подобает солдату-большевику, с поднятой кверху головой выйти на казнь, и вдруг услышал радостно-отчаянные крики:
— Ур-ра! Ура-а! Ура-а!
Дверь стремительно распахнулась. Никогда так не открывали ее тюремщики… Несколько солдат с винтовками вбежали в камеру, и один из них крикнул Мазурину:
— Революция в Питере! Царя сбросили! Революция, дорогой друг! Выходи! Ур-ра!
Солдаты бросились целовать Мазурина.
На следующий день он уже был среди своих. Его охватило никогда еще не испытанное ощущение полета: будто он несется по воздуху подобно птице, подымается все выше и выше и солнце светит ему, как не светило еще никогда…
Вскоре он получил петроградские газеты и, дрожа от радости, читал солдатам о войсках, присоединившихся к восставшим рабочим, об аресте царских министров, о том, что Москва и другие крупные города следуют примеру Петрограда. Он собирал вокруг себя всех известных ему большевиков, завязывал связи с соседними частями. Солдатские собрания происходили почти непрерывно, надо было отвечать на бесчисленные вопросы людей, хотевших узнать, что происходит в стране и что может им дать революция. И все горькое, что было спрятано в сердцах миллионов солдат, не находя выхода, прорвалось, как прорывается полноводная река сквозь плотины, долго державшие ее.
Карцев с радостно сияющими глазами говорил Мазурину:
— Не узнаю людей, Алеша! Самые забитые стали другими, честное слово! Столько вопросов, что и не ответишь. А некоторые даже выступают в печати, во как! Коряво, правда, говорят, но зато — от сердца! Очень, очень интересно их слушать.
Через два дня в армии стал известен приказ № 1 Петроградского Совета:
«Во всех ротах, батареях, батальонах, полках немедленно выбрать комитеты из представителей нижних чинов; во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету Рабочих и Солдатских Депутатов и своим комитетам; всякого рода оружие должно находиться в распоряжении и под контролем ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам даже по их требованиям; вставание во фронт отменяется; титулование — «ваше превосходительство», «ваше благородие» и тому подобное — отменяется и заменяется обращением: «господин генерал», «господин полковник» и т. д. Грубое обращение с солдатами, в частности обращение к ним на «ты», воспрещается…»
Чтение каждого пункта приказа сопровождалось бурей восторга.
— Кончилась ихняя власть! Хватит над солдатом измываться!
— И солдат за людей стали считать!
— Ура, ребята, наша взяла!
— Выбирать скорее комитеты!
— Милые, братики родненькие! Теперь одно только и осталось: кончать войну и по домам!
— Кончать ее, сволочь, скорее!..
На одном из собраний, происходившем недалеко от штаба дивизии, выступил Рышка, выступил и страшно испугался собственной смелости. Заговорил несвязно:
— Люди славные! Все у меня в голове путается… Не знаю, что теперь к чему? К чему, скажем, нам эта война?.. Земля, скажем, плачет по мужику, а какая она у нас, земля-то? Скажем, раз прыгнешь — и межа. А без земли, люди славные, пропадать нам…
И, окончательно смешавшись, Рышка юркнул в толпу. Вслед за ним выступил Иванов.
— Товарищи! Пришло время народу решать свою судьбу, — сказал он. — По всей России борются наши братья — рабочие, крестьяне и солдаты. Вот Рышка не понимает, что к чему. Пускай не прибедняется! Он хорошо знает, что нужно ему, рязанскому крестьянину. Земля ему нужна, да чтоб не сидели у него на шее помещик и становой, чтоб мог Рышка жить как свободный человек, без нужды! Вот за это и надо ему бороться. А чтобы легче было, нужно деревенскому мужику объединиться с рабочим в городе — одни у них интересы! Весь трудовой народ должен взять власть в свои руки, и тогда, товарищи, нам не будет страшен никакой враг! Выгоним не только царя, но и всех его министров, помещиков, становых, урядников, фабрикантов, всю землю отдадим тем, кто ее обрабатывает. Вот в чем цель нашей народной революции, вот за что надо бороться тебе, товарищ Рышка, и нам всем!
Его слушали в глубоком молчании, в великом изумлении. Петроградский рабочий, большевик раскрыл перед ними новый, чудесный мир, о котором они не знали или знали очень мало. И события, что казались им стихийными, встали перед ними в другом, понятном для них свете. Люди заволновались. Выходили один за другим — лохматые, неловкие, с трудными словами — и говорили, говорили. Их слушали, кричали, шумели, спорили…
Невысокий солдат в барашковой шапке, держа обеими руками винтовку, говорил, не то угрожая, не то спрашивая:
— Ротный у нас хотя и не стервь, но жох и строгий. Как же я ему скажу ныне «господин поручик»? Даст по морде, и будь здоров. Ей-богу, приказ приказом, а голос не подымается… Двести лет так называли, и на тебе — скисло молоко…
Кто-то вразумительно советовал:
— Обману чтоб не вышло, братцы. Приказ этот надо топором на камне вырубить.
Голицын, упершись руками в бородатые щеки, с остановившимся, ушедшим в глубину взглядом, сидел на пне. Был он «луженый», много натерпевшийся за свою крестьянскую и солдатскую жизнь, любил говаривать: «Мы — что лошади: без кучера не живем, а какой же кучер без кнута?» — и всем опытом своей жизни убеждался в истине этих слов. И вдруг все перевернулось. До конца ли перевернулось? Ведь была уже одна революция, он хорошо помнит ее: полгода пробирался домой из далекой Маньчжурии с солдатским эшелоном, видел в родной деревне сожженный дом помещиков Дурасовых, потом понаехали казаки, исправник, и все пошло по-старому…
Жесткая рука схватила его за плечо, и он увидел перед собой Черницкого.
— Ну, дядя, давай поцелуемся. Солдату не часто выпадает такой денек.
Голицын охватил Черницкого толстыми, сильными руками, трижды поцеловал в губы и растроганно пробормотал:
— Гилель! Милая душа… Ну, дай бог, дай бог…
— Целуетесь? — услышали они веселый голос. К ним подошел с красным бантом на груди поручик Петров.
Широко улыбаясь, Черницкий ответил:
— Так точно, целуемся, ваше благоро… — И поправился: — господин поручик!..
Тут же оказался и Защима. Всегда мало говоривший, но внимательно слушавший, он на этот раз решил высказаться.
— Мне про царя интересно узнать, — протянул он своим тягучим голосом. — Где он теперь? Надо его поймать и — в Петропавловскую крепость, а то может от него большой вред быть. Меня за него в дисциплинарном мытарили, воевать за него заставляли, фельдфебель за него в морду меня бил. Не хочу я больше царя. И другого заместо него не надо. Хватит с помазанниками божьими водиться!
Никогда еще Защима не произносил такой длинной речи, и товарищи с удивлением смотрели на него. Лицо у него было, как всегда, каменное, голос вялый, но какие-то новые, необычные для равнодушного Защимы искорки горели в глазах.
Когда начались выборы в солдатские комитеты, солдаты не знали, кого им выбрать. В политическом отношении многие из них были наивны, как дети, их легко было завлечь красивыми словами. Часто они выбирали краснобаев, чужаков, у которых был хорошо подвешен язык. Карцев с огорчением сказал Мазурину:
— Тут какой-то капитан генерального штаба доказывал, что теперь Россия для всех одна и все они перед нею равны и поэтому надо выбирать в комитеты поровну и солдат и офицеров. Они ему хлопали. Потом военный врач, эсер, рассказал о земле, об Учредительном собрании, что, мол, надо еще завоевать право на свободу — побить врага. Они и ему хлопали. Что же это будет? Вокруг пальца обведут?
— Не обведут, — возразил Мазурин. — Присмотрятся — поймут, кто друг, а кто враг.
Мазурин работал днем и ночью. С горечью вспоминал он Пронина. Всего несколько дней не дожил до революции этот бесстрашный человек, а как ждал он ее, как мечтал о ней! Приходили к Мазурину солдаты из других полков, настойчиво спрашивали:
— Комитеты эти, к чему они солдату — к пользе или ко вреду?
— Своих выберешь — к пользе, чужаков — ко вреду, — отвечал Мазурин.
— Ну, так. А война — кто с ней разделываться будет?
— Пока весь народ за это дело не возьмется, заставят нас воевать.
— А если царя скинули, это разве не конец войне?
— Нет, не конец. Кто в новом правительстве? Помещики, фабриканты. Им война выгодна, они наживаются на ней. Как раньше нам с ними не по дороге было, так и теперь, — объяснял Мазурин.
— Вот оно что… Стало быть, они и мириться не будут, и земли своей мужику не отдадут?
— Не заставишь силой — не отдадут. А мириться тоже, по всему видно, не собираются. Требуют войны до победы. Но боятся народа. Народ сейчас в силе, вот и надо ему всегда сильным быть…
В полковом солдатском комитете, председателем которого был Мазурин, встречались разные люди, но больше всего пролезло туда эсеров. Они обещали солдатам землю, хвалясь, что только они составляют крестьянскую партию, и солдаты охотно записывались в их ряды, не зная, что в сущности представляют собою эсеры. Мазурин разыскивал, как драгоценные зерна, немногочисленных на Юго-Западном фронте большевиков, вызывал к себе рабочих, создавал партийные ячейки, старался держать связь с Петроградом, куда собирался съездить на несколько дней.
Солдаты, приходя в комитеты, часто жаловались на офицеров. Ссоры с ними возникали буквально на каждом шагу и по каждому поводу. Большинство офицеров полагало, что революция уже закончена, Временное правительство сидит прочно и война будет продолжаться до победного конца. Стихийное движение среди солдат за мир, нескрытая ненависть к офицерам пугали их: они видели, как армия уходит из-под их власти. Лишь немногие чувствовали себя хорошо. Среди таких был Петров. Он ходил с красным бантом, и когда Васильев, как-то приехав в полк, сказал, что не было приказа, разрешающего офицерам носить красные банты, Петров решительно запротестовал:
— Не сниму! Неужели не хватит с нас, Владимир Никитич, приказами жить? Теперь другое время!
— Как бы нас с вами это время жестоко не посекло, — грустно ответил Васильев. — Боюсь, затопит нас страшное солдатское половодье…
— Ну и пускай затопит! Ширь-то какая открывается, простор, свобода! Нет, теперь уж не посмеют не принять меня в университет оттого, что я бурсак. Шалишь!
И, соорудив из трех пальцев кукиш, Петров сердито сунул его под нос воображаемому врагу.
А комитеты все расширяли и расширяли свою работу и влияние. Так велика была бурная солдатская волна, так неудержимо катилась она вперед, что все пришлые, случайные и даже враждебные революции люди, которых, как сор и грязную пену, нанесло в комитеты, не могли помешать самому главному, что совершалось в солдатском сознании: неискоренимой ненависти к старому, стремлению к новой, лучшей жизни, желанию скорее покончить с войной.
Наконец Мазурину удалось поехать в Петроград вместе с другими солдатскими делегатами. Была ранняя весна, тугие почки взбухали на деревьях, только что прилетевшие грачи хлопотали, строя гнезда.
Мазурин зорко наблюдал, что делается на станциях, в городах, слушал, о чем говорят в вагонах. Для него было прекрасным это зрелище вздыбленной революцией России, пытливые расспросы куда-то едущих людей. Все были беспокойны, все спешили, у многих в глазах светилась радостная взволнованность; но были и такие, что смотрели пугливо, недоверчиво. И если взглянуть со стороны, то могло показаться, что огромный плуг разворотил целину и свежеразвороченная земля пахнет по-весеннему и веет от нее могучей, черноземной, плодородной силой.
Из делегатов, ехавших вместе с Мазуриным в Петроград, выделялся Демидов — тульский крестьянин, самодовольно называвший себя эсером. Он радовался поездке, делегатскому званию и каждый раз разглядывал и перечитывал мандат со своей фотографической карточкой.
— Вот оно куда солдат поднялся! Сроду прежде такой чести не было. Одно слово — ривалюция! Заживет теперь мужик барином… на своей земле заживет!
— Как это на своей? — спросил его Мазурин. — Так тебе ее и дадут, держи карман шире!.. Твои эсеры еще долго воевать хотят, народную кровь пить…
Демидов задумывался.
— Война, она, конечно, не радость, — проговорил он. — Да ведь, понимаешь, рипарации эти, свободу защищать…
— Да не болтай ты с чужих слов, — усмехнулся Мазурин. — Просто скажи, подумав, что тебе, солдату и мужику, надо. Ну? Сорока ты или человек? Соображать нужно!
Демидов неуверенно посмотрел на него:
— А я… я соображаю… Эсеры, брат, за крестьян. Они нас в обиду не дадут, у них и программа такая…
— Ты своим умом живи, не чужим, — дружелюбно посоветовал Мазурин. — К жизни присматривайся, к людям, к тому, что кругом делается, тебя жизнь и научит.
— А научит, так мы на то согласны, — с неожиданной простотой сказал Демидов и вздохнул. — Мы только обману боимся. — И с завистью добавил — Тебе, может быть, и хорошо, что ясно видишь. А мужик — он ощупкой берет. Пока рылом не наколешься, не узнаешь, где хорошее-то лежит. Вот и ищешь…
Петроград встретил шумно и неприветливо. Был пасмурный апрельский день, тучи низко стояли над городом и в них тонули острый шпиль Адмиралтейства, массивные купола Исаакия. Мазурин широко раскрыл глаза, увидев по-прежнему на площади перед вокзалом царя верхом на битюге. Ему почему-то показалось, что памятник этот, напоминавший конного городового, должны были убрать.
— Что ж это вы царя оставили? — обратился он к милиционеру в штатской одежде, с красной повязкой на рукаве, дежурившему на площади.
— Этот не опасен, — засмеялся милиционер. — Чучело. А сынка-то его убрали…
Мазурин почти бегом понесся по Невскому. Он любил эту широкую, прекрасную улицу. Все здесь казалось новым, необычным. Он, как приятелям, улыбался красным флагам, вывешенным на многих домах, радовался, что не видно больше монументальных фигур городовых на перекрестках, и так приятны были ему скромные милиционеры — рабочие в стареньких кепках, с хорошими, мужественными лицами. Он пробирался на Каменноостровский, все наблюдая за уличной жизнью города, только что сбросившего с себя вековую царскую власть. Встречая офицеров, не раз ловил на себе их недобрый, настороженный взгляд и думал: «А ведь много их здесь. Щеголяют, как на параде».
Из-за угла вышла колонна рабочих с винтовками за плечами. Их вел унтер-офицер, и они шагали стройно, в ногу, держа равнение в рядах. По темным, точно обгорелым лицам, по курткам, по знакомому облику Мазурин узнал металлистов.
— Вот молодцы! — вырвалось у него. — Как гвардейцы идут!.. С какого завода, товарищи?
— Путиловцы, — ответили ему.
Он, с походным мешком за спиною, в мятой фронтовой шинели, присоединился к колонне и через минуту жарко разговаривал, засыпал рабочих вопросами. Несказанно хорошо было видеть их, вооруженных и организованных, как хозяев проходящих по улицам города.
— Далеко идете?
— В Петроградский комитет большевиков.
Он увидел красивое двухэтажное здание с балконом, где на косо укрепленном древке развевался красный флаг; у подъезда стояли матросы и рабочие. У него потребовали мандат и, посмотрев бумагу с печатью солдатского комитета, показали, куда идти.
Мазурин поднялся по мраморной лестнице на второй этаж, прошел несколько комнат, заполненных людьми, и заглянул в крайнюю, видимо служившую прежде гостиной. У окна за резным столиком сидели двое. Один — в очках, с черной бородкой, лет тридцати пяти на вид, в потертой кожаной куртке и простых сапогах. Он внимательно слушал, что говорил ему собеседник. Потом взглянул на Мазурина, остановившегося в дверях.
— Вы, похоже, прямо с фронта, товарищ? Присаживайтесь.
— С фронта, — подтвердил Мазурин. — Делегат солдатского комитета, большевик. Мне хотелось бы поговорить с кем-нибудь из членов Центрального Комитета.
— Очень хорошо! Человек в очках встал.
— И нам интересно побеседовать с вами. — Он крепко пожал руку Мазурину. — У вас и мандат, конечно, есть.
Он взял документ, не стал читать его, только посмотрел на фамилию, вернул мандат Мазурину и пригласил сесть.
— Приятно видеть мандаты солдатских фронтовых комитетов, — улыбнулся он. — Я — Свердлов. Ну, что у вас делается на фронте, товарищ Мазурин?
И Мазурин обстоятельно, не спеша, но с нескрываемым волнением рассказал о настроениях солдат, о первых шагах солдатских комитетов.
— Нам о многом придется поговорить с вами перед вашим возвращением на фронт, — выслушав Мазурина, сказал Свердлов. — О многом и важном! Условимся, что вы зайдете к нам завтра в десять утра. Это вас устраивает?
— Так точно! — с привычной солдатской четкостью ответил Мазурин. И, немного поколебавшись, спросил — это было главное, о чем он думал и на фронте и по дороге в Петроград: — Когда приедет Ленин?
И так страстно вырвался у него этот вопрос, что Свердлов, улыбнувшись, ответил:
— Мы скоро увидим его здесь.
…Мазурин медленно шел по улицам. Печатая шаг, промаршировал отряд щегольски одетых юнкеров с новенькими винтовками на плечах, с двумя офицерами впереди строя. Мимо в коляске проехал генерал, офицер скомандовал, и юнкера, повернув одним движением головы направо и перестав махать руками, так ударили сапогами о мостовую, что все прохожие невольно обратили на них внимание.
«Для этих как будто и революции не было, настоящая старая армия…» — подумал Мазурин.
Проходя мимо богатого особняка, он увидел в большом зеркальном окне выхоленное лицо мужчины. На мгновение их глаза встретились, и такая смертельная ненависть выразилась в глазах смотревшего из окна господина, что Мазурин непроизвольно сделал движение в сторону, как от направленного на него удара.
Он не заметил, как подошел к нему человек в рабочей куртке и хлопнул по плечу:
— Неужели Алексей?
Мазурин узнал Ивана Петровича и обрадовался. Они расцеловались.
— Никак с фронта? Надолго в Питер?
— Дня на три, на четыре. Сегодня был в Цека.
— Хорошо! Одно скажу: вовремя приехал. Ночевать у меня будешь.
— Спасибо. Как Сашенька твоя, здорова?
— Что ей делается! Золотая она у меня, верный помощник… Очень рад, что тебя встретил. У нас фронтовики-подпольщики на вес золота ценятся, — засмеялся Иван Петрович.
Они прошли Николаевским мостом, и, когда свернули на Конногвардейский бульвар, Иван Петрович взял Мазурина под руку и загадочно проговорил:
— Спать сегодня нам не придется. Пойдем на Финляндский вокзал.
От неожиданности Мазурин остановился.
— Ленин? Да?
— Ленин! Нынче ждем.
Охваченные предчувствием большого, радостного события, они шли молча и смотрели вдаль, где освещенные солнцем весенние облака плыли по небу, как алые знамена.
День шестнадцатого апреля (третьего по старому стилю) был праздничный, и заводы не работали. Утром в Цека большевиков было получено сообщение из Финляндии, что Ленин выехал в Петроград и должен быть вечером. Решили оповестить все районы, все заводы и воинские части о предстоящем приезде Владимира Ильича. На многих заводах изготовили плакаты: «Сегодня приезжает Ленин!» — и группы рабочих пошли с этими плакатами на Выборгскую сторону, за Невскую заставу, на Охту, за Нарвские ворота — к Путиловскому заводу.
Во второй половине дня в бывший дворец Кшесинской, где помещался Цека большевиков, начали непрерывно звонить из районов и приходить с расспросами — когда, в котором часу ждать Ленина. Ощущение большого праздника все росло. Рабочие сами решали, что идти встречать Ленина надо всем, и еще до наступления вечера первые колонны, неся впереди красные полотнища с надписью «Привет Ленину!», двинулись к Финляндскому вокзалу.
Мазурин, захлестнутый радостью, с утра метался по городу, побывал на Выборгской стороне, за Нарвской заставой и после полудня очутился на набережной Невы, возле Николаевского моста. Здесь он увидел стремительно идущий от взморья корабль. На палубе было черно от матросских бушлатов, блестели штыки. Он побежал к пристани. Корабль медленно, бортом пришвартовывался к пристани, но матросы, не дожидаясь, прыгали с корабля и строились в ряды. Их было много, и Мазурин спросил у широкогрудого матроса с ярко-желтыми, как у ястреба, глазами, с перекрещивающимися на груди патронными лентами, зачем прибыли матросы.
— Организовать охрану товарища Ленина! — гордо ответил матрос.
Они протянули друг другу руки.
Поезд ожидался около одиннадцати часов вечера, но Иван Петрович и Мазурин пошли на Финляндский вокзал значительно раньше. На улицах было темно — лишь немногие фонари тускло горели на перекрестках да в небе, сквозь легкие облака, намечались серебристые точки молодых, чистых звезд. Пройдя несколько кварталов, они услышали глухой шум, напоминавший морской прибой, и увидели вдали какие-то движущиеся огненные блики. И чем ближе к Финляндскому вокзалу, тем сильнее нарастал шум, тем ярче становились огни. Улицы были запружены во всю ширь густыми рядами людей. Смолистые факелы горели темно-красным, дымным огнем. Знамена, выхваченные светом факелов из темноты, люди в рабочих куртках, солдатских шинелях, матросских бушлатах, драповых пальто, кофтах, в папахах, в бескозырках — все это огромное, тесное и сильное движение человеческих масс потрясло Мазурина. Он с таким чувством, будто и его подхватили волны этого живого моря, рванулся вперед, увлекая за собой Ивана Петровича.
Они шли, крепко держась за руки. Хотя был поздний холодный вечер, но им казалось, что сейчас светло, какая-то особая теплота согревала их… Вдруг брызнули ослепительные лучи. Они ушли вверх, уперлись в облака, где возникли круглые световые площадки, потом побежали вниз, вонзились в окна вокзала, наполнив их клубами кипящего света, скользнули по площади и скрестились на броневике, стоящем против входа в вокзал. Народ из прилегающих улиц вливался на площадь. Но, несмотря на многолюдие, здесь не было суеты и беспорядка. Все двигались как бы в грозном, боевом строю, тесно, локтем к локтю. Мазурин хорошо знал это «чувство локтя», когда справа и слева стоят товарищи, которые вместе с тобою пойдут вперед, не отступят, не выдадут. И вот он снова в рядах боевых друзей, и не было сейчас для него никого ближе и дороже их. Мазурин с обостренной внимательностью всматривался в окружавшие его, издавна знакомые лица. Но было в них нечто, еще неведомое ему, и это неведомое волновало: вот рядом старик в русской, совсем новой фуражке, видимо, надевал ее только по праздникам вместо будничной, промасленной кепки, лицо торжественное, глаза строгие, напряженные, а губы что-то шепчут. Дальше плечом к плечу трое: один совсем молодой, лет девятнадцати, второму за сорок, третий еще старше, сутулый, кряжистый, с широкими плечами, — все в нетерпеливом ожидании. Несколько солдат и два матроса стоят вытянувшись, как на параде, смотрят на двери вокзала. Слева — женщины. Одна уже не молодая, накрест повязанная шалью, к ней жмется девочка, похожая на нее.
— Дочка, что ли? — спрашивает с суровой нежностью солдат в серой папахе. — Смотри, затолкают…
— Не затолкают. Свои же…
Мазурину представилось, что это не обычная толпа, а дисциплинированная народная армия, все бойцы которой спаяны одним настроением, одними чувствами. Что-то незримое, повелевавшее многотысячной толпой, охраняло тут порядок. Ранее прибывшие охотно теснились, чтобы дать место вновь подходящим отрядам.
Солдатское ухо Мазурина уловило крепкий и ровный шум, донесшийся снизу, от мостовой, — ритмичный строевой шаг. Он весь встрепенулся. «А что, если Временное правительство послало юнкеров, чтобы разогнать людей, не допустить встречи Ленина?» Вот показалась голова колонны. Солдаты шли широко, взводными колоннами. В ярком, как расплавленное серебро, свете прожектора сверкали их штыки. Мазурин облегченно вздохнул: прожектор осветил красные полотнища перед рядами солдат со знакомыми, радостными словами: «Привет Ленину!» Это военная организация большевиков вывела для встречи вождя партии семь тысяч солдат. Они вливались на площадь, подтянутые и грозные в своей революционной дисциплине.
Время шло. Уже настал час прибытия поезда, но его все не было. Людской гул усиливался, росло беспокойство. Чей-то сильный голос прозвучал над самым ухом Мазурина:
— Узнать надо, почему поезд запаздывает. Не случилось ли чего?..
Несколько рабочих, только что оживленно разговаривавших с Мазуриным о фронте, обратились к нему:
— Эй, солдат, тебе бы и узнать. Ну-ка, двигайся!..
Мазурин, дружно подталкиваемый сзади и с боков, врезался в толпу и вынырнул уже на ступенях вокзала. Проталкиваясь, он разыскал кабинет дежурного по вокзалу и в дверях столкнулся с выходившим оттуда Свердловым. Увидев Мазурина, Свердлов улыбнулся.
— Вы так стремительно наступаете на кабинет дежурного, — сказал он, — что все ясно. Сообщите товарищам, что на каждой станции народ хочет видеть Ленина, слышать его. Минут через двадцать поезд придет.
Мазурин выскочил на ступени вокзального подъезда и закричал, как привык кричать на фронте:
— Смирно-о! Слушайте-е, товарищи!
Площадь затихла. Громким, сильным голосом, отчеканивая каждое слово, он передал сообщение Свердлова. Снова зашумела площадь. У самых ступеней подъезда появился матрос в распахнутом на груди бушлате, из-под которого виднелась полосатая тельняшка, и спросил густым басом:
— А ты, браток, верно узнал? А то нам недолго — на выручку двинемся…
— До утра будем ждать, а дождемся! — закричали с площади. — Не уйдем без Ленина!
Между тем к площади подходили все новые и новые отряды рабочих с горящими факелами. Площадь уже не могла вместить их, и люди заполняли прилегающие к ней улицы. В счастливом волнении глядя со ступеней вокзала на людей, на знамена, на факелы, Мазурин вдруг услышал громкий смех. В приземистом двухэтажном доме помещался магазин, на вывеске которого выделялся двуглавый царский орел (такие изображения для рекламы охотно выставляли купцы — «поставщики двора его императорского величества»). Фронтовик в рыжей шинели и барашковой папахе взобрался по приставной лестнице к вывеске и прикладом винтовки сшибал орла. Одно крыло уже было отбито от вывески, и орел повис вниз головами. Это и вызвало веселый смех толпы.
Протяжный гудок со стороны вокзала всколыхнул толпу. Об орле забыли, и тяжелый, тысячеголосый гул прокатился по площади. Иван Петрович и Мазурин протиснулись к перрону. Невдалеке показались большие, яркие глаза паровоза. Он подходил медленно и осторожно, точно знал, какого дорогого человека вез в Россию. Прежде чем поезд замер в последнем обороте колес, на верхней ступеньке одного из вагонов возникла невысокая плотная фигура в распахнутом черном пальто, с вытянутой вперед рукой — вся как будто в живом и легком движении. И тогда что-то произошло среди людей, забивших перрон. Мгновение они были неподвижны, все головы обнажились, а затем люди, точно их притягивала к Ленину одна и та же сила, бросились вперед. Мазурин увидел совсем близко чуть сощуренные в улыбке глаза. Десятки рук потянулись к Ленину, не дав ему сойти со ступеней, подняли и понесли его. Трудно рассказать, что чувствовал Мазурин в эти короткие минуты. Ленин и революция слились в его сознании в одно — грядущую победу большевиков. Он видел черное, изрядно поношенное пальто с узкой полоской бархатного воротника, простые, широкие в носках ботинки, ощущал в своих руках живую тяжесть Ильича и в первый раз услышал его голос — веселый и взволнованный:
— Товарищи, что вы, что вы!
На перроне был выстроен почетный караул матросов. Выслушав рапорт начальника караула, Ильич протянул ему руки и затем обратился к матросам:
— Здравствуйте, товарищи матросы!
Те дружно ответили:
— Здравствуйте, товарищ Ленин!
А он уже шел дальше быстрыми и легкими шагами и вскоре очутился в бывшей «царской» комнате вокзала. Там его ждали рабочие — выборные петроградских заводов. Он направился к ним, но дорогу ему преградил лидер меньшевиков Чхеидзе, также встречавший Ленина как председатель Петроградского Совета. Глаза Ленина смотрели куда-то поверх головы Чхеидзе, и, услышав его первые фразы, он резко отвернулся, приблизился к рабочим и стал беседовать с ними. Они оживленно отвечали на его вопросы, сами спрашивали, и со стороны казалось, что старые друзья, встретившись, продолжают давно начатый разговор.
Мазурин не отходил от Ленина, ловил каждое его слово. В группе рабочих он увидел Ивана Петровича и улыбнулся ему. И когда Ильич двинулся к выходу на площадь, Мазурин вместе с другими не отставал от него в ожидании чего-то важного, что должно было сейчас произойти.
Ленин вышел, окидывая взглядом всю необъятную массу народа, и, спустившись со ступеней, решительно шагнул вперед. На площади стоял броневик. Ленину помогли взобраться на башню броневика. Он чуть потоптался на маленькой площадке, точно пробуя ее крепость, поднял руку и оставался так, пока не затихли приветственные крики. Лучи прожектора осветили его, но он не замечал их. Стало тихо, только шипели прожекторы. Вот такой, стоящий на башне, без шапки, с вытянутой вперед рукой, и запомнился на всю жизнь Мазурину Ильич. Громкий, совсем простой голос был слышен всем. Он говорил то, что народ ждал и хотел от него услышать:
— Временному правительству, на которое многие еще возлагают надежды и которое поддерживает меньшевистский Петроградский Совет, — нельзя верить! Это правительство империалистической войны, и поэтому никакой поддержки Временному правительству! Только социалистическая революция даст народу мир, хлеб, землю, свободу. Да здравствует социалистическая революция!
Иван Петрович горячо сказал Мазурину:
— Посмотри, как народ слушает…
Мазурин видел обращенные к Ильичу строгие, сосредоточенные лица, и ему показалось, что это одно лицо — лицо народа. Вот он скоро поедет на фронт и передаст ленинские слова солдатам, истомившимся от страшной ненужной им войны… Сколько же тут братьев по борьбе, и все они с ним, и он с ними!
Ленин кончил речь, спустился с башни. Несколько рабочих стали пробираться к нему.
— Товарищи, пропустите! Мы от Выборгского райкома! Важное дело к Владимиру Ильичу!
Толпа раздалась, пропуская выборжцев. Один из них остановился перед Лениным, достал из грудного кармана маленькую красную книжечку.
— Товарищ Ленин… Владимир Ильич! Выборгский районный комитет большевиков поручил мне вручить вам партийный билет нашей организации.
— Спасибо! Прошу вас, передайте мою глубокую благодарность выборгским товарищам. — Ленин посмотрел на номер билета. — Значит, в вашей организации, кроме меня, пятьсот девяносто девять человек? Очень хорошо!
— Да, Владимир Ильич, вы будете шестисотый!
И рабочий обеими руками пожал руку Ленина.
Свердлов разговаривал с каким-то солдатом. Они вместе подошли к Ленину.
— Владимир Ильич, — сказал Свердлов, — вы поедете на броневике. Его поведет товарищ Феодоров.
— Что ж, поедемте, товарищ Феодоров, — весело сказал Ленин. — Вы, похоже, рабочий?
— Так точно, Владимир Ильич, рабочий. Призван из запаса. Вы уж не беспокойтесь, доставлю в полной сохранности.
— А я и не беспокоюсь. Так вот покажите, где мне сесть.
Броневик медленно двинулся с места. Рабочие и солдаты развернулись большими отрядами и с развевающимися знаменами пошли за броневиком на Каменноостровский, к зданию Цека большевиков.
Была уже поздняя ночь, но город не спал. Во многих домах светились окна, на балконах виднелись какие-то фигуры.
Все эти люди тревожно вглядывались в темноту, откуда сначала доносились революционные песни, а затем появлялось мощное шествие: шли люди в куртках, кепках, шли вооруженные солдаты, матросы и между ними, освещенный огнями факелов, продвигался вперед броневик. И у ворот, и на балконах в смятении переговаривались:
— Что это?
— Кто эти люди?..
— Куда и зачем они идут?..
Между тем со всех окраин Петрограда все шли и шли рабочие и солдаты на Каменноостровский приветствовать Ленина. Чуть не на каждой улице приходилось останавливаться. Идущие навстречу броневику рабочие хотели видеть Ленина, услышать, что он им скажет. Владимир Ильич выходил на ступеньку броневика, и тогда шум стихал. Дымным, темно-красным огнем горели факелы. Народ слушал Ленина. Ильич был очень оживлен, и Мазурин поражался его неуемной энергии: Ленин казался неутомимым. Каждая его речь не повторяла предыдущую — он находил новые, живые слова. Казалось, что весь пролетарский Петроград, вобрав в свою толщу многие тысячи солдат и матросов, залив своими широкими потоками улицы и площади города, празднует в эту апрельскую ночь невиданное народное торжество.
Чем ближе подходил ленинский броневик к зданию Центрального Комитета, тем гуще и многочисленней становились людские массы, и Мазурину, как и тысячам других рабочих, этот путь от Финляндского вокзала к большевистскому штабу виделся как путь грядущей социалистической революции, которую возглавлял Ленин. Звучали «Варшавянка», «Марсельеза»… Песни словно сталкивались между собой, но не мешали одна другой, в них слышалась глубокая сила и свежесть молодой, только что вырвавшейся из долгого плена народной жизни.
Броневик остановился перед дворцом.
Ленин медленно шел к подъезду, разговаривая с окружавшими его людьми. Свердлов шагал рядом, внимательно слушал. Когда они вошли в вестибюль, он спросил:
— Ну как, Владимир Ильич, понравился вам наш рабочий Петроград?
— Это больше, чем можно было ожидать! — горячо произнес Ленин. — Да, да, больше! Меньшевички по-прежнему архиомерзительны, однако ничего у них не получается — ничего! Пролетариат поймет, куда ему надо идти, и мы скажем ему всю правду. Вы видели, товарищ Свердлов, что делается на улицах. Как по-вашему, чем все это вызвано? Только одним: уверенностью народа в неизбежности социалистической революции! Конечно, она произойдет не сразу, будут трудности, много, ох как много придется нам поработать, подраться, завоевать народное большинство, но в конечном счете мы победим!
Они поднялись на второй этаж.
На улице, перед дворцом, усиливались шум, возгласы:
— Ленин!
— Ленин!
— Ленин!
Все новые колонны подходили в дому, и алые знамена и полотнища с надписью «Привет Ленину!» придвигались ближе, закрывая фасад дворца.
Ильич вышел на балкон. Минуту выждал, пока стихнут приветственные крики, и заговорил, наклонившись вперед, ясно и точно бросая каждое слово.
Всю ночь народ не расходился. Никто не чувствовал усталости. Точно большая дорога развернулась перед людьми, они глядели в ее светлые дали и были готовы бесстрашно идти по ней.
Мазурин не ложился спать в эту ночь. Бродил по городу, потом до утра просидел в Петроградском комитете, где было много людей. Он твердо решил, что не может уехать на фронт, не поговорив с Лениным, и утром пришел в Цека. Сказал о своем желании Свердлову. Тот внимательно на него поглядел, понял, как много значит для этого солдата свидание с Лениным.
— Пойдемте, со мной. Владимир Ильич очень занят, но для вас у него найдется время.
Через несколько минут Мазурин был у Ленина. Владимир Ильич одновременно разговаривал по телефону и писал. Положив трубку и дописав строку, он встал, подошел к Мазурину.
— Здравствуйте, товарищ Мазурин, — сказал он. (Мазурин вспыхнул от радости, услышав, что Ленин знает его фамилию.) — Присаживайтесь.
И, сам садясь напротив Мазурина, забросал его вопросами:
— Расскажите-ка, что у вас на фронте? О чем думает солдат, чего ждет? Говорят ли ему всю правду о том, что делается в России? Будет ли он воевать? Верит ли он тем, кто зовет его воевать до победного конца?
Он слушал Мазурина, близко к нему придвинувшись, задавал все новые вопросы о фронтовой жизни, о солдатских разговорах, о письмах с родины. Затем, помолчав, потерев высокий лоб, заговорил:
— Вы возвращаетесь к себе на фронт. Помните: очень, очень важно, чтобы солдаты знали всю правду. И не бойтесь того, — он заглянул Мазурину в глаза и слегка тронул его за плечо, — не бойтесь, что многие солдаты пока идут за эсерами и меньшевиками. Это у них детская болезнь, она скоро пройдет, как проходит корь у ребят. И мы, — Ленин встал, и за ним поднялся Мазурин, — должны им помочь как можно скорее избавиться от этой болезни. Не жалейте сил, собирайте вокруг себя лучших людей, создавайте наши кадры, учите, говорите всю правду, ничего не скрывая и не замазывая трудностей. Народ все поймет, надо верить в наш народ, понимаете — верить и опираться на него. И потом вот еще что… — Владимир Ильич прищурил правый глаз. — Имейте в виду, вас скоро заставят наступать, обязательно заставят!
Он отошел от Мазурина, засунул руки в карманы и, опустив голову, постоял немного.
— Ну что же, — сказал он, точно решив для себя этот вопрос, — если иначе нельзя, они сломают себе на этом наступлении шею. Солдат поймет, что наступать ему незачем, незачем драться за Временное правительство.
У окна стояла кадка с пальмой и возле нее — столик с разбросанными на нем бумагами, баночкой с клеем, чернильницей и длинными канцелярскими ножницами. Ленин подошел к пальме, раздвинул зеленые лапчатые листья и, заметив среди них несколько желтых, уже умерших, взял со стола ножницы и стал отстригать мертвые листья и бросать их в кадку. Мазурин подумал, что вот так, по-ленински, надо выбрасывать из жизни все мертвое, отжившее, чтобы оно не мешало росту молодых, сильных побегов.
Он не спускал глаз с Ленина, и все в этом человеке — его плотная, быстрая и легкая в движениях фигура, его энергичные жесты, живой блеск глаз и светившееся в них большое внутреннее тепло — захватывало Мазурина, наполняло его светлым чувством.
Через несколько дней в вагоне, по дороге на фронт, он вспоминал каждое слово Ильича и всякий раз при мысли об этом ощущал огромную радость оттого, что видел Владимира Ильича, говорил с ним. Несколько раз перечитывал он взятые с собой Апрельские тезисы Ленина и дивился ясности и простоте слов вождя.
«Что же, — размышлял он, глядя, как в окне вагона проносятся перелески, поля, домики путевых сторожей, окутанные туманной дымкой деревни, — пусть нам еще много придется перенести, но самое важное, что мы уже на верном пути, с которого не свернем. Да, это самое важное!»
Васильев переживал мучительные дни. Когда началась Февральская революция и объявили, что царем будет Михаил, который даст конституцию, этот выход показался Васильеву наилучшим. Потом события развернулись так стремительно и бурно, что он понял: Милюков, Родзянко, Керенский и иже с ними не смогут остановить колоссальную народную лавину, стихийно сметающую старую, царскую Россию. Советы рабочих и солдатских депутатов в тылу, солдатские комитеты на фронте пугали Васильева, порою повергали даже в отчаяние. Он сознавал, что армия, переставшая подчиняться своим командирам, не скованная теперь железными обручами дисциплины, не армия больше. Ему не ясны были только причины, вызвавшие весь этот развал, и смутно, в глубине души он надеялся, что каким-то путем все еще образуется и армия опять станет боеспособной.
Несколько раз Васильеву докладывали о Мазурине как о крайне опасном большевике. Он знал, что Мазурин был приговорен к расстрелу и что только революция спасла его. Но в то же время помнил, что Мазурина наградили за храбрость тремя Георгиевскими крестами, что тот успешно заменил погибшего в бою ротного командира, проявил себя отличным, талантливым унтер-офицером. Сейчас же его выбрали председателем дивизионного солдатского комитета, и он, пользуясь большим влиянием среди солдат, произносит разлагающие армию речи (это особенно тревожило Васильева), в которых требует заключения мира и раздела всей помещичьей и казенной земли между крестьянами.
К большевикам у Васильева было недоброе отношение. Он не понимал их целей, но чувствовал, что это те люди, которых не так-то легко сломить, что их программа находит глубокий отклик в душе простого народа. Подумав, он приказал адъютанту вызвать Мазурина. Но как этот председатель дивизионного солдатского комитета будет себя вести? Придет, наверно, распущенный, наглый, станет грубить… «Неужели же все потеряно — честь, армия, боевая русская слава? Нет, наша страна, наш народ не могут погибнуть», — размышлял он.
Он ожидал Мазурина, волнуясь и поражаясь своему волнению.
В дверь осторожно постучали.
— Разрешите войти, господин генерал?
Васильев поднял глаза. Мазурин стоял перед ним строго, держа по швам руки, и все в его внешнем виде было мило Васильеву: бравая солдатская подтянутость, ловко пригнанное обмундирование, старенькая гимнастерка, заправленная на диво, загорелое, чисто выбритое лицо и, наконец, та неуловимая для штатского глаза строевая выправка, что дается только годами военной службы. «Не важничает, подтянут и держится просто», — отметил Васильев.
— Мне про те… про вас говорили, — жестко начал он и прямо взглянул в глаза Мазурину, — что вы мутите солдат, подговариваете их бросить фронт, то есть изменить своему воинскому долгу и родине. Правда?
— Нет, господин генерал!
Мазурин не опускал глаз, и минуту оба пристально изучали друг друга. Взгляд Васильева был холодным, недружелюбным, Мазурин смотрел ясно и открыто. Васильев невольно оценил спокойную смелость этого взгляда, в котором не было ничего вызывающего.
— Время тяжелое, суровое, — сказал он. — Хотя царя и нет, но Россия остается, и мы должны оборонять ее. Следовательно, никто не имеет права уходить со своего поста. Тот, кто уйдет, — шкурник, дезертир, изменник.
— Так точно, — ответил Мазурин.
Тон его ответа не понравился Васильеву. Уставная точность и еще нечто неуловимое, будто Мазурин соглашался только с тем, что никто не имеет права уходить со своего поста.
За долгие годы своей военной службы Васильев хорошо понял, что армия — это не только роты, полки и дивизии, исполняющие приказы своих командиров, но это еще живые, разнообразные люди, это народ, который нельзя изолировать от всех тех процессов, которые происходят в городах, деревнях, на заводах — во всей необъятной стране. Ему вспомнилась японская война. Есть события, так глубоко врезавшиеся в память человека, участвовавшего в них, что они не забываются всю жизнь. Осенью тысяча девятьсот пятого года, когда мир с Японией уже был заключен, в Маньчжурии начались солдатские волнения. Те самые солдаты, большей частью бородачи, запасные старших сроков службы, которые покорно шли умирать по приказу начальства, совершенно не зная, почему их забросили сюда, за тридевять земель от родины, неожиданно стали другими. Как ни далеко были они от своих деревень и городов, как ни изолировали их от всех внешних влияний, все же волны революции из России докатились и до них, в Маньчжурию, и они сделались теми, кем были в действительности, — русскими крестьянами и рабочими, хотя и одетыми в солдатские шинели. Васильев не мог не сопоставить эту запомнившуюся ему картину с той, которая ныне развертывалась перед его глазами. Только теперешние события казались неизмеримо глубже и сильнее тех, что происходили в пятом году.
— Ведь вы русские солдаты, — сказал Васильев, — как же вы не понимаете, что, разваливая армию, предаете свое отечество? Разве можно так поступать?
Он требовательно взглянул на Мазурина и понял, что этот солдат, весь пропитанный революционным духом, не скажет и не объяснит самого важного, если будет настроен к нему как к чужаку. Он превозмог себя и указал на стул:
— Садитесь, я слушаю вас. Можете курить.
Мазурин сел, но не воспользовался разрешением курить. Он ценил в генерале честного и способного командира, справедливого к солдатам, никогда не относившегося к ним свысока, и решил начистоту поговорить с ним.
— Да, я русский, — начал Мазурин, — служу своему народу. Родину не предавал и не предам. Разве, господин генерал, мы, солдаты, предали Россию, а не те, которые довели ее до развала, до нищеты? Вспомните, что делалось в тылу и на фронте, вспомните пятнадцатый год! Ведь не было ни патронов, ни снарядов, ни порядка… А армия зря теряла миллионы драгоценных человеческих жизней! Вы хорошо об этом знаете. Так неужели же истинные русские патриоты не должны смести в пропасть преступный, изживший себя строй? Неужели они не должны взять судьбу страны в свои руки? Ведь именно этот строй и разрушил армию, а не революция. Революция, господин генерал, была следствием, а не причиной того, что произошло у нас. Вы боитесь за судьбу армии, я понимаю вас. Но когда солдаты узнают, что есть у них своя, настоящая Россия, а не Россия спекулянтов, юродствующих старцев, кучки разложившихся вельмож и иных, подобных им, прогнившая до корня своего, — увидите, на какие героические дела они пойдут! Я знаю, что сразу это не получится, что придется пройти сквозь суровые испытания, но мы одолеем, все одолеем!
Он поймал тоскливо-недоверчивый взгляд Васильева, приподнялся и со страстностью продолжал:
— Владимир Никитич! — Он впервые так назвал Васильева, и тот принял это хорошо. — Владимир Никитич, да подумайте вы о новом солдате, о свободном, сознательном гражданине, который знает, за что дерется, который будет защищать свою настоящую родину! Такой солдат никому и никогда свою Россию не выдаст.
Васильев задумчиво смотрел в окно, где на западе, за горящими облаками, низко стояло солнце. Потом, не оборачиваясь, сказал:
— Тяжело, очень тяжело. Я всю жизнь отдал армии, две войны провел за отечество мое. И вот… Я всегда был с солдатами, теперь они ушли от меня — не верят… Кому же служить?
И такая скорбь была в голосе Васильева, во всем его облике, что Мазурин шагнул к нему и твердо сказал:
— Мертвым не служат, Владимир Никитич!.. Старая Россия — труп. Но народ остался, ему-то и должны служить все честные русские люди. А все мертвое, гнилое, отжившее нам нужно отсекать… как увядшие ветви с дерева!
Васильев повернулся, как-то по-другому посмотрел на Мазурина, протянул ему руку и решительно пожал ее.
— Бог весть что будет, — сказал он, — но мне некуда уходить от России, от армии. Я буду служить моему отечеству, моему народу.
Все кипело в Петрограде. Никогда еще в этом огромном городе не сплеталось столько самых разнообразных интересов и противоречий, никогда еще судьба страны так не зависела от Петрограда, как в эти дни. Тут скопились и действовали силы: одни — двигающие вперед революцию, другие — мешавшие этому движению. Во дворцах, министерствах, политических салонах, иностранных посольствах, генеральном штабе и в иных местах тайно или открыто шла неустанная, суматошная работа по сколачиванию прежней, хотя и закрашенной розовой краской России, с фронтона которой был сорван двуглавый императорский орел. Совет рабочих и солдатских депутатов — в нем преобладали эсеры и меньшевики — лавировал между Временным правительством, армией и народом. Но минуло уже то время, когда солдаты хлопали всем ораторам, даже кадетам. Теперь они лучше разбирались в положении и все настойчивее добивались заключения мира и раздела помещичьей земли между крестьянами.
Влияние большевиков, хотя в Петроградском Совете и во фронтовых комитетах они были еще в меньшинстве, росло очень быстро. Те солдаты, что в начале Февральской революции записывались в эсеры и меньшевики, теперь, как только речь заходила об их кровных интересах, голосовали вместе с большевиками.
Третьего июня в Петрограде открылся Первый Всероссийский съезд Советов. Делегатами на этот съезд, в числе прочих солдат, приехали с фронта Рышка и Балагин. Балагин отправился к большевикам, Рышку поместили в общежитии, оборудованном для делегатов съезда в бывшем великокняжеском дворце. Затаив дыхание, ходил Рышка по великолепным залам с паркетными полами, с лепными потолками, с зеркалами в простенках и не верил, куда попал. «По всему видать, теперь мы этому хозяевами на веки вечные будем!» — рассуждал он. Уложили его спать не на обычную койку, а на кровать с ангелочками у изголовья и пружинным матрацем, на котором Рышка покачивался, как на качелях.
А на следующий день, расчесав бороденку, наваксив и наярив сапоги до жаркого блеска, пошел он с трепещущим сердцем на съезд. Страшная робость охватила его, когда увидел он множество людей в большом зале со сводчатыми окнами. «Где же Балагин?..» Издали заметив его, оживленно с кем-то беседующего, Рышка бросился к другу и уже не отходил от него.
Съезд открылся. Рышка слушал речи, тяжело вздыхал, многое оставалось ему непонятным. В перерыве его остановил при выходе из зала юркий человечек в очках и спросил, не крестьянин ли он.
— А как же, — важно ответил Рышка, — крестьяне мы и есть.
Юркий человечек сейчас же, ловко подхватив Рышку под руку, увлек за собой, не умолкая говорил ему, что все крестьяне должны быть эсерами, так как только эсеры друзья мужиков, и в пять минут в боковой комнатке «оформил» Рышку: записали его мандат и выдали ему какое-то удостоверение.
«Чего это он на меня набросился?» — с досадой думал Рышка, засовывая в карман эсеровскую бумагу, и, сразу же забыв о ней, возвратился в зал.
Заседание возобновилось. Разные люди поднимались на трибуну, и Рышка старался понять только одно: за мир они, за раздел земли между крестьянами или нет?
Человек с черной бородкой, сидевший на председательском месте, приподнялся и усталым голосом, как будто в десятый раз объясняя непонятливым ученикам простую истину, сказал, что сейчас нельзя еще решать вопрос о земле, что надо ждать созыва Учредительного собрания, которое одно может принять постановление о земле, войне и мире.
— Это как же — опять ждать? — вслух удивился Рышка. — А солдату опять, выходит, в окопах сидеть?
На него оглянулись — одни одобрительно, другие сердито. А он весь накалялся. «Обман, опять обман!» И в это время услышал слова председателя:
— В России нет политической партии, которая говорила бы: «Дайте в наши руки власть, уйдите, мы займем ваше место».
И тут за два ряда впереди Рышки чей-то громкий, уверенный голос произнес:
— Есть такая партия!
Рышка вскочил, посмотрел, кто это сказал.
Приподнявшись со своего места, вытянув вперед руку, стоял плотный человек небольшого роста, с маленькой светлой бородкой. Глухой шум пробежал по залу, а человек, произнесший эти слова, уже шел к трибуне быстрыми, легкими шагами. Одни бурно хлопали ему, другие свистели и кричали: «Долой!» А он, спокойно выждав, пока шум улегся, заговорил. Рышка не разобрался в первых его словах. Но вот услышал, что оратор говорит о грабительской войне, которую надо кончать, о мире, которого не хочет заключать Временное правительство («А-а, не хочет!» — тоненько крикнул Рышка), о народе, которому эта война не нужна. Председатель неистово затряс колокольчиком и объявил, что время оратора истекло.
— Это почему же истекло? — звонкий голос Рышки разнесся по всему залу. — Хоть один человек правильно про войну сказал, а вы ему рот затыкаете!
И весь зал загремел выкриками:
— Продлить время!
— Продлить! Продлить!
Рышка весь трепетал. Этот человек говорил так просто и ясно и как раз то, что ему хотелось слышать, — он все, все понимал!
— Кто он, кто? — спросил Рышка у Балагина, не отрывая глаз от оратора.
— Ленин это… Владимир Ильич!
Когда окончилось заседание, Рышка пробрался к Ленину. Заметив маленькую, коренастую фигуру солдата, Ленин живо к нему повернулся:
— Здравствуйте, товарищ. Вы с фронта?
— Точно так, с фронта… Простите за беспокойство. Вы вот про мир говорили и про бедное крестьянство. Так вот мы это бедное крестьянство и есть… Фамилия — Рышков, Зарайского уезда, Рязанской губернии.
— Очень, очень рад с вами познакомиться, товарищ Рышков. — Ленин пожал Рышке руку.
Рышка сразу осмелел.
— Позвольте узнать у вас, товарищ Ленин, земля без выкупа к нам должна отойти или как?
— Без всякого выкупа!
— Так, так… — У Рышки лучились глаза. — А помещиков куда денете?
— Это вы их денете, товарищ Рышков, куда полагается, — весело ответил Ленин. — Когда власть будет у вас, у народа, вы не станете спрашивать помещиков об их согласии отдать вам землю — ясно, что они добровольно на это не согласятся. Вы силой возьмете землю. Земля должна принадлежать тому, кто ее обрабатывает. Правильно это, как вы думаете?
— А как же иначе? Правильно! — Рышка порывисто схватил Ленина за руку. — Мы ее, землю эту, потом своим вспоили, нам ею и владеть. Только плохо то дело получится: помещики ведь возревнуют, зубами в нас вцепятся.
— А вы их не бойтесь, товарищ Рышков. Все государство, всю власть нам нужно забрать в свои руки, в руки народа, горою стоять за нее, и тогда никто не будет нам страшен. А скажите-ка, товарищ Рышков, — Ленин доверительно коснулся рукой плеча Рышки, — не слыхали, что у вас делается в Рязанской губернии? Берут уже крестьяне помещичью землю?
У Рышки дрогнули губы.
— А разве можно… — запинаясь, спросил он, — землю эту… разве можно брать… нам?
— Обязательно надо брать! — живо ответил Ленин. — Брать и обрабатывать. Нечего вам с помещиками церемониться!
Рышка схватил руку Ленина, сжал ее.
— Спасибо вам за простоту вашу, товарищ Ленин, за правду спасибо!.. Свою власть мы, ясное дело, не выдадим, стоять за нее будем, не на живот, а на смерть!
К Ленину подошли двое рабочих, что-то ему сказали.
— Что же, хорошо! Едемте сейчас же! — ответил Ленин. — Откладывать нельзя!
Они направились к выходу. Рышка, словно привязанный, шел за ними и услышал, что они едут на Обуховский завод, где Ильич будет выступать перед рабочими. Рышка, поборов робость, бочком подошел к Ленину, но горло у него перехватило, и он только смотрел на Ильича.
— А, это вы, товарищ Рышков? — приветливо спросил Ленин, увидев идущего по пятам Рышку. — Я вот еще что хотел вам сказать. Обязательно побывайте у себя в Рязанской губернии, убедите ваших земляков скорее брать помещичьи земли. Там ведь немало ваших фронтовиков, так пускай объединяются деревнями, волостями да вместе и выступают. Винтовок только не бросайте, надо быть на всякий случай вооруженными, сильными, нам надо победить!
Рышка смотрел вслед удалявшемуся Ленину и чуть слышно в нарастающем волнении повторял:
— Надо победить… надо победить!.. И землю брать…
Наступило лето семнадцатого года. Главнокомандующие фронтами доносили о растущем разложении армии. От Балтийского моря до Карпат еще сидели в окопах миллионы русских солдат, однако фронт напоминал гигантское дерево, крепкое с виду, но готовое рухнуть от первого же толчка. Таким толчком и послужило наступление восемнадцатого июня.
Васильев боялся этого наступления и в то же время страстно желал его. Он объезжал полки дивизии, беседовал с солдатами, нарочно выбирая самые неспокойные части, открыто заявлявшие, что воевать не будут. Солдаты слушали его, но когда он начинал говорить о необходимости наступления, одобренного не только Временным правительством, но и Советом рабочих и солдатских депутатов, лица солдат становились строгими. Раздавались выкрики:
— Раз Совет решил, пускай сам и наступает, а мы не будем!
— Что это за Совет такой, если он супротив солдат! Другой надо выбирать!
Правда, некоторые части фронта, как было известно Васильеву, будто бы согласились наступать, но, судя по настроению солдат, трудно было поверить, что они сумеют успешно провести операцию. И тогда Васильев вспоминал свой разговор с Мазуриным. Да, старая армия умерла!.. Он старался отыскать хоть крупицу воинского духа у солдат, которые еще в прошлом году так хорошо дрались под его начальством, но напрасно: это уже другие люди, другие войска…
И еще одним большим разочарованием для Васильева была поездка Керенского на фронт, перед самым наступлением. Ходила легенда о волшебной силе его речей, о популярности среди солдат. Но Васильеву с первого же взгляда не понравился этот истеричный, позирующий человек.
Они вместе ехали в Моршанский полк, туда, где солдаты прогнали командира и самовольно ушли с позиций. Керенский в полувоенном костюме — английском френче и галифе, в коричневых крагах на тонких ногах и замшевых светлых перчатках — откинулся на спинку сиденья. Васильев наблюдал: нездоровое, точно вылепленное из глины лицо, бесхарактерный подбородок и серо-голубые, водянистого оттенка глаза. Он каждый раз менял положение, дергался всем телом и выкрикивал:
— Я им покажу!.. Нет, генерал, чернь остается чернью… Если нагайка, если пуля — так слушаются, а если убеждение, свободное, сильное слово — начинают митинговать, отказываться от выполнения своего долга! Нет, я заставлю их понять, а не поймут, пусть пеняют на себя…
Приехали в полк. Керенский, заложив руку за борт френча и ни на кого не глядя, направился к помосту, с которого должен был держать речь.
И когда он заговорил, вздевая руки, ударяя себя в грудь, угрожая и вместе с тем не обнаруживая внутренней силы, которая одна только и способна зажечь сердца людей, Васильев подумал, что эти ораторские приемы и вся манера Керенского держать себя способны лишь раздражать озлобленных, измученных людей.
Так оно и получилось.
— Неужели солдаты подчинятся приказу? — яростно спрашивал Карцев у Мазурина. — Неужели заставят наступать?
— Возможно. Но если им удастся бросить армию в наступление, то ненадолго: солдаты пойдут против них.
Они лежали на теплой земле. По синему небу медленно плыли облака, похожие на лениво движущиеся барки, а другие — маленькие и мохнатые — сбились в кучку, как стадо белых овец на лугу. Над травой, чуть покачиваясь головками, пестрели цветы.
— Мы сейчас не можем помешать наступлению, — говорил Мазурин, — но запомни, Карцев: многим после него не поздоровится.
Высоко пролетели косяком утки, направляясь к болоту, лежавшему за лесом. Карцев глазами проводил их.
— Боже мой, боже мой, — вздохнул он. — Как же хочется поскорее уйти отсюда.
…И в те дни, когда петроградские рабочие и солдаты многотысячными колоннами выходили на демонстрации против войны и Временного правительства, их товарищей на фронте погнали в наступление.
Восьмую армию вел Корнилов — ограниченный, чрезвычайно самолюбивый генерал. Он рванулся вперед со своей армией, добился некоторых успехов, но не мог закрепить их, и через несколько дней восьмая армия начала беспорядочно отступать, как и другие войска Юго-Западного фронта, обманом и угрозами вовлеченные в наступление.
Солдатам говорили, что другие части расстреляют их, если они останутся позади. Были организованы специальные пулеметные команды для стрельбы по тем полкам, которые не выполнят приказа, меньшевистские и эсеровские агитаторы надрывались, крича о родине, о разделе земли между крестьянами после победы, и ошеломленные солдаты в последний раз поддались на эту удочку.
За окопами, занимаемыми полком, стояли наготове «кольты». Рано утром приехал представитель армейского комитета — худой, усатый, с узким лицом (его знали как меньшевика), скороговоркой прочел постановление Всероссийского Совета о наступлении, потом хотел скрыться, но не успел, его задержали. Рышка, только что вернувшийся из Петрограда и много раз рассказывавший друзьям о своем разговоре с Лениным, как коршун налетел на усатого, а тот отступал, тревожно озираясь — не нападут ли еще сзади?
— Не верьте ему! — кричал Рышка. — Мы теперь таким цену знаем! Хотят нас, как коней, обротать да на шее у нас ездить! Ты, июда, за кого стоишь? А еще солдатскую одежу носишь…
— Снять ее с него! — посоветовал Защима.
Но усатый уже скрылся.
Рышка нахохлился, словно промокший петушок, отчаянно посмотрел на Карцева. Голицын хрипло шепнул:
— Взводный, а не ошиблись мы? Ой, гляди, дров наломаем… Мазурин-то где? Зови его к нам, пускай скажет — идти иль не надо?
— Незачем, братцы, нам идти! — крикнул Рогожин. — Тут обман, не иначе как обман! Комитетам сообщить!
— Надо послать делегатов в другие полки, — угрюмо посоветовал Черницкий. — Пусть отказываются от наступления!
— А коли комитет будет посылать в бой — не верить комитету, другой избрать! — предложил Защима.
— И другой такой же окажется, — вступил в разговор Комаров, жалобно поглядывая на товарищей. — Милые мои! Трудно солдату, ох как трудно… На него, как ни кинь, все шишки валятся.
— Решить надо, всем полком решить, — настаивал Голицын.
— Они тебе решат, — пробормотал Банька. — Гляди, что кругом творится: пулеметов понаставили, за нашей дивизией — казачьи полки с батареями…
— В другие части послать, — настаивал Черницкий, — надо же сговориться!
— По дороге свои же постреляют, — горько заметил Рогожин.
— Пускай постреляют! — Черницкий вскочил. — Пошлите меня, я пойду!
— Погодите, так нельзя, — сказал Карцев. — Мы все узнаем у Мазурина и тогда решим.
Только на следующий день ему удалось в перерыве боя повидать Мазурина. К его удивлению, Алексей не проявлял никакой тревоги и даже весело заговорил с ним:
— Приуныл? А сейчас как раз унывать нельзя, да и не надо. Сейчас солдат как вспаханная земля весною: бросай в нее семена, побольше бросай, Митя, взойдут они, может быть, даже скорее, чем думаем.
— Трудно, — признался Карцев, — очень трудно, Алексей. Кажется, уже все хорошо — революция, царя убрали, солдатские комитеты создали, и опять вроде все из наших рук уходит. Проклятое это наступление!
— Что же, ты думаешь — революция закончена? Она ведь только начинается, Митя! «Да здравствует социалистическая революция!» — это первые слова, которые сказал Ленин, когда приехал в Петроград. За нее теперь нам и надо бороться.
…Наступление прекратилось неожиданно. Солдаты узнали, что в Петрограде пулеметами разгоняют рабочие демонстрации, и не захотели сражаться за Временное правительство..
Армия разваливалась. Стихийная демобилизация уводила с фронта сотни тысяч солдат. Это был как бы массовый, самовольный отпуск, вызванный, главным образом, настойчивыми слухами о том, что помещичья земля уже делится между крестьянами. Солдаты говорили:
— Без нас поделят, а мы с чем останемся?
— Надо нам на месте быть.
— Поделим землю, а там посмотрим, — может быть, и вернемся…
Но возвращались немногие, а большинство оседало дома.
И как ни бесилась буржуазная и эсеро-меньшевистская печать, доказывая, что в развале армии виновны большевики, те части, в которых было сильно влияние большевиков, как раз оставались наиболее сплоченными и сильными (что признавали даже комиссары Временного правительства), держали фронт, как бы сохраняя боевые кадры для будущей Красной Армии.
Мазурина избрали председателем армейского комитета. Вместе с ним работал Казаков. В комитет днем и ночью приходили солдаты. Они больше не верили Временному правительству. Самой любимой газетой на фронте стала большевистская «Окопная правда». Крестьяне и рабочие, одетые в солдатские шинели, напряженно ждали вестей из России и готовились к решительному сражению за мир, за землю, за свободную жизнь.
Иван Петрович получил от Мазурина письмо, в котором тот просил незамедлительно ответить, что делается в Петрограде.
А Петроград был в величайшей опасности: главарь контрреволюции генерал Корнилов задумал установить военную диктатуру и захватить столицу. Иван Петрович, в числе других партийных руководителей заводов, участвовал в заседании Центрального Комитета, где было решено бросить все силы на отпор Корнилову, и прямо после заседания поехал на свой завод, где уже вооружались рабочие, и оттуда в Кронштадт призвать на помощь столице балтийских матросов.
Иван Петрович не спал уже три ночи, почернел, глаза ввалились. Домой забежал на минутку, взять нужные вещи.
— Хоть поел бы, отдохнул, — сказала жена.
Он крепко обнял ее.
— Вот все кончится, Сашенька, сяду с тобой, сутки не отойду, а теперь — смерть некогда, прости, родная…
И снова ушел.
Он был назначен комиссаром рабочего отряда. Как-то ночью, проверяя посты, Иван Петрович вышел за Нарвские ворота. Арка была окутана легкой дымкой тумана, и бронзовые группы на ней казались живыми: будто и кони, как весь Петроград, мчались навстречу врагу. Справа от арки было здание школы, в котором недавно заседал тайно от шпиков Временного правительства Шестой съезд партии, принявший решение готовить вооруженное восстание. Иван Петрович прошел дальше. Увидел темные корпуса Путиловского завода, и, когда подходил к воротам, оттуда мерным шагом выступили рабочие отряды. В обычной одежде, но с подсумками на поясах, с винтовками за спинами, люди шли молча, только слышалась гулкая поступь множества ног. Ивану Петровичу Путиловский завод представился крепостью, и он радостно подумал, что таких крепостей много в Петрограде, что сейчас рабочие отряды выходят из ворот десятков других заводов и, сливаясь в единую пролетарскую армию, идут бить Корнилова.
Петроград и в самом деле превратился в вооруженный лагерь, которым распоряжались большевики, так как от приближения «дикой дивизии» Крымова, одного из корниловских генералов, Временное правительство и — еще больше — меньшевики и эсеры из Петроградского Совета окончательно растерялись. Центральный Комитет большевистской партии стал в те дни боевым штабом обороны Петрограда, куда приходили начальники отрядов, солдаты и матросы за распоряжениями.
Ночью со стороны Царского Села послышались далекие выстрелы. Там, очевидно, шло сражение. Иван Петрович отправился туда во главе большого отряда. Утро было свежее, немного туманное. Красный, без лучей, шар солнца казался укутанным в вату. Рабочие оживленно переговаривались. И, глядя на них, Иван Петрович испытывал странное чувство: не было у них военной выправки, шли они неровно, и, должно быть, настоящие военные люди недоверчиво отнеслись бы к их боевым качествам, но он знал, что эти люди смело пойдут на врага и разгромят его, так как несут в себе непобедимую силу революции.
Отряд был уже близ Царского Села, как впереди на дороге заклубилась пыль: навстречу неслась автомашина, красный флажок на радиаторе тугим ветром относило назад.
— Стой, стой! — закричал Иван Петрович. — Какие новости?
Машина остановилась, из нее выскочил матрос, накрест перевязанный патронными лентами и с маузером на поясе. Веселыми глазами поглядел на отряд, прошелся, разминая затекшие ноги, и сказал густым, сильным голосом:
— А такие новости, товарищи, что идти вам туда вроде и незачем. «Дикая дивизия» от наступления отказалась. Ее так разагитировали большевики, что она самому Корнилову голову отрежет. Казаки грузятся обратно в эшелоны, а его превосходительство Крымов изволил себе пулю в лоб пустить!
— Шутишь? — оторопел Иван Петрович, подступая к матросу.
Тот крепко взял его за руку и, видимо понимая волнение командира рабочего отряда, строго сказал:
— Нет, товарищ, все это правда! Я с донесением еду. Не выгорело у Корнилова. Не с кем ему против нас воевать. Шагайте обратно.
Возвратившись в Петроград, Иван Петрович послал подробное письмо Мазурину.
Седьмого октября в Петроград тайно возвратился из Финляндии Ленин, где он жил последнее время по решению Центрального Комитета партии, так как Временное правительство намеревалось его арестовать.
С бритыми усами, в парике привезли Владимира Ильича на конспиративную квартиру у Большого Самсоньевского проспекта. Его уговаривали еще задержаться в Финляндии, но он торопился в Петроград, зная, что день вооруженного восстания близится. Он набросился на газеты, расспрашивал приходящих к нему товарищей о текущих событиях и скоро был хорошо осведомлен о том, что делается в городе. Выходить ему не разрешили, и тем упорнее искал он встреч с представителями районов. Однажды Ивана Петровича, как делегата путиловцев, попросила прийти к Ильичу Надежда Константиновна Крупская (с ней Иван Петрович уже раза два виделся по партийным делам). Бросив все, он побежал к ней в Выборгский комитет и через час уже был на квартире Фофановой, где остановился Ленин. Вошел в столовую и, увидев Ильича, рванулся к нему. Парик мало менял лицо Ленина — живые, острые глаза выдавали его. Ильич забросал Ивана Петровича вопросами: какие настроения у рабочих, подготовлены ли они к выступлению, хорошо ли вооружены, какова связь между заводами и районами, знают ли рабочие, что это будет решительное, бесповоротное выступление, от которого зависит судьба социалистической революции? Иван Петрович отвечал кратко и точно, с любовью смотря на Ленина…
Ленин неохотно отпустил старого путиловца и, прощаясь, сказал:
— Теперь, когда большинство в Советах у нас, когда народ верит нам, ждать больше нельзя. Враги революции хотят раздавить нас, но их надо предупредить, ударить первыми!
Надвигалась осень. Часто моросил дождь, над Невой кучились низкие серые тучи, купола Исаакия тонули в тумане. Утром перед редакцией большевистского «Рабочего пути» появились броневики и отряд юнкеров. Они должны были помочь представителям Временного правительства опечатать редакцию и типографию. Но тут же, как бы по сигналу, из-за угла вышли солдаты и красногвардейцы. Маленький вихлястый поручик скомандовал юнкерам взять ружья на изготовку. Тогда матрос в бушлате и бескозырке направился к офицеру.
— Вот что, поручик, — сказал он, — не прикажете ли вы вашим молодчикам подобру-поздорову сняться с якоря?
— Я думаю, — заносчиво ответил поручик, — что это надо сделать вам! — И, схватившись за кобуру, пискливо крикнул: — Если через пять минут…
Матрос прервал его:
— Если через три минуты не уберете своих юнкерей, то мы сами их уберем, понятно?
Поручик сразу обмяк. Юнкера начали строиться, не ожидая приказа; водители завели моторы броневиков.
В этот же день вышел очередной номер «Рабочего пути».
А вечером по ярко освещенному Невскому проспекту двигались отряды солдат, проносились грузовики, переполненные вооруженными рабочими. На Неве дымились трубы «Авроры», подходившей к Николаевскому мосту. Высоко на ее мачте реял красный флаг. Большой баркас отвалил от крейсера к набережной. На носу баркаса стоял высокий матрос, ленты его бескозырки относило ветром. Смеясь, он выскочил на набережную и ударил прикладом о землю:
— Наше! Теперь не отдадим!
Вслед за ним выпрыгнули и построились другие матросы. В черных бушлатах, плечистые, они выглядели воинственно. К ним подошел Иван Петрович.
— С «Авроры»? — спросил он.
— Прибыли в распоряжение Военно-революционного комитета, — просто ответил матрос.
События развертывались стремительно.
Миноносец «Самсон» вошел в Неву. На вышке Народного дома выставили пулеметы. Комендант Петропавловской крепости был арестован солдатами, и крепость, как революционный бастион, господствовала над Троицким мостом. Из Кронштадта подходили минный заградитель «Амур» и посыльное судно «Ястреб» с десантом матросов. Дым этих кораблей еще стлался над Невой, а на берегу уже веяли красные знамена красногвардейских отрядов.
Ночью двадцать четвертого октября Ленин пришел в Смольный. В одной из комнат он снял с себя пальто, шляпу и парик, выслушал донесения. Потом вышел из комнаты и быстрыми шагами направился по длинному коридору, тускло освещенному высоко подвешенными электрическими лампочками. Около дверей класса, где разместились красногвардейцы, он встретил Ивана Петровича в коротком пальто, опоясанном ремнем с двумя подсумками, и с винтовкой в руке.
— Здравствуйте, Иван Петрович! — приветствовал его Ленин.
— Революционный привет, товарищ Ленин!
— Дежурите?
— Нет, Владимир Ильич. Отряд рабочих привел.
— Очень хорошо! А скажите, зачем отряд?
— По вызову Военно-революционного комитета! Самый момент тут быть.
— Полагаете, самый момент? — Ленин близко придвинулся к Ивану Петровичу. — А ваши товарищи как думают?
— Владимир Ильич! Да мы дождаться никак не могли, ей-богу! Не призови нас партийный центр, сами бы двинулись… Нельзя больше ждать, а то сомнут.
— Нельзя, нельзя! Совершенно верно: промедление смерти подобно. Только помните: раз выступаем, так уж надо идти до конца, отступать некуда!
— Никто не отступит, Владимир Ильич! Ветром на них кинемся!
— Вот, вот, — улыбнулся Ленин, — очень хорошо сказали — «ветром кинемся»!
Иван Петрович распахнул двери комнаты Красной гвардии, наполненной вооруженными рабочими, по-военному подтянутыми.
— Разве такой народ удержишь?
— Какие молодцы! Приятно смотреть! — сказал Ленин.
В начале октября Карцев приехал в Петроград. Эту поездку устроил ему Мазурин, которого Иван Петрович в последнем письме просил прислать на Путиловский опытных в военном деле большевиков.
Иван Петрович радостно принял Карцева и предложил поселиться у него.
— Обучай путиловцев военному делу, чтоб в случае чего не хуже солдат могли драться.
Карцев взялся за дело круто и страстно. Учил рабочих рассыпному строю, стрельбе, наступлению, применению к местности — всему тому, что сам так хорошо изучил за время войны. Они охотно подчинялись ему, хотя некоторые ворчали — трудно было привыкать им к солдатской дисциплине, говорили, что и без военной науки пойдут грудью в решительный час. Но скоро учеба захватила всех, и карцевский отряд оказался по военной подготовке первым на заводе.
Карцев писал часто на фронт, сообщал Мазурину о том, что делается в Петрограде, иносказательно советуя быть наготове. Карцева, как и всех, кто его окружал, охватывало жгучее нетерпение: когда же последует приказ о выступлении? Казалось, брось искру — и сразу вспыхнет пламя восстания. И когда наконец Карцев получил приказ идти со своим отрядом в Смольный, он облегченно вздохнул: труднее всего было ждать.
Он вел отряд по улицам беглым шагом — рабочие спешили, жажда решительного боя томила их.
В Смольном они присоединились к другим отрядам. Карцев поднялся по лестнице. Всюду на широких площадках были расставлены столы, заваленные свежеотпечатанными листовками и газетами. Их раздавали представителям районов и военных частей, грузили в автомобили, стоявшие во дворе.
Со всех сторон стекались к Смольному красногвардейские отряды. У колоннады выходных дверей несли караул матросы.
Проходил короткий октябрьский день. Календарь показывал двадцать пятое число. Кольцо революционных войск все туже стягивалось вокруг Зимнего. У Александровского сада расположился броневой дивизион. Трехдюймовые орудия глядели на Зимний из-под арки Главного штаба. Со стен Петропавловской крепости орудия также были нацелены на дворец. Ревельский матросский отряд занимал Троицкий мост, павловцы грозили со стороны Мойки, а рабочие отряды плотно окружали дворец, где, как крысы, спасающиеся от наводнения, засели члены Временного правительства, покинутые Керенским, сбежавшим из Петрограда.
Воинские части покидали Зимний. Ушли самокатчики, за ними казаки. Юнкера притаились за баррикадами перед дворцом и постреливали, если видели кого-нибудь на пустынной площади, посреди которой сиротливо высился на Александровской колонне ангел с крестом.
Без выстрела сдался штаб военного округа, и министр Кишкин вместе с новым главнокомандующим, назначенным Керенским, — генерал-майором Багратуни — в полной растерянности пробрались в Зимний доложить правительству о сложившейся обстановке.
Был уже вечер. Прожектора освещали слепящими лучами Дворцовую площадь, одиночные фигуры поспешно перебегали ее. Тяжелый грохот донесся с Невы, — стреляла «Аврора». Второй орудийный залп раздался со стороны Петропавловской крепости.
Начался штурм дворца.
Карцев повел путиловцев через площадь. Свистели пули, трещали пулеметы. Но рабочих уже нельзя было остановить. Они шли в рост под огнем, с винтовками наперевес. Пожилой рабочий повернул к Карцеву гневное лицо:
— Я шел здесь двенадцать лет назад, девятого января пятого года. Тогда не дошли до дворца, теперь — дойдем!
— Вперед, товарищи, бегом! — скомандовал Карцев и первый бросился к баррикадам.
Обгоняя его, радостно крича «ура», бежали вперемежку рабочие, солдаты, матросы. Баррикады были сложены из длинных поленниц. Штурмующие воины революции их раскидывали, прорываясь к дворцу. За баррикадами никого не было — юнкера укрылись в Зимнем. Карцев прикладом ударил в дверь, она подалась. Потоки людей ворвались в вестибюль. Сверху стреляли юнкера. Слышались взрывы ручных гранат, частые выстрелы, крики, стоны раненых. Карцев вместе с рабочим бежал вверх по широкой мраморной лестнице, стреляя навскидку. Наверху открылась анфилада залов. Старый седой лакей в белой ливрее с золотыми позументами сидел на стуле возле двери и стеклянными глазами смотрел на красногвардейцев. Ему что-то крикнули, он устало повернул желтое лицо в белых бакенбардах и опять понурился, похожий на большую моль, сидящую на истлевших вещах.
Вот и большой зал, отделанный малахитом. Посреди — длинный стол, покрытый зеленым сукном, на нем в беспорядке сваленные портфели, бумаги… Люди в черных сюртуках — среди них двое-трое военных — растерянно столпились в углу.
Мазурин не спал уж несколько ночей. Он сидел возле «Юза» в помещении армейского комитета и ждал. Рядам был Казаков. Они знали, что в Петрограде начинаются важные события, которых на фронте ожидали с таким же напряжением, как и во всей России. В комитете собралось много людей, никто не хотел уходить, все ждали вестей из столицы. Один лишь Казаков, привыкший за годы офицерской службы к суровой выдержке, казался спокойным.
— Теперь уже скоро, — сказал он.
И в это время застучал аппарат, потянулась лента.
— Вызывает Петроград, Смольный! — сообщил дежурный телеграфист.
Передавалось воззвание Второго Всероссийского съезда Советов. Мазурин читал, не замечая, что радостные слезы капают на ленту:
«Опираясь на волю громадного большинства рабочих, солдат и крестьян, опираясь на совершившееся в Петрограде победоносное восстание рабочих и гарнизона, съезд берет власть в свои руки…»
На следующий день на фронте были получены первые декреты Советского правительства — о мире и земле. По складам, впиваясь в каждое слово, Рогожин читал группе стеснившихся вокруг него солдат:
— «Помещичья собственность на землю… отменяется немедленно без всякого выкупа.
Помещичьи имения… равно как все земли удельные, монастырские, церковные, со всем их живым и мертвым… инвентарем, усадебными постройками и всеми… принадлежностями переходят в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов…»
Эти документы проникли в роты, батальоны, батареи и эскадроны всего громадного фронта. Сила их воздействия на солдат была так велика, что людям даже ночи казались светлыми днями.
В феврале тысяча девятьсот восемнадцатого года Рышка и Рогожин вернулись в свой полк из отпуска. Они ездили делить помещичью землю. Еще перед отпуском Мазурин спросил у Рышки:
— Небось не вернешься?
— Да что ты, милый, или я себе враг? Мне доверие от комитета оказано — поезжай, мол, товарищ Рышков, дели землю для беднейшего крестьянства, а я вдруг не вернусь?! Нет, нельзя мне не вернуться…
Он прослезился и трижды расцеловался с каждым товарищем. Не было его пять недель, а отпуск был месячный. Вернувшись, он прибежал к Мазурину.
— Ты не думай, что у меня совести нет. Дорога подвела. По трое суток сидели на каждой станции — беда!
Он привез деревенских гостинцев — ржаные лепешки, сало, каленые яйца, настойчиво угощал солдат и рассказывал:
— Ох и дела пошли в деревне, славные люди!.. Комитет бедноты устроили, землю да все богатство господ Хвилевых поделили. Барин у нас старый — Дмитрий Иванович… Тут же сынок его, Сергей Дмитриевич, конногвардейского полка ротмистр, случился. Вышел к нам вроде спокойный, только лицом синий, похлопал себя хлыстиком по сапогу и говорит:
«Ну что ж, хамово семя, хватайте все, теперь ваша сила, а только когда буду у вас обратно забирать, помните — вместе с вашей шкурой возьму». И тотчас же со своим папашей на Дон подался. И так выходит, — Рышка вздохнул, — придется нам с ним еще разок встретиться… Очень лютый барин, жалко — выпустил из рук…
— Его б там на отцовской земле и похоронить, — флегматично сказал Защима. — Они, дворяне, любят у себя в имении лежать — вот и угодили бы ему…
— А я один, — грустно сказал Комаров.
— Езжай к нам, примем, — предложил Рышка, — не обидим.
— А не рано зовешь? — спросил Защима. — Смотри, еще вернется твой ротмистр с Дона.
— Чего пугаешь? — закричал Голицын. — Раз наша власть, кто его обратно пустит?
Рышка с надеждой посмотрел на Мазурина, но тот был задумчив, молчал.
— Что случилось, Мазурин? — тревожно спросил Черницкий. — Говорят, генералы опять бунтуют против советской власти? Чего ждать, будем их бить!
— Будем бить, — подтвердил Мазурин, — и пока не добьем, нельзя спокойно жить. Товарищ Ленин подписал декрет, чтоб была у советской власти своя Красная Армия. Набирается она добровольно… Запись уже открыта. Кто за мной?
— Записывай меня! — Черницкий привстал, отбросил папиросу. — Я рабочий, за царя дрался, так неужели теперь не сумею за своих постоять?
— А мне что ж, домой, на печь? — Рышка отчаянно затеребил бороденку. — Пиши Рышкова в Красную Армию!
Голицын крякнул.
— А дядя как же? — с упреком сказал он. — Бери на учет, Мазурин! — И, махнув рукой, проговорил с наивным удивлением: — Вот не думал, что пойду добровольно воевать. Дай, Рогожин, завернуть крепенького. Да ты, никак, плачешь?
— Да нет, не плачу я, дядя, а только своего не отдам. Жену, сынишку жалко, отца, мать… Повоюю за них.
— А меня почему не пишешь? — Защима укоризненно посмотрел на Мазурина. — Мало я настрадался?
— И мне можно? — Чухрукидзе покраснел, глядя на Мазурина черными глазами. — Пожалуйста… давай, пожалуйста, очень прошу.
Маленькая солдатская фигурка робко придвинулась к Мазурину.
— А меня нельзя? Я ведь… — И Комаров замолчал.
— Почему нельзя? Разве ты чужой нам?
— Спасибо, товарищ Мазурин. Я заслужу…
В эти дни тысячи солдат записывались в Красную Армию. И Мазурин радостно думал, сколько опытных, бывалых воинов даст революции фронт. Они станут в ряды красных воинов вместе с лучшими пролетариями Петрограда, Москвы, Иванова, Тулы, научат их военному делу, а у них переймут их преданность революции, их горячую душу.
Через несколько дней эшелон под командованием Мазурина уходил в Петроград в распоряжение Всероссийской коллегии по формированию Красной Армии.
Был ясный зимний день, крепкий мороз. Белые облака, казалось, замерзли в бледном небе. Когда проезжали Бологое, там стоял встречный поезд: это первые красноармейские полки отправлялись на юг драться с белыми.
Когда началась Великая Отечественная война, Карцеву было сорок девять лет. Он жил в родной Одессе, работал на заводе начальником участка в инструментальном цехе и был членом заводского партбюро.
Одессу бомбили в первый же день войны, и в тот же день Карцев записался добровольцем в армию. Старая солдатская выучка и опыт двух войн пригодились ему. Он сразу вошел в солдатскую походную жизнь и усмехался, вспоминая старую армию и своих боевых товарищей. О некоторых из них он кое-что знал. Рышка, отвоевав гражданскую войну, вернулся в свою деревню и теперь заведовал в колхозе молочным хозяйством. В последнем письме к Карцеву он хвалился, что на ферме у него сто сорок коров. Черницкий был ранен в боях за Перекоп, потом служил на сахарном заводе под Винницей. О Мазурине Карцев знал, что тот остался в армии и был где-то на Дальнем Востоке.
Дрался Карцев под Одессой, затем со своей частью морем был отправлен в Севастополь и оттуда, будучи раненным, попал на Северный Кавказ, потом — в Москву. В Москве его хотели оставить комиссаром военного госпиталя, в котором он лежал, но ему удалось отпроситься на фронт. В сорок третьем году, сражаясь под Курском, Карцев встретил Черницкого в деревушке, недалеко от станции Поныри, во время короткой дневки. Части их шли по разным направлениям. Карцев увидел сержанта с лихо заломленной на седеющих волосах пилоткой, узнал взгляд горячих черных глаз. У них было всего полчаса времени, и они не могли наговориться, любовно глядели друг на друга, вспоминали прошлые годы.
— А знаешь, кого я встретил — Рышку, — сказал Черницкий. — Воюет вместе со своим сыном. Его и время не берет: такой же живчик. Звал к себе после войны в гости. Дом у него новый, колхоз — миллионер, дочь там же агрономом работает…
И тут Черницкий хлопнул себя по лбу.
— Чуть было не забыл! Знаешь, кто у нас начальник политотдела дивизии? Казаков! Он всю гражданскую провоевал, потом был в запасе, работал в обкоме партии, а теперь опять воюет.
Полчаса пролетели, как одна минута. Они расстались.
Карцев долго смотрел вслед Гилелю, заправленному с той сноровкой и умением, которые даются только старому солдату. Он улыбнулся: вот она, солдатская судьба! Встретил в походе Черницкого, узнал о Рышке, Казакове… Придется, возможно, и с другими встретиться. Он хотел представить себе нового Мазурина — генерала, командира корпуса, но перед глазами стоял прежний Мазурин в солдатской шинели, такой, каким он видел его в восемнадцатом году.
Карцева назначили заместителем командира батальона по политчасти. Он быстро сошелся с товарищами. Многим из них он годился в отцы, но разница в возрасте не только не мешала, но способствовала сближению: бойцы, видя его опытность и храбрость, узнав силу его характера, привязывались к нему, особенно недавно прибывшие на фронт, которых он заботливо учил.
Условия местности и характер укреплений в Восточной Пруссии, где воевал Карцев в последние месяцы войны, потребовали создания особой тактики боя. При атаке немецких позиций важную роль играли специальные блокировочные группы, созданные для борьбы с дотами. В такую группу входили автоматчики, саперы, приданы были ей два станковых пулемета, один танк и два сорокапятимиллиметровых орудия. Туда подбирали самых опытных и смелых — мастеров своего дела. Эти блокировочные группы при штурме укрепленных полос шли впереди, следом за огневым валом артиллерии.
Как-то вечером Карцев повел группу на мощный пушечный дот, бывший в центре немецкой обороны. Два орудия и танк осторожно двигались вперед. Автоматчики и саперы пробирались за ними. Метрах в ста двадцати от дота орудия и танк стали стрелять прямой наводкой по амбразурам.
— За мной! — скомандовал Карцев и быстро пополз вперед.
Пули густо летели над самыми головами атакующих, рвались снаряды. Кто-то застонал. Карцев видел перед собой узенькую щель дота, откуда строчил пулемет. Он метнул гранату, взялся за автомат. Амбразуры замолкали одна за другой. Саперы со взрывчаткой пробирались в мертвое пространство к доту. Их обстреливали из соседних укреплений, но и там действовали блокировочные группы.
Сапер, молодой коммунист из группы Карцева, умело закладывал взрывчатку. Гитлеровцы били откуда-то минами, земля от взрывов взлетала каскадами, сапер опустил руки и попросил Карцева:
— Доделайте, товарищ капитан, пустяк остался…
Карцев оглянулся, думая, что сапер устал, так спокоен был его голос. Но тот отвалился спиной к стенке дота и закрыл глаза, слабая улыбка скользнула на его губах, и как-то молодо блеснули в этой улыбке белые, крепкие зубы. Осколок мины попал ему в сердце. Карцев привык к смерти, — сколько лет носилась косая над головой, сколько близких и друзей видел он мертвыми, но чистая простота смерти молодого сапера потрясла его. Он уложил взрывчатку, проверил провод и, взвалив себе на спину убитого, быстро пополз к своим. За прикрытием он опустил труп на землю.
— Эх, сынок, — скорбно сказал он и погладил русые волосы сапера.
В один из весенних дней тысяча девятьсот сорок пятого года, в Восточной Пруссии, в районе Толькемита, куда доносилось соленое дыхание Фриш-Гафа, Карцев встретил знакомого связиста из соседней армии и, разговорившись, узнал, что их армией командует генерал-лейтенант Мазурин. Он спросил, как зовут генерала. Связист не знал, но довольно точно описал наружность командующего.
«Он! — решил Карцев. — Как бы мне повидать его?»
Но увидеть Мазурина ему долго не удавалось. И лишь после ликвидации последних немецких войск, окруженных на Земландском полуострове и южнее Кенигсберга, Карцев узнал, что штаб соседней армии находится всего в двадцати километрах от них, и попросил разрешения съездить туда.
Попутный грузовик быстро добросил его до маленького городка. Карцев волновался. Пока подходил к штабу, все думал: «Может быть, не узнает. Столько лет!» Он попросил адъютанта передать генералу короткую записку.
Адъютант приоткрыл дверь: Мазурин работал за столом. «Не вовремя…» — заколебался было адъютант и решил не беспокоить командующего. Но тот, увидев его, спросил:
— В чем дело? Входи.
— Товарищ генерал-лейтенант! Какой-то капитан хочет вас видеть. Вот… и записку просил передать…
Мазурин развернул аккуратно сложенный листок блокнота и стремительно встал.
— Где он? Давай, давай его сюда!
И вместе с адъютантом выбежал в комнату дежурки.
— Карцев?!. Митя!..
Он обнял его, схватил за руку и потащил в кабинет. Там снова прижал его к груди и расцеловал. Карцев затуманившимися от слез глазами глядел на лицо старого друга, заметно тронутое временем, на лысинки, двумя мысками вдающиеся от висков, на такие знакомые глаза и старался сравнить двух Мазуриных — вчерашнего и сегодняшнего. Но это был один и тот же человек, в главном своем совсем не изменившийся.
— Снимай шинель, садись! — говорил Мазурин. — Как я рад тебе! Что смотришь? Сильно изменился я, да?
— Нет, не очень, Алексей. Много прежнего в тебе осталось, и это — хорошо!
— Да, Митя… Когда встречаются после долгой разлуки два таких друга, как мы с тобой, и когда вся жизнь пробежит перед тобой, как на экране — ох, сколько ее уже ушло! — о многом думается, о многом вспоминается… Но разве мы плохо или нечестно прошли наш путь, разве нам есть в чем упрекнуть себя, разве есть нам о чем пожалеть, кроме, пожалуй, — он улыбнулся, — ушедшей молодости?
— Молодости не жаль, Алексей! Она при нас. Мой сын, когда был пионером, спрашивал меня, что я делал в годы гражданской войны. И я подумал тогда, что мне было бы стыдно перед ним, если бы я не мог ответить, что дрался за то, чтобы он жил в Советской стране, носил пионерский галстук.
— Закурим? — предложил Мазурин.
— Свернуть бы по «собачьей ножке»? — засмеялся Карцев.
— А что ты думаешь! Не мешало бы. Дым солдатской махорки всегда нам сладок и приятен… Сколько лет ничего не знал я о тебе, Васена писала, что ты был еще в двадцать восьмом году в Егорьевске. Между прочим, бодрая, жизнерадостная старушка она.
— А Семен Иванович жив?
— Умер в тридцать восьмом году. Весь Егорьевск хоронил его. За три года до смерти оставил директорство — старость одолела. Но часто заходил на фабрику, а партийную работу не бросал до последних своих дней. «Рыба без воды жить не может!» — говорил он.
— Жаль старика… — задумчиво произнес Карцев. — А что делает Катя?
— Она на фронте, врачом. Недавно встретила сына. Он лейтенант, у Толбухина воюет.
— А помнишь Балагина, не слыхал, где он?
— Как же! Недавно получил от него письмо. Ни на один год наши связи не прерывались. Работает директором завода на Урале, Герой Социалистического Труда. Такие танки дает фронту, что засмотришься!
Карцев рассказал Мазурину о встрече с Черницким.
— Гилель… — задушевно сказал Мазурин, — неугомонный Гилель! Молодец, что пошел воевать. Старая кость крепка!
И они стали говорить о своих прежних друзьях, о том, что будет, по их мнению, после войны, о жизни, которая, как природа после живительной бури, расцветает еще краше, еще ярче.
— Скорее бы все это увидеть! — с нетерпением произнес Карцев.
— Увидим, все увидим! Не так уж мы стары!
Мазурин встал, подошел к большой, расчерченной цветными карандашами карте Восточной Пруссии, висевшей на стене.
— Эта карта — мой верный друг, — сказал он. — Всю последнюю кампанию проделала со мною… Помнишь, Митя, как тридцать с лишним лет назад воевали мы здесь, — он провел пальцем по карте, — в армии Самсонова? Недавно разбирал я операцию царских генералов. Поучительно сравнить ее с той, которую проводили мы теперь почти что в тех же местах. Тогда русское командование действовало преступно. Первая и вторая армии дрались изолированно друг от друга и позволили противнику осуществить шлиффеновский план — разбить их порознь. В теперешней операции гитлеровцы были неизмеримо сильнее — у них было не двенадцать, а около сорока дивизий и вся Восточная Пруссия представляла собой сплошной, сильно укрепленный район. И все же мы вели наступление с такой силой и организованностью и в таком большом масштабе, что не позволили гитлеровцам осуществить контрманевр и разгромили их полностью. Ты же помнишь, что в первую войну речь шла только об окружении противника в Мазурских озерах, а нынче мы отрезали от Германии всю Восточную Пруссию и вышли к морю.
И знаешь, почему так интересно и поучительно сравнить две эти восточнопрусские операции? Два мира, две России вижу я перед собой — старую и новую. Ведь не война наша цель, а вечный мир, созидание, строительство небывалой еще в истории человечества свободной жизни, где бы человек мог пользоваться всеми благами культуры. Но если нас заставили воевать против нашей воли, как в эту войну, или еще заставят, — пусть знают: нет силы, которая могла бы одолеть нас, вернуть к старому. Нет, мы уже не те, какими были до Октября…
Мазурин задумался, немного помолчал.
— Вот что я тебе скажу, Митя, — твердо произнес он, будто утверждая старые, выношенные мысли, — я эту войну воевал по-ленински… да, по-ленински. Сейчас я тебе объясню… Ленин обладал замечательной памятью, он помнил людей, с которыми встречался и разговаривал хотя бы один раз. И еще была у него одна особенность — теплота и внимание к людям.
Я видел Ильича в первые дни его приезда в Петроград. Осенью девятнадцатого года мне снова пришлось увидеть Ленина. Я приехал с колчаковского фронта в самые тяжелые дни: Колчак был на Урале, Деникин грозил Орлу, Юденич подбирался к Петрограду, англичане захватили Архангельск, французы и греки владели Одессой, японцы разбойничали на Дальнем Востоке. Меньшевики тогда издевались над нами — дескать, всю вашу республику можно объехать на трамвае, как в Москве по Бульварному кольцу. Да, не весело было тогда. И я привез плохие вести с фронта. Воевали чуть не голыми руками, тыла у нас (в современном его понимании) не существовало, боевое снабжение доставлялось от случая к случаю, опытных командиров было мало, а старые — часто изменяли. Как, думаю, с таким докладом явлюсь к Ильичу? Ему и без того трудно. И даже, понимаешь, стало мне больно за Ленина — какую неимоверную тяжесть приходится ему держать на плечах.
Ну вот, пришел в Кремль, доложили обо мне. Вхожу в кабинет. Ленин поднялся ко мне навстречу, протянул руку и сразу назвал меня по фамилии — напомнил о нашей первой встрече. Лицо у него приветливое, даже веселое, глаза внимательные, острые. Трудно мне было огорчать Владимира Ильича, но докладываю все начистоту. Ленин слушал (замечательно он умел слушать!), потом стал спрашивать. Беспощадно. Улавливал, что было мною упущено, добирался до самых мелочей — и эти мелочи в его вопросах вдруг становились важными, — и получалось так, что Ленин здесь, в Москве, лучше меня, только что приехавшего с фронта, представлял себе и понимал военную обстановку. Он вскочил со своего кресла, обошел стол, вплотную подошел ко мне, в упор заглянул в глаза и прямо спросил, точно видел меня насквозь:
«Что это с вами, товарищ Мазурин? Вы, кажется, приуныли?»
Я растерялся и шепотом ответил:
«Владимир Ильич, тяжело же…»
А он сунул руки в карманы, зашагал по кабинету, остановился передо мною и сказал… не могу сейчас тебе передать, что выражал его голос и весь его облик: повелительность, насмешку, укор, какую-то всеобъемлющую уверенность в том, что он говорил, и знание, большое знание.
«Гм, батенька… Какой же вы большевик, какой командир, какой борец за революционное будущее, если вас испугали трудности? А вы что думали, что нам будет легко, что мы церемониальным маршем пройдем по всей России и буржуазия с низким поклоном преподнесет на золотом блюде все свои богатства? Будет еще труднее, и чем труднее, тем крепче мы должны драться — запомните это, — тем крепче! И сейчас как раз такое время, что надо драться крепче, изо всех наших сил, не жалея себя, и вырвать у врага победу, обязательно вырвать! И мы победим, не можем не победить! История вспять не идет, но движут ее вперед люди, и эти люди — мы с вами, вся наша партия, весь народ! И еще одно: с товарищами, с подчиненными держите самую крепкую связь: пусть они видят и знают, что вы им не только начальник, но и старший товарищ, верный друг и соратник, ведущий в бой за дело революции и готовый первым отдать за нее жизнь».
Мазурин блестящими глазами смотрел вдаль, будто видел там Ленина.
— В самые страшные дни, — закончил он, — а сколько их было в этой войне, — я видел перед собой Ленина, слышал его слова и твердо знал: будет еще труднее — пусть! — но мы победим. Так и вышло — по-ленински!
Он подошел к Карцеву и, положив ему руки на плечи, оживленно спросил:
— Ты не забыл Васильева?
— Нет, не забыл. Что с ним?
— Он командовал у меня дивизией. Мы встретились на поле боя после взятия Танненберга. Он произнес тогда слова, которые запомнились мне. «Сегодня самый счастливый день моей жизни, — сказал он. — Я увидел мою родину, мою Россию, которой служил всю жизнь, во всей ее мощи и величии, в тех памятных местах, где в тысяча девятьсот четырнадцатом году был свидетелем ее слабости и унижения».
Они вышли из комнаты. Им не хотелось расставаться. Сильная развесистая ель с широкими матово-голубыми ветвями гордо высилась вблизи, окруженная молодыми зелеными деревьями. Была весна, веяло свежим, пьянящим воздухом, пробивалась из земли упругая, совсем еще юная травка. Друзья стояли молча. Мазурин был весь полон счастливым чувством победно кончавшейся войны. В его сознании она выходила из обычных стратегических рамок, она виделась ему как победа нового мира — большой итог славного ленинского пути, который прошла великая страна социализма со времени Октября.
— Митя, старый друг мой, — сказал Мазурин, — какое счастье дожить до таких дней! Борьба еще не кончена, и мы сохраним полную боевую готовность до тех пор, пока на планете нашей еще останутся безумцы и преступники, враги человечества, готовые разжечь новую войну. Но не для пожара, не для огня выросли эти деревья, — он обвел рукой вокруг, — не для того мы строим наши города, сады, заводы, театры, растим наших детей, чтобы позволить кому-либо все это уничтожить и разрушить. Не темным от дыма сражений, а всегда голубым и солнечным должно быть наше небо. И мы знаем, что миллионы и миллионы честных людей на земле думают так же…
Карцев сияющими глазами взглянул на Мазурина.
— Да, Алексей, это правда, — сказал он, — у истории только одна дорога — вперед!
Они обнялись на прощание.
Небо казалось по-новому голубым, как это бывает весной.
Воздух был так свеж и чист, что хотелось дышать глубже и полнее — во всю грудь!
О да, наверно.
(обратно)