Груженный бомбами самолет приближается к королевскому дворцу в Мадриде. За штурвалом — один из лучших летчиков мира, и он намерен убить короля Испании.
Сбросив вниз свой смертоносный груз, летчик собирается выкрикнуть: «Смерть монархии! Да здравствует испанская республика!» — хотя сам знает, что никто, кроме верного напарника, его не услышит.
Завидев цель, летчик идет на снижение. Рука у гашетки беспокойно вздрагивает. Летчик машинально вытирает о брюки вспотевшую ладонь. Десять секунд, девять… Вижу цель… Восемь, семь, шесть… Без короля все пойдет по-другому… Пять, четыре…
И тут случается неожиданное. Пилот бормочет что-то сквозь зубы, снова смотрит в прицел, чтобы не ошибся, молча переглядывается с напарником — оба потрясены. Они замешкались всего на несколько десятых секунды — вернее, аж на несколько десятых, — но самолет уже успел миновать цель. Пролетев несколько сотен метров, летчик возвращается для новой попытки, — но уже твердо знает, что не сможет сбросить бомбы. Он упустил свой единственный шанс изменить ход истории Испании, и знает это. И еще он знает: повторись все снова, он поступил бы точно так же — и не один, а тысячу и один раз.
Самолет летит по холодному зимнему мадридскому небу — самолет возвращается на базу. На дворе 15 декабря 1930 года. Через несколько часов республиканский заговор против Альфонса XIII с треском провалится. Впрочем, королю остается править страной считанные дни. Четыре месяца спустя, в апреле 1931 года, результаты демократических выборов вынудят короля отречься от престола, и он отправится в изгнание. Родится Вторая Испанская республика; почти сразу же враги начнут плести против нее заговоры, и так будет вплоть до самого начала гражданской войны.
Но вернемся к нашему летчику.
Почему он не стал сбрасывать бомбы? И что же он увидел во дворе королевского дворца?
Рикардо Гарсия Фонс
«История европейской военной авиации
между двумя мировыми войнами»
Сны и мечты — они как вода. Плаваешь в них, но ухватиться за них не можешь.
Хотя в самом начале я, как и многие, думал, что вот-вот ухвачу свою мечту за хвост.
Писать я бросил уже давно, весной две тысячи третьего. От страха, по малодушию. К тому времени я был сломлен морально, да и за душой у меня не было ни гроша. Незачем делать вид, что деньги тут ни при чем. Это жизнь, от нее никуда не денешься. У меня не хватило сил сопротивляться, сражение с суровой действительностью было проиграно. Два романа и сборник рассказов — три книги, приговоренные к пожизненному заключению в ящике стола. Рукописи, которые так никто и не захотел прочесть. Мертвые книги, в чьи достоинства верит (точнее, верил) только один человек — я сам. Книги, написанные на воде. Между прочим, именно этими словами и будет начинаться мой третий роман: «Сны и мечты — они как вода. Плаваешь в них, но…»
День моей окончательной капитуляции пришелся на вторник. В пятницу издатель, которому я рискнул отправить свои сочинения, оставил мне сообщение на автоответчике: «Прочел ваш сборник рассказов. Хотелось бы поговорить». Я позвонил ему в понедельник рано утром; мне сказали, что у него встреча и что он перезвонит мне позже. И действительно, он перезвонил во вторник (день моей капитуляции), часов в десять утра. Три предшествующих дня я жил как во сне — раз за разом прокручивал сообщение, предвкушая признание и мировую славу и с трудом возвращая себя с облаков на землю. Когда издатель наконец позвонил, я выслушал его с пересохшим горлом и оглушительно колотящимся сердцем (пум-пум… пум-пум…). Он говорил, говорил, очень толково и дельно, разбирал все рассказы по косточкам. Такой приятный, доброжелательный человек. А я молчал, иногда поддакивал с угодливым смешком, за который мне тут же делалось стыдно. Схватить бы его сейчас за грудки, этого приятного человека, и рявкнуть прямо в лицо: «Хватит с меня поучений! Скажи прямо, ты печатать меня будешь или нет?»
Нет, печатать меня не станут. Так он мне и сказал.
Не помню, как я повесил трубку.
«Всего доброго, приятно было познакомиться…» — «И вам всего доброго…» В каком порядке мы сказали это друг другу — тоже не помню.
Что же все-таки пошло не так?
— В некоторых ваших рассказах угадывается хороший писатель — да-да, вы можете стать им в будущем, так что непременно присылайте нам свои дальнейшие опыты. А вот романы… Романы как-то не зацепили.
«Угадывается»… «В будущем»… Бездонное время, пропасть, в которую и заглянуть-то страшно. Значит, хороший писатель во мне только угадывается… Пум-пум…
И тут беззвучно погасла настольная лампа, даже не зажужжала на прощание. Это отключили свет за неуплату — как раз сегодня истекал срок предупреждения. Вот в такие дни и ощущаешь, до чего это паршиво — жить без гроша за душой. Ни тебе счета в банке, ни заначки дома, — что называется, все свое ношу с собой. Вообще-то ничего страшного, когда тебе отрубают свет, знаю по опыту: заплатишь на следующий день, ну пусть с пеней, а не на следующий, так когда сможешь, — и свет сразу включат снова. Обидно другое: в этот раз деньги у меня были, ровно столько, сколько нужно, вот они лежат на столе — купюры и мелочь. Я бы мог спуститься в банк на углу и заплатить, но мне не хотелось отходить от телефона. Звонок от издателя был для меня важнее всего, все остальное — не в счет; я затеял с самим собой что-то вроде игры в орлянку, подбрасывая в воздухе воображаемую монетку. Орел — издатель скажет «да», и я еще успею сбегать оплатить счет. Решка — значит, нет ни черта — ни книжки, ни света, кругом темнота (ну вот, как-то само в рифму получилось). Так оно и вышло: решка, и нет ни черта… В рифму, в общем.
Я сбежал по лестнице, сжимая в руке конверт; пара монеток выскользнули из него, зазвенели по деревянным ступеням, упали в лестничный пролет и скатились к выходу. Человек из компании, который приходил отключать свет, мелькнул в толпе и затерялся среди прохожих. Я очутился на улице, причем буквально: когда я выбегал, дверь захлопнулась, а ключей у меня с собой не было. Дело поправимое: поскольку живу я один, то на всякий случай оставляю запасные ключи у друга. Оставалось только за ними съездить.
В метро я стоял у двери вагона, разглядывал собственное отражение, подрагивающее в грязном стекле, и вспоминал разговор с издателем. И вот тут-то тоска скрутила меня. Мне стало по-настоящему страшно. Я боялся будущего. Кругом была вода, я тонул. Я потерпел поражение, и от этого некуда было спрятаться.
Говорят, что солдаты умирают на войне. Но ведь конкретный солдат умирает не на войне вообще — он умирает в какое-то конкретное мгновение, в конкретной битве. Может, это незначительная перестрелка, бой местного значения, мимо которого равнодушно пройдет официальная история, но для него важнее боя нет, ведь его собственная история на этом заканчивается. Каким бы он ни был, этот день, — это день его смерти, а она у него одна, другой не будет. И корабли тоже тонут не в океане, а в точке со строго определенными координатами широты и долготы. И происходит это в определенный день и час.
Вот и я не просто пошел ко дну — это произошло солнечным майским днем, глубоко под землей, между станциями Гран-Виа и Трибуналь. И никому не было до этого дела, некому было меня подбодрить, сказать мне: «Давай соберись, попробуй еще раз!» Равнодушное молчание напоминало о том, что мне не суждено стать писателем. Тяжелое, суровое молчание, от которого мне некуда было деться. Мечты — они как вода, ни конца у них нет, ни края. А вот у поражения, пожалуй, есть начало. У него даже дверь есть. Ты откроешь эту дверь, переступишь порог, закроешь ее за собой. А затем шагнешь — неуверенно, робко, еще не веря, что это случилось с тобой. И теперь ты один, и тебе страшно.
Я и впрямь испугался. Нет, не за свою литературную карьеру, которая завершилась, так толком и не начавшись. Я попросту не знал, что теперь делать. Пока я жил мечтами о признании, нужда как-то отходила на второй план. Подумаешь, денег нет, говорил я себе. После лишений рано или поздно придет успех, а значит, неудобства и горести — ерунда. Да, приходилось перебиваться случайными заработками, браться за всякую халтуру, но что за беда? Наступит день, когда все это наполнится смыслом. И вот сегодня все это рухнуло. Вернее, рухнуло уже давно, просто в этот вторник до меня с большим опозданием дошло, что я стою посреди развалин, в которые обратилась моя жизнь.
Вот кому повезло, так это Энрике. Мой друг детства (это к нему я ехал сейчас за ключами) тоже когда-то надеялся воплотить в жизнь юношескую мечту и стать режиссером. Правда, он оказался умнее меня — а может, просто удачливее — и свой замок строить начал все-таки с фундамента. Он подвизался в отцовской фирме (отец у него занимался ремонтом и перепланировкой старых зданий) и неплохо зарабатывал. Однажды, говорил он, я войду в мир кино. Войду как полагается, с парадного хода, с чеком в руке, и не буду ни от кого зависеть.
Видя мое отчаяние, Энрике убедил меня поработать временно в их фирме — подготовить под покраску стены квартиры, где шел капитальный ремонт. У меня было до того скверно на душе, что присоединиться к шумной компании каменщиков и сантехников казалось немыслимым, но мой чуткий друг не случайно предложил мне этот вариант: бригада была занята на другом объекте, и работать мне предстояло в полном одиночестве. Я согласился: немного денег, немного одиночества, подальше от всех и от всего. Тут меня никто не достанет…
Дом стоял в начале улицы Мендес Альваро, у площади Аточа. Старое пятиэтажное здание наконец освободилось — съехал последний жилец, занимавший мансарду. Хозяин терпеливо ждал, никому больше не сдавая жилье, и вот теперь собирался оборудовать современные квартиры, которые наверняка принесут потом неплохой доход.
Итак, холодным ноябрьским утром, в восемь часов, я стоял перед домом, где мне предстояло теперь работать. Движение было довольно оживленное, по площади сновали прохожие. Я осторожно вошел в дом, чувствуя себя неловко, словно то, чем я тут собирался заниматься, — срывать со стен старые обои — было вторжением в чужую жизнь. Закрыл за собой дверь подъезда — и тишина сразу сгустилась и будто затаилась, подстерегая меня.
Я поднялся по лестнице на самый верх. На площадке перед мансардой меня поджидали орудия труда — два ведра, одно в другом, разнообразные кисти и шпатели, банки с жидкостями неизвестного мне назначения… Я представил себе, что все эти предметы — некие таинственные существа, распоряжающиеся моей жизнью, моим будущим, ненасытные, жестокие, неумолимые, — и даже подходить близко не стал. Вынул из кармана ключи, которые дал мне Энрике; один из двух подошел, и я вошел в квартиру.
Комната была одна, зато просторная, да еще ванная и кухня, совсем маленькие, но оснащенные всем необходимым. Стены в гостиной были оклеены старыми выцветшими голубыми обоями. Первым делом мне нужно было сорвать эти обои. Наклонный потолок мансарды плавно переходил в стену, где из двух широких окон открывался чудесный вид на площадь и на Музей королевы Софии. Мебели было совсем мало: стол, единственный стул, кресло с прожженной сигаретами обивкой, старый комод, поеденный древоточцем, книги и бумаги на полках стеллажа, телевизор и видеомагнитофон — допотопные, поэтому небось их никто забирать не стал. В глубине у самой стены — узкая холостяцкая кровать, безупречно заправленная. Кто же это так старался? Наверное, бывший жилец, перед тем как уйти отсюда насовсем. Эта подробность красноречиво подчеркивала его одиночество и почему-то кольнула меня. Вот человек живет один; может, он счастлив, а может и нет, кто знает, но с ним рядом никого — это точно. Однажды утром он встает, принимает душ, заправляет постель и выходит на улицу, чтобы больше никогда сюда не вернуться. Потом приходит бригада ремонтников и уничтожает саму память о нем. А потом эту квартиру — отремонтированную, сверкающую чистотой — купит или арендует другой человек. Он переступит порог, довольный удачным приобретением, станет прикидывать, куда повесит картины и плазменный телевизор, представлять, как сложится его жизнь на новом месте. И первым чужаком, вторгшимся в это жилище, оказался я. Я почувствовал себя осквернителем.
Громкий звук мобильника испугал меня. Я сунул руку в карман, но тут же осознал, что рингтон не мой. В квартире звонил другой телефон.
Звонок доносился из комода. Я принялся открывать ящики — телефон оказался во втором, он лежал на стопке постельного белья рядом со старой картонной папкой. Неуютно держать в руках чужой мобильник. Я было дернулся ответить на звонок, но передумал. Хоть бы автоответчик сработал, что ли… Почему-то я никак не мог собраться и приняться за работу.
Я открыл папку. Какие-то бумаги, две копии удостоверения личности на имя Хоакина Дечена. Энрике, помнится, произносил это имя — так звали съехавшего жильца. Дечен смотрел на меня с тем настороженным и удивленным выражением лица, с которым мы обычно фотографируемся для официальных документов.
Автоответчик наконец сработал, но звонивший не стал оставлять сообщение. Тем лучше, нет искушения его прослушать.
Я взял шпатель и намочил тряпку под краном на кухне. Подошел к стене — той наружной, наклонной. Смочил поверхность, принялся соскребать обои. Под слоем голубой бумаги обнаружился другой, в серых звездочках. Два временных пласта. Я соскребал их вместе, но на самом деле один слой вполне мог отделять от другого солидный срок — лет эдак двадцать пять — тридцать. Если предположить, что все эти годы здесь жил один и тот же человек, попытался прикинуть я, то, допустим, он оклеил квартиру голубыми обоями в семьдесят пятом, а обоями со звездочками — в пятьдесят втором (если тогда уже существовали обои). Первый слой он клеил лет в двадцать пять, а за второй взялся, когда ему уже перевалило за пятьдесят.
Я вошел в работу. Мокрая тряпка, шпатель, взад-вперед. Каждое движение шпателя разрушало границу между временными пластами, превращая ее в труху, которой одна дорога — в мусорное ведро; память о жизни бывшего жильца потихоньку становилась обрывками пыльной бумаги у меня под ногами. Из-под обоев уже выглядывала гипсовая стена — неровная, в царапинах. Некоторые из этих царапин напоминали буквы, буквы, казалось, складывались в слова.
Да это же и вправду слова. Я всмотрелся: при желании их можно разобрать.
И тут меня напугал еще один звонок — долгий, пронзительный. Это был домофон.
— Да? — снял я трубку.
— Это курьер, — ответил голос, слегка приглушенный уличным шумом. — Хоакин Дечен здесь живет?
Хм… и да, и нет. Да — потому что это действительно был адрес Дечена. Нет — потому что он больше здесь не жил. Но я не стал вдаваться в подробности.
— Да, здесь.
В домофоне загрохотало — похоже, курьер понесся по лестнице наверх, не дожидаясь ответа.
Вскоре, отдуваясь, он уже стоял у двери мансарды. Что-то было в нем такое, что я почувствовал род солидарности. Наверное, возраст: для курьера он выглядел немолодо, ему было хорошо за тридцать. Может, выпускник университета, которому так и не удалось найти применение диплому, или безработный, вынужденный соглашаться на любое предложение на бирже труда. До чего же я устал, однако, и как мне все осточертело… Мы оба с этим парнем, похоже, заняты не своим делом.
— Ну и лестницы тут у вас! — выдохнул он вместо приветствия.
Вероятно, у него это дежурная фраза, чтобы клиент не скупился на чаевые.
— А мы скоро лифт поставим, — ответил я.
Это была чистая правда, установка лифта входила в ближайшие планы домовладельца, и все же курьер смерил меня скептическим взглядом, словно сомневаясь, что человек с мокрой тряпкой и шпателем в руках способен на такое серьезное дело. Он протянул мне прямоугольный пакет, запечатанный в полиэтилен.
— Для сеньора Хоакина Дечена.
Я заколебался. Взять пакет или все-таки не стоит?
— Да вы не беспокойтесь, за все заплачено, — по-своему истолковал он мое замешательство. — Вот здесь распишитесь.
Я нацарапал какую-то закорючку, и курьер унесся вниз по лестнице.
Ну вот, еще одно искушение для моего врожденного любопытства. Сначала мобильник (это испытание я, можно сказать, выдержал с честью, не стал отвечать на звонок), а теперь еще и пакет: так и просится в руки, а кругом никого…
Я разрезал шпателем полиэтиленовую обертку, — да ничего тут такого нет, вовсе я не вторгаюсь в чужую частную жизнь. Внутри лежал еще один конверт — обычный, белый, бумажный — и квитанция из типографии: заказ сеньора Дечена… брошюровка рукописи и переплетные работы… обложка из синтетического материала, имитация натуральной кожи… Речь явно шла о содержимом белого конверта — значит, в нем книга. Но конверт запечатан, а на нем ни слова — ни кому, ни от кого, ни адреса, ни логотипа типографии. Совершенно безличный конверт, при желании я вполне мог вскрыть его, а потом заменить другим, точно таким же… И я разорвал его и вытащил книгу. Под зеленой обложкой скрывалась пачка листов, исписанных от руки аккуратным, разборчивым почерком — видимо, это писал тот самый неведомый мне Дечен. Ну уж пару первых строчек я могу себе позволить прочитать, я это заслужил. Ладно, пять строчек, сказал я себе, пять строчек — это еще не грех, так, невинное любопытство. И чтобы скрепить этот договор с самим собой, я торжественно произнес вслух:
— Пять строчек. Только пять! Идет? — и ответил себе не менее торжественным тоном: — Идет.
Ну что ж, все в порядке, с собой я договорился.
Я открыл книгу и прочитал:
Констанца… Констанца… Констанца…
Я повторяю твое имя вполголоса, а потом наконец решаюсь написать его. Пожалуй, лучше всего будет начать именно так. Твое имя, ты. Теперь всякий раз, когда меня станут одолевать сомнения, я буду смотреть на буквы, составляющие твое имя, и они придадут мне мужества.
И неважно, что тебя больше нет. Скоро ведь и меня тоже не станет, верно?
Тут и заканчивались мои пять строчек. Я захлопнул книгу, жалея, что не догадался выторговать у себя не пять строк, а, к примеру, десять. Ничего не поделаешь, слово надо держать.
Я снова взялся за работу, решив попозже найти какую-нибудь причину, чтобы прочесть еще немного. И тут я вспомнил про слова, нацарапанные на стене. Не стал бы я их разбирать — того, о чем я расскажу, не случилось бы. Но я подошел поближе и прочитал их.
Две строчки — имя, а под ним дата:
Констанца
7.11.36
В случайные совпадения я не верю. Убежден: у всего происходящего есть причина. Совпадениями мы, идя на поводу у своего невежества или трусости, обычно называем загадки, которые нам не под силу разрешить. А у меня вдобавок есть личный пунктик — увлеченность датами и всем, что связано со временем.
7.11.36. Седьмое ноября тысяча девятьсот тридцать шестого года. Почти семьдесят лет тому назад чья-то рука начертила на стене имя женщины — то же имя, с которого начинается зеленая книга. Я пригляделся повнимательнее: перед семеркой была написана робкая, неуверенная шестерка, но ее потом кто-то энергично перечеркнул, будто автор передумал и решил исправить ошибку. Кто же и при каких обстоятельствах написал эти строки, которые я сейчас читаю? И что он чувствовал при этом? 7.11, седьмое ноября — эту дату вывела когда-то на гипсе чья-то рука. А обнаружил я эту надпись шестого ноября, и вот стою тут и ломаю голову, кто мог написать это здесь шестьдесят восемь лет тому назад. Еще несколько часов — и круг времени замкнется. А может, уже замкнулся: ведь неизвестная мне рука захотела увековечить сначала шестое ноября тридцать шестого года… Как бы то ни было, приближалась — или уже наступила — годовщина какого-то события, о котором я понятия не имел, но которое наверняка сыграло особую роль в жизни человека, написавшего эту книгу.
Интересно, смогу ли я удержаться и не продолжить чтение?
Констанца… Констанца… Констанца…
Я повторяю твое имя вполголоса, а потом наконец решаюсь написать его. Пожалуй, лучше всего будет начать именно так. Твое имя, ты. Теперь всякий раз, когда меня станут одолевать сомнения, я буду смотреть на буквы, составляющие твое имя, и они придадут мне мужества.
И неважно, что тебя больше нет. Скоро ведь и меня тоже не станет, верно?
В самом начале я повторил твое имя три раза. Ровно три — столько, сколько нужно. Четыре или, к примеру, два — это было бы неправильно. Три Констанцы, три — не больше и не меньше. Три женщины, живущие в моем сердце. Хотя на самом деле я обращаюсь к тебе, к первой Констанце, к той, без которой не было бы и двух остальных. К тебе, моя Констанца. А ведь ты так и не узнала ни о чем, даже не догадывалась, до чего мне хотелось заслужить право называть тебя именно так…
Моя Констанца.
Я пишу эти строки, хоть и знаю, что тебе не суждено их прочитать. Это все равно что чертить в воздухе невидимые прозрачные линии. Вот уже давно я живу внизу. Ниже неба. Это моя судьба. Другой у меня нет и не будет. Даже если бы я нашел в себе силы попытаться что-нибудь изменить. И что с того, что когда-то мне довелось испытать радость полета.
Все позади. Мое крылатое время осталось в прошлом. В самом страшном углу, где хранится то, что нам не дано забыть. Воспоминания одолевают меня, и все они мучительны. Когда я вспоминаю о чем-то чудесном, мне больно оттого, что этого уже не вернуть. Но есть и другие воспоминания, ужасные, от них во мне вновь и вновь оживает чувство вины; каждое утро я ощущаю чью-то немую укоризну.
В самом начале я кое-что от тебя утаил. Я умолчал о том, что на самом деле не рождался на свет. Спрашивается, зачем было скрывать это от тебя — ведь ты бы ничуть не удивилась и приняла эту новость просто и естественно. Ты была воплощенным благородством.
Так вот, это чистая правда: я не рождался на свет. Мне ведь так и не довелось узнать, где я родился и кем была моя мать. Поскольку никто так и не удосужился сообщить мне что-то определенное, я предполагаю, что она была не замужем, а тот мужчина, друг или случайный любовник, бросил ее — так же, как она сама потом бросила меня. Итак, матери у меня не было, хотя ее обязанности в какой-то степени взяли на себя семь монахинь из сиротского приюта, в котором я впервые осознал, что живу на этом свете. Что касается неведомого мне отца, с годами я стал его наделять лицами сменявших друг друга приютских учителей. Учителя говорили нам о небе, о Боге, живущем там. «Хоть ты и сирота, Он любит тебя, как и всех детей на свете», — повторяли мои ненастоящие отцы и ненастоящие матери. Только все они врали. Я смотрел наверх и не видел там ничего чудесного. И чувствовал себя тем, кем и был в действительности: несчастным беспомощным существом, которого вытолкнули в этот мир и бросили на произвол судьбы. Как и все приютские, я был чудовищно одинок.
Однако настал день, когда я узнал о настоящем чуде, которое произошло в небе.
Это случилось в двадцать шестом году. Мне было пять лет, и я бы, конечно, не запомнил дату, если бы событие, о котором пойдет речь, не стало достоянием истории. Эта фотография обошла первые полосы газет: на фоне черно-белого неба, неподвижного, как театральный задник, в воздухе парил, ни на что не опираясь, загадочный зверь с деревянными крыльями. Это был самолет под названием «Плюс Ультра». Два легендарных испанских летчика, Рамон Франко и Хулио Руис де Альда, вместе с механиком Пабло Радой перелетели океан на сооружении из досок и тряпок, ну и с мотором внутри. Геройский подвиг покрывших себя мировой славой первооткрывателей неизведанных воздушных путей и все такое. Не помня себя от восторга, я стянул газету, вырезал фотографию и спрятал подальше. Этот сложенный вчетверо клочок бумаги, который я хранил под матрасом, стал моей первой — и долгие годы единственной — собственной вещью, первой игрушкой мальчика, который до этого дня не умел мечтать. В тишине и темноте огромной общей комнаты, пока мои товарищи спали, я принял решение: я стану прославленным летчиком, настоящим героем, первопроходцем воздушных маршрутов, о существовании которых никто и не догадывается. Я перелечу через океаны, чтобы соединить континенты, народы, людей… Я буду летать, и этот бескрайний мир станет моим!
Целых десять лет эта мечта помогала мне выжить и давала мне силы. Мечтая о полетах, я пережил конец двадцатых годов и начало тридцатых, простился с детством и стал подростком.
Судьбу тех, кому исполнилось пятнадцать, решал обычно директор приюта. По своему разумению он заносил имена выпускников в одну из двух колонок списка: первая колонка — в казарму, вторая — в семинарию.
В тот день решающего выбора за спиной директора угрожающе возвышались две кучи одежды: в одной — военные мундиры, в другой — сутаны. Облачение это было ненастоящее, его сшили для нас монахини. Моя неразговорчивость, моя склонность к уединению (наедине с собой я мог без помех отдаться мечтам о полетах) были истолкованы как религиозное призвание, имя мое вписали во вторую колонку. Разумеется, моим желанием никто не интересовался.
Если не считать нескольких прогулок по окрестностям, я никогда еще не покидал приюта. В тот летний день тридцать шестого года меня вместе с тремя такими же сиротами вышвырнули в большой мир; обшарпанный автобус вез нас навстречу туманному будущему. Шоссе, по которому мы ехали, соединяло городки и поселки со столицей нашей провинции; в этой самой столице, в Авиле, я никогда не бывал. Я вез с собой сумку со скудными пожитками, среди которых была и та самая черная сутана. Мои товарищи жались друг к другу на передних сиденьях, словно желая отгородиться от остальных пассажиров, мне же хотелось побыть одному, и я сел в самом хвосте. Чтобы придать себе мужества, я взглянул на свой талисман — вырезку с фотографией чудо-самолета. Какое там! Слезы страха и отчаяния подступили к глазам, и я неудержимо разрыдался. Эти слезы и решили мою судьбу.
Откуда-то возник носовой платок — выцветший, но чистый. Схватив его, я поспешно утер слезы; затем поднял глаза.
Передо мной стоял один из моих одноклассников. Услышав, что я плачу, он подсел ко мне. Это был тихий, неразговорчивый мальчик — такой же неразговорчивый, как я; за все эти годы мы едва ли перекинулись парой слов.
— Эй, ты чего? — встревожено спросил он.
Глаза у него тоже были красные, и я чуть воспрянул духом. Мне нужно было кому-нибудь довериться.
— Не хочу я в священники. Я солдатом быть хочу, — приврал я. Вовсе я и не хотел в солдаты, но надеялся попасть в авиацию — тогда бы исполнилась моя мечта.
Мальчик посмотрел на сутану, выглядывавшую из моей сумки. Сам он уже переоделся в импровизированную военную форму.
— А вот я бы лучше священником стал, — сказал он. И, похоже, в отличие от меня, совершенно искренне.
Наверно, мы подумали это одновременно. Нам даже не пришлось ничего объяснять друг другу. На смену комку в горле пришло лихорадочное возбуждение: действовать!
Незадолго до Авилы, на последней остановке в какой-то деревушке, мы с моим новым другом вышли из автобуса и в кафе на площади зашли в туалет. Когда мы вернулись в автобус, на нем была моя сутана, а на мне — его военная форма. Выглядел я в этой форме довольно нелепо — она была мне мала.
Вскоре автобус уже въезжал в город. Наши дороги вот-вот должны были навсегда разойтись. Я засунул руку в карман брюк и извлек оттуда запечатанный и сложенный вчетверо конверт, который дали мне монахини. Мой друг взглянул на него, порылся в своем узелке и вытащил из него такой же конверт — правда, не измятый, без сгибов. В конвертах были рекомендательные письма от директора приюта, адрес, по которому каждый из нас должен был явиться, и карточка, на которой значились имя (на моей — Хавьер Альварес), возраст и кое-какие другие данные. Мы обменялись конвертами. Я судорожно сглотнул слюну, это я хорошо помню. Не знаю, отчего мне стало не по себе — оттого ли, что в этот миг я отказался от своего имени, от своей судьбы, или оттого, что понял: это новое, чужое имя, эта чужая судьба теперь мои навеки.
Никто ничего не заметил — ни водитель, ни пассажиры. Нашим перепуганным товарищам, озабоченным собственной судьбой и первой встречей с большим миром, тоже было не до нас. Я был никто и мой сообщник — тоже. Нас попросту не существовало. А раз так, кому какое дело до того, что мы с ним обменялись именами и судьбами?
На прощание мы с ним крепко обнялись. Я испытывал сильное, незнакомое мне чувство — будто мы с ним заодно против целого мира. Наверное, догадался я, это и есть та самая дружба, о которой столько раз упоминали учителя и монахини, никогда толком не объясняя, что же это, собственно, такое.
Надо же, какой она оказалась короткой, эта моя первая настоящая дружба, думал я, глядя вслед товарищу, отправившемуся на поиски семинарии. Я пожелал ему удачи. И себе тоже.
Прощай, падре Хавьер, будь счастлив!
Я открыл конверт, предназначавшийся моему другу, и прочитал адрес казармы и имя капрала, к которому мне следовало обратиться. Туда я и направился, то и дело спрашивая дорогу у прохожих.
Час спустя, когда жаркое солнце уже перевалило за полдень, я очутился перед большим зданием из серого камня. По бокам входной арки стояли две будки, в каждой по часовому. Посреди большого двора, окруженного хозяйственными постройками, был врыт флагшток с испанским флагом — красным, желтым и лиловым; раньше я видел этот флаг на плакатах и открытках, да еще в особо торжественных случаях, по большим праздникам, когда директор приюта велел вывешивать флаг во дворе.
Я глубоко вздохнул и подошел к воротам.
Один из часовых бесцеремонно остановил меня.
— Эй, парень! Ты куда это?
— Я из приюта Сан-Хуан-де-Дьос, — объяснил я, будто это место было центром Вселенной и каждый обязан его знать.
Часовой ухмыльнулся и переглянулся с напарником. Форма у них была настоящая, и я густо покраснел, устыдившись своего маскарадного костюма, хоть и с любовью сшитого, но все равно нелепого. Вдобавок она мне мала была, эта невзаправдашняя форма, — в общем, то еще зрелище.
Я протянул солдату свой конверт. Тот открыл его, пробежал глазами письмо.
— А, понятно… Значит, так… Тебя как звать-то, парень? — спросил он, не отрывая глаз от бумаги, машинально, а не потому что заподозрил что-то. Он и представить себе не мог, что я не знаю, какое имя значится там, в той бумаге. Я и не сообразил туда заглянуть. Это же надо быть таким идиотом… Я молчал, проклиная себя; сердце билось уже где-то в горле, лицо залило жаркой краской.
— Да что это с тобой такое? Ты что, имени своего не знаешь?
— Я из приюта Сан-Хуан-де-Дьос, — тупо повторил я. Меня трясло от ужаса. Вот сейчас из-за такой ерунды мой обман раскроется, меня отправят в семинарию, и все — прощай, мое летное будущее, прощай, слава.
— Тихо вы! — вдруг прикрикнул на нас другой часовой. — Полковник едет!
Черная машина вынырнула из-за угла и приближалась к главному входу. Часовой вернул мне конверт и вытянулся по стойке смирно. Я топтался на месте.
— Давай уже, — прошипел часовой, — заходи, быстро! Чтоб я тебя здесь не видел!
Ему не пришлось повторять дважды. Я юркнул в ворота и притаился в уголке. Впрочем, можно было и не прятаться: внимание немногочисленных солдат во дворе казармы было приковано к черной машине, которая притормозила у входа в главный корпус. Из машины выскочил офицер и поспешно открыл заднюю дверцу. Маленький толстячок с седой бородкой — видно, это и был полковник — вышел из машины и засеменил к воротам.
Я открыл конверт и прочитал вслух:
— Хоакин Дечен. Хоакин Дечен. Меня зовут Хоакин Дечен, — повторил я несколько раз. Ни за что теперь не забуду.
Так я впервые услышал свое новое имя, еще вчера принадлежавшее другому. Имя, которому суждено было сопровождать меня до сегодняшнего дня, когда я пишу тебе эти строки — туда, в твою дальнюю даль, в твой уголок неба.
Мне тут же показали, где я могу найти капрала. Озабоченный, все время куда-то спешащий, капрал заправлял всей работой на кухне. Он равнодушно взглянул на мое рекомендательное письмо и кивнул.
— Картошку чистить умеешь?
Конечно же, я умел, в приюте мне часто доводилось помогать на кухне, но я не успел и слова произнести — он не ждал ответа.
— Ладно, все равно. Не умеешь, так научишься. Давай начинай. И шкуру срезай тоненько, нечего добро переводить.
Он ткнул пальцем куда-то у меня за спиной. Я обернулся и опешил. Целая гора картошки занимала половину подсобки. Он что, издевается? Здесь, наверное, миллион картофелин…
— Вот эти баки наполнишь, — капрал указал на три емкости великанского размера: мы с ним и еще пару человек свободно могли бы спрятаться там с головой. — И смотри мне, чисть как следует! Шкуру опять же тоненько срезай. Наполнишь доверху — найдешь меня, я тебе койку твою покажу. Давай, вперед!
И вышел, оставив меня наедине с картофельной горой.
Я воодушевленно взвесил на ладони картофелину, убеждая себя, что это первая ступенька лестницы, которая рано или поздно приведет меня в небо — то самое небо, где обитают летчики. Затем извлек на свет божий свою драгоценность — сложенную вдвое газетную вырезку с фотографией полета «Плюс Ультра» — и положил ее рядом, чтоб она придавала мне мужества. На стене висела старая засаленная карта Испании, в отдельном квадратике на ней была карта провинции, а сам город Авила обозначался жирной точкой.
Пройдут годы, и я буду свободно читать любую карту, но в те первые дни новой жизни все вокруг вызывало у меня благоговейный восторг: я ведь не видал ничего, кроме приюта, окрестных полей и деревень, куда нас иногда вывозили на прогулку. Мир казался мне пустой доской, на которую я, бесстрашный исследователь-первопроходец, наносил все новые и новые места, все более отдаленные, все более масштабные: сначала приют, потом провинция, через которую мы ехали на автобусе, и вот, наконец, казарма — она была так близко от Авилы, что солдаты пешком ходили туда в увольнение. И кто знает, может, когда-нибудь я попаду в Мадрид?… Куда еще стремиться будущему летчику, как не в столицу Испании?
Я принялся чистить картошку, напевая себе под нос, чтобы не так скучно было. Картошка раз, картошка два… и так до десяти; потом опять: картошка раз, картошка два… и снова до десяти. Развлечение, конечно, так себе, но что поделаешь. Повторив свою присказку десятки и десятки раз, я позволил себе заглянуть в первый бак, куда отправлял, словно мяч за мячом, очищенные картофелины. С ужасом убедившись, что даже до половины не сумел наполнить этот бездонный колодец, я почувствовал, как земля уходит у меня из-под ног. Я прислонился спиной к стенке бака и, тяжело дыша, сполз по ней на пол. Нет, говорил я себе, я решил и своего добьюсь, и ничто меня не остановит. Но руки, покрывшиеся волдырями, нестерпимо болели. Мне хотелось плакать, хотелось вернуться к монахиням, хотелось умереть. Я уже готов был отказаться от своей мечты о небе.
И тут я вздрогнул от звука горна. Играли побудку. Неужели уже утро? Я выглянул в окошко — и вправду рассвело. Во дворе казармы я заметил какое-то оживление. Я вскарабкался на картофельную гору и, уцепившись за подоконник, припал к другому окну — пошире и повыше.
Вооруженные солдаты выстроились на плацу. Вчерашний полковник и еще два офицера, вытянувшись по стойке смирно, стояли у флагштока, по которому вверх ползло полотнище. Я растерялся: знамя изменилось. Теперь оно было только красное и желтое, без лиловой полоски [1].
— Солдаты! — выкрикнул полковник, сжимая в руке пистолет, который он только что вытащил из кобуры. — Несколько часов тому назад наша славная армия восстала с оружием в руках против Республики и ее продажных правителей. Настало время спасти Испанию! Да здравствует Испания!
— Ура-а-а!
— Да здравствует армия!
— Ура-а-а!
— Солдаты! — продолжал он, когда крики утихли. — Настал час выполнить ваш священный долг! Помните об этом! Надлежащие распоряжения вы получите от своих командиров.
Тут я потерял равновесие и покатился вниз по картофельному склону; сверху на меня посыпалась неочищенная картошка.
Вот так, Констанца, началась для меня гражданская война, не будь которой, я никогда бы не узнал тебя.
Существуют ли на свете случайности? Этого я никогда не знал, не знаю и сейчас. Если бы за пятнадцать лет до начала войны меня, новорожденного, отправили в другой приют, в одну из тех провинций, что сохранили верность Республике, история моя была бы совсем другой. Наверняка я бы никогда не узнал о твоем существовании. Но и в провинции, ставшей на сторону мятежников, все равно все пошло бы по-другому, не случись события, без которого мы с тобой никогда бы не встретились. Событием этим стало появление в моей жизни капитана Луиса Кортеса.
Это случилось в двадцатых числах июля, ранним утром. Война к тому времени шла уже с неделю.
Я закончил работу на кухне и безуспешно пытался уснуть на своей койке. Мне было одиноко, и теперь, с началом войны, к одиночеству примешивалась тревога. Нет, в казарме, за пределы которой я вообще не выходил, царило спокойствие. В Авиле мятежники взяли власть без единого выстрела. И все же затишье это было тоскливым. Я слышал, о чем говорили солдаты, которые возвращались с заданий из города и окрестных деревень. Повсюду шла охота на наших врагов, их хватали, сажали в тюрьмы, расстреливали. Только вот врагами этими были обычные местные жители. Моим монахиням наверняка ничто не угрожает, они ведь за наших. Но не случилось ли чего с парнем, который каждое утро привозил хлеб к нам в приют? Он был постарше меня, почти совсем взрослый; монахини ласково называли его «красным» и часто говорили шутя, что когда-нибудь он непременно угодит за решетку, если не перестанет «городить всякую ересь». Что с ним теперь? Может, его забрали? А может, уже расстреляли? Эти мысли не давали мне покоя на рассвете того июльского дня.
И тут я услыхал этот волшебный шум. Я слышал его впервые в жизни, но столько раз воображал себе, что почти узнал. Странно: незнакомые звуки, внезапно раздавшиеся среди полной тишины, могут с непривычки испугать человека. А вот этот шум наполнил мое сердце ликованием. Он доносился издалека. А вдруг это?… Не веря себе и все-таки надеясь, я осторожно встал и оделся, стараясь не разбудить других ребят, которые спали рядом. Я выскользнул во двор через боковую дверь и спрятался за кабиной грузовика, стоявшего в нескольких метрах у входа. Меньше всего мне хотелось, чтобы кто-нибудь меня заметил и заставил вернуться в казарму.
Кажется, здесь меня никто не увидит. Сердце оглушительно колотилось, не давая толком прислушаться, но все-таки, собравшись, я различил вдали этот механический мерный шум, исходящий — в этом я уже не сомневался — откуда-то сверху. Он доносился с неба, этот шум, и он приближался. У меня больше не было сил терпеть; забыв об осторожности, я вышел из своего укрытия и встал посреди двора.
Рокот становился все отчетливей. Я вглядывался в небо. Север, юг, восток, запад… ничего не видно. Пусть это окажется правдой, а не игрой моего воображения! — взмолился я. А что если это гудит какой-нибудь танк с плохо смазанным мотором?… Да нет, быть такого не может. Рокот доносился сверху, в этом я был уверен. Только вот откуда? И тут я сообразил. Чтобы сесть, самолету нужна посадочная полоса, а для этой цели здесь годилось только одно место — большой ровный пустырь позади казармы.
Туда я и побежал, надеясь увидеть там свою мечту, словно от этого зависела моя жизнь. Я встал посреди пустыря, вглядываясь в небо из-под руки и стараясь дышать потише, чтобы возбужденное сопение не помешало мне определить, откуда все-таки доносится рокот мотора.
Три человека в коричневых комбинезонах вышли из сарая, переоборудованного под мастерскую, и направились к тому месту, где я стоял. Они оживленно переговаривались, улыбались, делились друг с другом папиросами — словом, им было не до меня. Только бы они не заметили моего присутствия до того, как самолет приземлится! А он уже был совсем близко, и мотор его ревел мощно и ликующе.
Вдруг один из механиков поднял глаза и увидел меня. Он бросился ко мне, размахивая руками. Все мои мысли были только о приближающемся самолете, я был на седьмом небе от счастья и не сразу понял, чего хочет от меня этот перепуганный человек. Предупредить меня о какой-то опасности, что ли? Я обернулся — и в нескольких шагах от себя увидел смерть. Прямо на меня надвигался огромный самолет. Еще мгновение — и его лопасти разрубят меня на части.
Бежать? Поздно! Я не мог издать ни звука — только зажмурился изо всех сил. И вот тогда из моей груди вырвался вопль, которого, конечно, никто не услышал из-за чудовищного рева мотора. Чья-то рука ухватила меня за шиворот, подняла в воздух и потащила. Я безвольно болтался на весу, как тряпичная кукла, даже не пытаясь ухватиться за что-то. Теперь, много лет спустя, мне кажется, что я вообразил, будто лечу, и вопреки страху находил в этом процессе некоторое удовольствие. Мои губы шевелились, бормоча вместо молитвы привычную дурацкую присказку: картошка раз, картошка два, — только считал я не картофелины, а метры, которые пролетел в воздухе. Раз, два — и так до десяти. Раз, два… Я грохнулся на землю, меня еще немного протащило по гравию. Камешки царапали мне ноги, грудь, лицо… И вот наконец я остановился. Можно сказать, совершил посадку. Все болело. Я попытался открыть глаза — и, как ни странно, мне это удалось.
Жив я или мертв? А может, я где-то посередине, на полпути к смерти или, наоборот, к жизни?
Кто-то тряс меня изо всех сил и что-то кричал мне в самое ухо. Монахини рассказывали нам про Святого Петра, про то, что он носит при себе ключи от райских врат, а вот насчет того, что он трясет новоприбывшего как грушу, ничего не говорили.
Я поднял глаза. Самолет опять набирал высоту. Затем он развернулся и снова пошел на посадку. Может, он решил вернуться, чтобы добить меня? Как бы там ни было, я не трогался с места — просто не мог отвести от него глаз. Он снизился, ловко управившись с ветром и воздушными потоками, коснулся колесами земли и покатился на бешеной скорости, время от времени взбрыкивая, как разъяренный жеребец. Потом он начал тормозить; мне уже не казалось, что он вот-вот развалится. Вскоре, сбавив скорость, он плавно, уверенно и неспешно заскользил по полосе.
Хотя на мне живого места не было, я расплылся в широкой улыбке: до меня дошло, почему я остался в живых. В самый последний момент, увидев меня, летчик ухитрился снова поднять самолет в воздух, чтобы меня не переехать. Он спас мне жизнь! Я смотрел на кабину. Вот сейчас он выйдет через эту дверцу. Двое механиков уже бежали к самолету. Третий, присев на корточки рядом со мной, тряс меня, повторяя: «Ты цел?» Я небрежно отмахнулся: он мешал мне увидеть летчика.
Дверца открылась. Из самолета вышел он… Летчик.
Он спрыгнул на землю. Механики тут же занялись самолетом, а он решительно зашагал прямо ко мне. Похоже, он был в ярости. Одет он был в серый летный комбинезон, поверх комбинезона — китель, застегнутый доверху на все пуговицы, на шее — небрежно повязанный темно-красный платок. И еще пистолет в кобуре на поясе и коричневый летный шлем на голове, я такие раз сто видел на фотографиях, — кожаный, с защитными очками. Он снял шлем, и сразу бросился в глаза контраст между белой кожей вокруг глаз и слоем пыли, покрывавшим его лицо — молодое, гладко выбритое, с очень светлыми голубыми глазами. Я поднялся на ноги, не отводя от него восторженного взгляда. Летчик, живой, взаправдашний!
— Ты какого черта там торчал, как столб?! Я же тебя чуть не убил! Да и сам чуть не убился. Эй, мальчик, я с тобой говорю!
Это была правда. Он говорил со мной, кричал на меня. Самый настоящий летчик! Меня охватил восторг. Меня обругал настоящий летчик! Он обратил на меня внимание, я существую для него! Я задыхался от гордости. Казалось, теперь мне по плечу любой подвиг.
— Ты… ты летал через океан, да? — не помня себя от восторга, выпалил я. Моя неожиданная выходка привела его в замешательство. Он вопросительно посмотрел на механиков; один из них пожал плечами. — Скажи, ну пожалуйста! — я до того осмелел, что вцепился в рукав его комбинезона; наверно, это один из героев «Плюс Ультра» — Рамон Франко или Руне де Альда, пронеслось у меня в голове. — Ты летал через океан?
Он уставился на меня. Потом рассмеялся.
— А ты вообще откуда такой взялся?
Я замялся. Непросто ответить на этот вопрос. Один из механиков отозвался вместо меня:
— Этот мальчик — помощник на кухне, мой капитан.
Капитан! Значит, летчик, который меня только что чуть не убил — капитан! Ну какого черта механик ляпнул про кухню…
— Я… я летчик! — гордо заявил я. — Ну то есть стану летчиком… когда-нибудь.
Капитан задумчиво посмотрел на меня — как мне показалось, с искренней симпатией. Потом снова улыбнулся.
Один из механиков обратился к летчику:
— Капитан Кортес, прошу прощения, но полковник ждет вас.
Вот дурак, и надо же было все испортить…
Не глядя на него, Кортес протянул мне свой шлем.
— Бери. Пусть побудет у тебя, пока я не вернусь.
Я схватил это сокровище, почти напуганный щедростью капитана и внезапно свалившейся на меня ответственностью.
Кортес развернулся и зашагал прочь, спеша на эту свою встречу с полковником.
— Меня зовут Хоакин! — крикнул я ему вслед. — Хоакин Дечен!
Кортес обернулся. Сделал три-четыре шага в мою сторону, подмигнул мне.
— А меня Луис. Луис Кортес. Смотри береги мой шлем, парень. За тобой должок, не забыл? Я ведь тебе жизнь спас.
Они исчезли за дверью мастерской. Я стоял один на взлетно-посадочной полосе, рядом с настоящим самолетом, и в руках у меня был самый настоящий летный шлем. Весь мир был у моих ног.
Я подошел поближе к самолету. У меня кружилась голова, все сильнее и сильнее, и когда я коснулся рукой крыла, мне пришлось опереться на фюзеляж, чтобы не упасть в обморок.
Какое-то время я колебался — примерить шлем или нет, а потом решил дать торжественное обещание. Вот: такой шлем я примерю в первый раз, лишь когда стану настоящим пилотом.
— Клянусь, — произнес я вслух.
Очки на шлеме наблюдали за мной. Казалось, они разговаривают со мной, что-то отвечают. «Скоро твоя жизнь изменится», — говорили они мне…
Я сбегал за своими пожитками, а было их совсем немного — тот самый клочок бумаги с моим новым именем да любимая газетная вырезка с фотографией «Плюс Ультра». Ты же знаешь, Констанца, чем меньше у тебя всякого хлама, тем легче ты на подъем. И сейчас, почти семьдесят лет спустя, старик, которым стал тот мальчик из Авилы, старик, готовящийся встретить смерть, знает, что в полет с собой много не возьмешь. Правда, мои нынешние сборы в дорогу — последние. А тогда — тогда все было по-другому, это было начало. Начало великого приключения.
Самолет у капитана Кортеса был маленький, рассчитанный пассажиров на десять, не больше. Я открыл дверцу и залез в кабину. Шлем я положил прямо на штурвал — пусть капитан думает, что мне просто надоело ждать, — а сам пробрался в хвост самолета. Между вторым и третьим рядом сидений вполне можно было спрятаться — конечно, если мне повезет и Кортес не станет осматривать салон. Я устроился там и стал ждать.
Я думал о своем друге — будущем священнике, о настоящем Хоакине Дечене, который теперь носил мое имя — Хавьер Альварес. Наверно, если бы не та наша авантюра, я не решился бы теперь стать воздушным зайцем. Но раз уж однажды такое сошло с рук, почему мне не может повезти снова? Кроме того, Луис Кортес — человек отважный и великодушный, в этом я не сомневался. Я знал: он возьмет меня с собой.
Летчик мой вернулся не скоро, солнце уже садилось. С ним был полковник и другие офицеры. Хорошенькое дело — если все они сейчас полезут в самолет, на этом мое путешествие закончится, подумал я, но тут же с облегчением убедился, что они просто провожают Кортеса.
— Передайте ему мое почтение, — подойдя к самой кабине, полковник протянул Кортесу руку.
— Вы знаете, как высоко ценит вас генерал, — тот пожал протянутую руку и отдал полковнику честь.
Он залез в кабину и, не замешкавшись ни на секунду, надел шлем. Значит, он и не заметил моего отсутствия, не удивился, не спросил себя, куда это я подевался? Это и успокоило, и раздосадовало меня одновременно.
Кортес завел мотор.
— Вот клоун!.. — пробормотал он, улыбаясь полковнику, который уже не мог слышать его слов из-за грохота винтов. — Здесь ты и сгниешь, трус несчастный!..
Оскорбительные слова капитана потрясли меня до глубины души. Никогда до этого я не слышал, чтобы кто-то пренебрежительно отзывался о начальстве, да не просто пренебрежительно, а издевательски-насмешливо.
Кортес вырулил на взлетную полосу. Самолет набирал скорость, и все вокруг начало вибрировать. Каждый винтик в фюзеляже и каждая кость в моем теле угрожающе дрожали — вот-вот выскочат. Крикни я, мне стало бы легче, но тогда бы я выдал себя, и меня бы тут же отправили обратно, туда, где высились горы нечищеной картошки. Я стиснул зубы. И тут у меня внутри началось настоящее землетрясение. Сил терпеть больше не было. Я закричал, но постарался, чтобы крик вышел беззвучным; стало немного легче.
После первых бесконечных мгновений, убедившись, что Кортес, занятый самолетом, меня не видит, я осмелился поднять голову и взглянуть в окошко. Земля, как и все остальное, куда-то летела под нами с невообразимой скоростью, все быстрее, быстрее, быстрее. Еще немного — и мы разобьемся, взорвемся, разлетимся на кусочки… И вдруг все успокоилось. Воздух держал нас; красиво, уверенно, слегка пританцовывая, мы плыли по воздушному морю. На дне этого моря виднелись засеянные поля и зеленые луга. Далеко внизу осталась казарма, стремительно уменьшавшаяся в размерах, там паслись коровки, крохотные, как в рождественском вертепе у нас в приюте, а вокруг, куда ни глянь, простирались облака, бесконечные белые облака. Они будто указывали нам единственно возможное направление: выше, выше, выше. Пока не кончится небо!
Так мы плыли долго-долго… не скажу, сколько. Самолет планировал по синему безветренному небу. Слегка обнаглев от радости, я преспокойно уселся у окна, забыв о том, что Кортес запросто мог обернуться и обнаружить мое присутствие, и целиком отдался восторженному созерцанию.
Не знаю, сколько времени прошло. Самолет начал снижаться. Неужели все закончилось? Значит, мы не всю жизнь будем вот так летать? На душе сделалось тоскливо: похоже, мы возвращались в обычную, повседневную жизнь. Но странное дело, под нами я не увидел ни города, ни казармы, даже посадочной полосы не было — одно только бескрайнее желтое поле, над которым Кортес принялся кружить, будто искал что-то. И тут я его увидел.
Там, внизу, посреди бескрайней желтизны, кто-то ухитрился посадить самолет. Рядом с самолетом стоял человек, и человек этот, казалось, ждал нас.
Мы пошли на посадку; если уж тому, другому, удалось здесь приземлиться, Кортес — для меня он уже был лучшим летчиком на свете — и подавно сможет. Я сжался, готовясь спрятаться под сиденьем, как только мы приземлимся.
Самолет коснулся колесами земли, подпрыгнул и остановился — все как в прошлый раз. Значит, этому можно научиться. Это дело техники, надо просто упражняться, и тогда с каждым разом будет получаться лучше и лучше. Небо можно приручить.
Я снова залез в свое укрытие. Кортес заглушил мотор и вышел из самолета, предварительно убедившись, что пистолет заряжен. Стало быть, встреча эта — опасная?
Я постарался расслабиться. Уши у меня заложило, нижняя челюсть болела зверски — оттого что я весь полет просидел с открытым ртом, как дурачок какой-то. Я осторожно попытался подвигать ею влево-вправо. Гримасничая таким образом, я устроился у окошка, чтобы удобнее было наблюдать за встречей.
Незнакомец двинулся навстречу Кортесу. Наружность у него была самая обычная, одет он был в синий комбинезон и альпаргаты [2] — не летчик, а автослесарь какой-то. Единственное, что объединяло этого человека с Кортесом, элегантным и подтянутым Кортесом, — у него на поясе тоже висела кобура. И он ее тоже предусмотрительно раскрыл. Незнакомец был пониже Кортеса и, наверное, немного постарше, плотный, коренастый; в общем, далеко ему было до моего капитана. Впервые увидев Кортеса, я вообразил, что передо мной сам Рамон Франко или Руис де Альда; а вот этот летчик, по мне, тянул самое большее на механика, который летал с ними через Атлантический океан: у того тоже были курчавые и очень черные волосы. Казалось, такому человеку уготовано оставаться на вторых ролях, в тени Кортеса.
Они застыли в напряженном молчании лицом к лицу, метрах в пятидесяти от меня… Неужели начнут стрелять? И вдруг они кинулись друг к другу и крепко обнялись — как братья или лучшие друзья; объятие длилось несколько мгновений, и на это время мир вокруг них будто перестал существовать. А потом они разомкнули руки, и мир вернулся на свое прежнее место. Ветер донес до меня далекие неразборчивые слова. Они говорили друг с другом и при этом даже не подозревали, что я за ними подглядываю. Я схватил полевой бинокль Кортеса. Теперь я мог видеть их лица, вернее, головы: Кортес стоял ко мне спиной, а тот, другой, лицом; его губы шевелились, он что-то говорил. У него были густые черные усы, подбородок зарос щетиной. А глаза такие грустные, безутешные. Он пристально смотрел на Кортеса и все говорил, говорил. Ясно было, что он рассказывает моему капитану что-то очень важное — и очень печальное.
Внезапно Кортес судорожно дернулся и попятился назад, будто его ударили ножом. Усатый шагнул к капитану, протянул к нему руку. Но тот отшатнулся, обхватил руками голову и закричал. Отчаянный вопль пронесся над полем, а потом наступила гнетущая тишина.
Кортес рухнул на колени, всхлипывая и хватая ртом воздух. До чего же это было тяжело — смотреть, как страдает настоящий герой. Тот, другой, попытался утешить Кортеса, но капитан оттолкнул его. Я снова услышал его голос:
— Уходи… оставь меня…
Усатый — видно было, что он тоже в отчаянии, — оставил его в покое. Повернулся и побрел к самолету.
Но тут Кортес вскочил на ноги, выхватил пистолет и прицелился.
— Рамиро! — крикнул он, и крик разнесся далеко над безлюдным полем.
Рамиро, как и я, услышал угрозу в его голосе; он резко обернулся и тоже выхватил пистолет. Так они оба и застыли, глядя друг другу в лицо, целясь друг в друга. Каждый ждал, что другой выстрелит, но первым открыть огонь не решался. Потом, словно одумавшись, оба медленно, не сводя глаз друг с друга, опустили оружие. Сжимая в руке пистолет, Рамиро попятился к самолету, забрался в кабину и поднялся в воздух.
Кортес мог бы выстрелить ему в спину, пока тот карабкался в кабину, но не сделал этого.
Когда самолет Рамиро растаял вдали, капитан уселся прямо на землю. Так он сидел долго, не обращая внимания на палящее солнце, опустив голову и уронив руки. Шли минуты, часы; село солнце, наступила ночь, голубоватая от полной луны. А он все сидел, не шевелясь.
Мой отчаянный побег в никуда из казармы еще совсем недавно казался замечательным приключением, и вдруг все застопорилось, наткнувшись на неожиданное и непонятное препятствие. Кортес, ушедший в свои мысли, казалось, был погружен в траур по чему-то или по кому-то и ничего вокруг не замечал, в том числе и моей незначительной персоны. А мне к тому времени уже белый свет был не мил: еще бы, просидеть столько часов скрючившись, да и писать страшно хотелось.
Когда стало совсем невмоготу терпеть, я проскользнул в кабину и тихонько выбрался наружу. Отошел на несколько метров, помочился — и почувствовал, что снова готов двигаться вперед. Вот только куда? Я мог лишь вернуться в кабину и ждать.
И тут капитан разрыдался. Я знал его всего несколько часов, но за это время успел узнать о нем многое. Он говорил со мной — ласково и дружески. Я видел, как он управляет самолетом, насмехается над старшим по званию, кричит от боли и угрожает оружием своему другу — или бывшему другу. И вот теперь я увидел, как он плачет. Помнишь, ты говорила, что хорошие люди становятся беззащитными, когда плачут. А злые — те становятся добрыми, пусть на одно мгновение.
— Хавьер… Хавьер! — прошептал Кортес.
Я застыл от изумления. Когда же он успел обнаружить мое присутствие? Как ему это удалось? А главное, откуда он мог знать мое имя — мое настоящее имя, то, что досталось семинаристу? Да, капитан и впрямь исключительный человек. Его возможности недоступны моему пониманию.
Я сделал два шага к нему.
— Что? — робко спросил я.
От моего голоса Кортеса будто подбросило — он молниеносно, с кошачьей ловкостью обернулся ко мне; я перепугался. Когда я перевел дух, он уже стоял надо мной, сжимая в руке пистолет и угрюмо меня разглядывая. При свете луны я увидел его глаза, красные от недавних слез. Но вот он узнал меня — и теперь смотрел на меня сердито и удивленно.
И тут я понял, какого свалял дурака: капитан обращался вовсе не ко мне, а к какому-то другому Хавьеру; скорее всего, из-за этого самого Хавьера он и плакал.
— Так… — озадаченно проговорил Кортес. — И откуда ты взялся, скажи на милость?
Похоже, все наши встречи начинались с этого вопроса, но я не стал ему этого говорить — нам обоим сейчас было не до шуток.
— Из самолета, мой капитан.
— Из самолета? — он покосился на свою боевую машину. Все еще погруженный в свое горе, он не сразу понял, что я имею в виду.
Нужно действовать. Сейчас или никогда. Я подошел к нему поближе, чтобы он поглядел мне в глаза и понял, что я не вру.
— Мой капитан, я должен стать летчиком! — торжественно произнес я. — Иначе мне не жить. Или буду летчиком, или умру!
Кортес не понимал решительно ничего, горе занимало все его мысли. Но кажется, мое присутствие его не раздражало. Он отступил на несколько шагов.
— Хавьер — он тоже был летчиком. А теперь он мертв.
— Хавьер? А кто такой Хавьер? — спросил я.
Я чувствовал, что так будет легче сблизиться с ним, но дело было не только в этом: я и в самом деле искренне сочувствовал его горю.
— Мой брат… Это был мой брат, — медленно проговорил капитан, словно пытаясь осознать происшедшее. — Был. Его убили четыре дня тому назад. В Мадриде. Мне только что сообщили.
И показал куда-то в небо, в том направлении, куда исчез Рамиро.
— Точно убили? — мне хотелось как-то подбодрить его. — А может, тот летчик ошибся?… Ну, Рамиро этот. Я слышал, как вы его звали.
Кортес посмотрел на меня; казалось, он задается вопросом, что еще я мог услышать из их разговора.
— Рамиро не ошибся. Он знает, что говорит. Он видел Хавьера мертвым. Да что там видел — он сам его и убил.
И в глазах у него мелькнул отблеск той самой ненависти, которая пару часов назад заставила его выхватить пистолет и направить его на другого человека.
— А почему же тогда он прилетел, чтобы сказать вам об этом?
— Потому что он мой друг, — отрезал капитан. Он осекся, будто удивившись своим словам, а затем заговорил прежним тоном — неуверенным, мрачным. — Нет, не так… Он был моим другом. Моим лучшим другом. И моему брату он тоже был другом. Он позвонил мне по телефону. Представь себе, на войне телефоны тоже иногда работают… Он позвонил, потому что хотел рассказать мне о том, что случилось. Сказать мне об этом в лицо. Что ж, по крайней мере, он не стал прятаться… Мы назначили встречу здесь. Когда-то на этом поле мы с ним подолгу отрабатывали посадку. Когда еще только учились летать…
— Если Рамиро дружил с Хавьером, почему же он его убил?
— В Мадриде военный мятеж был подавлен. Хавьер был на стороне восставших. Увидев, что дела плохи, он вместе с другими военными укрылся в казармах Ла Монтанья. Слышал когда-нибудь о таких?
Я помотал головой. Кортес глубоко вздохнул.
— Тем лучше для тебя.
Он залез в кабину самолета. Я не трогался с места. Позовет ли он меня с собой? Ночь, безлюдное место — все это было мне на руку; не оставит же он тут меня одного? Он кивнул мне головой — залезай, мол. Я не заставил себя упрашивать и быстро уселся рядом с Кортесом, на месте второго пилота. Самолет покатил вперед по импровизированной взлетной полосе, освещенной полной луной. Я снова испытал этот сладкий страх: вот сейчас мы поднимемся в воздух.
— Ты Рамиро хорошо запомнил? — спросил меня Кортес, повысив голос, чтобы перекричать рев мотора. — Узнаешь его, если доведется снова увидеть?
— Конечно, узнаю! — прокричал я.
Я не мог отвести от него глаз: руки уверенно лежат на штурвале, взгляд устремлен вперед. Он и за приборной доской успевал следить, и еще разговаривал при этом. Полная победа над ночью, поглотившей нас.
— И вот еще что, Хоакин… — он искоса взглянул на меня. Ух какая гордость меня охватила, когда он назвал меня по имени (и плевать, что имя это было краденое), прямо слезы навернулись на глаза. — Смог бы ты кое-что сделать для Испании? Очень важное дело… Настоящий подвиг. Ради родины… и ради меня. Ну как, поможешь мне выиграть войну?
И он вновь взмыл вверх, в темноту. Снова легкое головокружение, короткий приступ дурноты — и снова безмятежная тишина покоренного неба. Кортес помолчал, выравнивая самолет.
— Не скрою, дело это опасное, — он обернулся ко мне. — Здесь нужно мужество. То самое мужество, которого не хватило этому недоумку полковнику, — я предлагал ему взять на себя командование, а он предпочел остаться в тылу… Твое задание будет связано с самолетами, ты ведь любишь самолеты. Помнится, ты говорил, что хочешь стать летчиком, верно? Ну тогда давай… берись за штурвал.
— Я?… За штурвал?… — я глядел на него, обмерев от ужаса и от счастья.
— Ну а кто же еще? Это совсем просто, — Кортес улыбался. — Давай, я в тебя верю.
И не отводя от меня глаз, он скрестил руки на груди.
Умирая от страха, я схватился за штурвал. Он был похож на руль машины, только сверху куска не хватало. Я обливался потом.
— Потихоньку… Не жми так, это очень чуткая система. Повернешь вправо — и самолет уйдет вправо. Ты влево — и самолет влево. Попробуй.
И я попробовал. Самолет качнулся вбок, повинуясь моей воле. Теперь я точно знал: этим миром можно управлять. Сердце тяжелым комком подкатило к горлу. Так вот оно какое, счастье. Я чувствовал его запах. Его тяжесть на своих плечах.
— Отведешь штурвал от себя — самолет уйдет вниз, потянешь на себя — поднимется. Попробуй.
Я и это попробовал. Мне понравилось еще больше, особенно когда нос самолета уткнулся вверх, в сгустившуюся темноту. Я закричал от радости, меня разбирал смех. Всего несколько часов назад я чистил картошку — теперь я стал властелином ночи.
— Эй, потише! — Кортес взялся за штурвал. — Не увлекайся, ты чуть в штопор не ушел. Не беспокойся, я тебя научу. Завтра мы днем полетим, увидишь, какая сверху видна красотища… Ну так что, поможешь мне выиграть войну?
— На фронт, да? Я все-все сделаю, вы только скажите!..
Я не преувеличивал. Моя благодарность, моя преданность капитану были безграничны. Благодаря ему я впервые в жизни был счастлив. По-настоящему счастлив. И понимал, что это не предел. Наверное, лучше этого ничего и быть не может. Это мгновение — оно самое-самое. Когда тебе кажется, что счастье никогда не кончится.
— Нет, приятель, свое задание тебе доведется выполнять вовсе не в окопах… Ты бывал когда-нибудь в Мадриде?
Я онемел от восторга. Только что я сидел за штурвалом настоящего самолета, я подружился с самым настоящим геройским летчиком, а теперь этот самый летчик собирается отвезти меня в Мадрид — город, который в приюте был для меня всего лишь самой большой точкой на карте Испании, город, совершенно непостижимый для моего бедного воображения. Но жизнь, как ты часто говорила, никогда не устает удивлять нас.
Мне не хотелось ударить в грязь лицом перед Кортесом:
— Нет, не бывал пока… но я знаю, это столица Испании.
А потом добавил с напускным равнодушием:
— А куда именно? В какой район Мадрида?
— В самое сердце, Хоакин, в самое его сердце! Есть там один дом… Слышал ли ты когда-нибудь о площади Аточа?
Любой бы на моем месте догадался, что дом на площади Аточа, о котором идет речь в книге Дечена, — тот самый, где я сейчас сижу и читаю эту книгу. Значит, все это случилось здесь…
Я обвел глазами комнату. Мало что на свете завораживает меня так, как время, его неотвратимое движение, эти мгновения, которые бесстрастно сменяют друг друга, накладываются одно на другое, оставляя позади все — славу, счастье, удачи и промахи, успехи и провалы и даже память о любви. Вот я только собираюсь произнести слова «дом на площади Аточа», и это пока будущее, а вот я произношу их, эти слова, и не успею я выговорить последнюю «а» в слове «Аточа» — все, готово, это уже прошлое.
И тут я услышал, как кто-то пытается открыть дверь.
В незнакомом доме любой шум настораживает. И еще кажется, что источник звука где-то совсем рядом, даже если на самом деле он во дворе или за окном. Но тут все было однозначно: кто-то вставил ключ в замочную скважину и безуспешно пытался его повернуть.
Я с опаской, стараясь не шуметь, подошел к двери. В руке я сжимал шпатель. Мало того, что шпатель — оружие, прямо скажем, никудышное, у меня наверняка еще и вид был нелепый. Ключи от дома есть только у Энрике и у домовладельца, это, видно, кто-то из них, успокаивал я себя.
Я резко распахнул дверь.
Хоть я и знал, что там кто-то стоит, но все равно почему-то испугался. Глаза старика смотрели на меня в упор; он, как и я, был напуган, но старался не подать виду. Я узнал его. Именно это лицо смотрело на меня с фотографии в удостоверении личности, которое я нашел в ящике комода. Хоакин Дечен, жилец, точнее — бывший жилец, а еще точнее — бывший жилец, который спокойно, будто к себе домой, пытался проникнуть в свое бывшее жилище, а теперь, увидев меня, почему-то ведет себя так, словно я застал его на месте преступления.
— Кто вы? — спросил он растерянно.
— Я? А вы, собственно, кто?
Я старался говорить решительнее. По правде сказать, решительность такого рода мне не свойственна. Ну не люблю я ссориться с людьми, выяснять отношения, мне от этого сразу становится не по себе; я вообще стараюсь никого не задевать. И я тут же смягчил тон:
— Я декоратор, ремонтом тут занимаюсь. Вот, обои снимаю, — и показал ему шпатель.
— А-а, обои, — кивнул Дечен. (Я ведь могу его так называть, хотя бы про себя?) — Понятно…
— А вы? Кто вы такой?
Он улыбнулся, чтобы успокоить меня. Похоже, он успел взять себя в руки.
— Я… я консьерж. Служу в особняке здесь неподалеку, — соврал он. — Друг здешнего жильца.
— Вы друг Хоакина? — сказал я, чтобы увидеть, как он прореагирует.
— Ну да. Хоакина Дечена.
— А ключи его у вас откуда?
— Так он сам же мне их дал, давно еще, — он потряс передо мной связкой ключей. — Когда Хоакин уезжал, я заглядывал сюда — присматривал за квартирой. Иногда оставался телевизор посмотреть — у меня-то телевизора нет. А недавно мой сосед решил купить квартиру где-нибудь поблизости. Вот я и решил показать ему мансарду. А перед тем, думаю, дай зайду, удостоверюсь, что все здесь в порядке. Я ведь и не знал, что Хоакин ее уже продал, — глазом не моргнув, заключил он.
Интересно, зачем все-таки он пришел?
— Ну ладно, я пойду, пожалуй. Удачи вам.
Он стал спускаться по лестнице. Я стоял в дверях и смотрел ему вслед. Вот спустится на шесть ступенек — и вернется, загадал я. И попытается что-нибудь из меня вытянуть. Ясно ведь, что он не просто так пришел, ему что-то здесь нужно. Но что? Мобильник? Чего уж проще, сказал бы: так, мол, и так, я бывший жилец, съехал вчера, оставил здесь свой телефон, отдайте мне его, пожалуйста. И все дела.
Ступенька, две ступеньки… Я стоял на пороге, улыбаясь. Три ступеньки, четыре… На пятой он обернулся.
— Кстати…
— Да? — я постарался, чтобы моя улыбка выглядела простодушно.
— Хоакин тут у меня книгу брал, хотел отдать в переплетную мастерскую… Я зашел туда, а они говорят — уже доставили, мол, по адресу. Вам она случайно не попадалась? В зеленой обложке, похожа на альбом с фотографиями…
— Зеленая, говорите? Да нет вроде бы… — для пущей убедительности я потер подбородок.
Значит, он пришел за книгой. Я собирался немного его помучить, но, увидев, какое несчастное у него сделалось лицо, пожалел его.
— Постойте! Вспомнил… Было такое, звонил курьер снизу.
— Ах, вот как!.. — облегченно выдохнул он. — И что же?
— Он принес пакет, точно. Я ему сказал, чтобы он позже зашел. Оставьте мне свой телефон, — решил схитрить я, — и я вас извещу.
— Телефон… — задумчиво повторил он. — Нет… Дело в том, что я не могу ждать. Мне нужно на аэродром…
Аэродром!
Может, если бы он не произнес это слово, я бы отдал ему книгу и больше не стал вмешиваться в чужую жизнь. Но он его произнес.
— Вы до которого часа работаете? — спросил он меня.
— Часов до семи.
— А не могли бы вы взять пакет и подержать его у себя до вечера? Я за ним зайду.
— С удовольствием. Не волнуйтесь, — улыбнулся я.
И он ушел, вроде бы успокоившись.
Я закрыл за ним дверь. Значит, в семь мне придется отдать ему книгу… Сделаю ксерокопию, решил я, и прочитаю книгу не спеша, и узнаю все-таки, что случилось в этом доме седьмого ноября тридцать шестого года. Или шестого ноября, потому что рука, нацарапавшая надпись на стене, сначала попыталась написать именно эту дату.
И тут появляюсь я, причем именно шестого ноября, почти семь десятилетий спустя, и обнаруживаю эту надпись. Что это, спросил я себя, случайное совпадение? И сам себе ответил вслух:
— Совпадения только в книгах бывают.
Мы, писатели, твердо в это верим. Впрочем, как и большинство людей на свете.
Я вложил книгу в плотный бандерольный конверт с пупырышками — тот самый, в котором ее принес курьер, засунул туда же мобильник, чтобы не забыть вернуть его старику, и спустился по лестнице. Неподалеку я приметил канцелярский магазин — наверняка там есть ксерокс.
А по дороге в магазин я снова увидел Дечена.
Он зашел в бар на углу и примостился там у стойки. Это был типичный мадридский бар: пахло оливковым маслом и закусками не особенно аппетитного вида, телевизор на полке в трех метрах от пола орал на всю громкость, позвякивали монетками два видавших виды игральных автомата. Перед Деченом стояла маленькая пузатая рюмка с темной жидкостью, скорее всего дешевым коньяком. Он сидел неподвижно, погрузившись в свои мысли.
Любопытство одолело меня. Я быстренько сгонял с книгой в канцелярский магазин и оставил ее копировать, а сам, воспользовавшись тем, что у бара было два входа, с разных улиц, зашел в него через ту дверь, что была подальше от стойки и от Дечена. Я устроился за колонной; отсюда я мог его видеть, а он меня — нет.
Дечен печально смотрел на свою рюмку, и эта печаль совсем не вязалась с его недавней наигранной веселостью. Казалось, он боится вздохнуть, словно любое незначащее движение может навлечь на него несчастье. Я следил за ним пару минут, и вдруг мне показалось, что он просто мертв: вот так вот взял и умер, сидя за барной стойкой, а мы все пьем себе как ни в чем не бывало и ничего не замечаем. Я гнал от себя эту дикую мысль, но она возвращалась ко мне снова и снова, пока я окончательно не поверил, что Дечен только что скончался. Потрясенный, я встал и сделал шаг к стойке. Теперь я стоял прямо перед ним. Не заметить меня он никак не мог. Нельзя же так умело притворяться, чтобы даже глазом не моргнуть, когда кто-то маячит у тебя перед самым носом. А тут еще парень в синем рабочем комбинезоне — их сюда зашла целая компания — бросил монетку в игральный автомат и выиграл. Обернувшись к приятелям, счастливчик издал торжествующий вопль; машина с радостным грохотом выплюнула пригоршню мелочи. Дечен и бровью не повел. Я сделал еще шаг.
И тут я увидел слезу. Она выкатилась из правого глаза старика и медленно сползла по щеке, обогнув нос, коснулась губ и упала прямо в коньяк. Дечен вздрогнул и пришел в себя. Он заморгал, будто очнулся от дурного сна, и одним глотком осушил свой коньяк — вместе со слезой. А потом вышел на улицу.
Я забежал в магазин за книгой и ксерокопией и тут же догнал его. Мне вдруг ужасно захотелось узнать, что за драма скрывается за этой одинокой слезой.
Дечен шагал вниз по улице Аточа, по направлению к Пуэрта-дель-Соль. Я шел за ним. Странное это было чувство — идти вслед за человеком, держа в руках его жизнеописание. Словно есть два Дечена: одного я, что называется, несу в руках, и он вместе со всей своей историей уместился там, под зеленой обложкой из кожзаменителя, а другой Дечен тем временем решительно шагает вверх по улице к вокзалу Аточа — ловкий, подтянутый, несмотря на возраст и на снедающую его печаль, из-за которой он обронил пару минут назад ту, одну-единственную, слезу.
Зазвенел мобильный. Это был Энрике, мой друг и благодетель.
— Ну что? Как там стены?
— Замечательно!
— Слушай, что там за шум? Такое впечатление, что ты на улице стоишь.
— Это я в окно высунулся, а то внутри сигнал не ловится. Послушай, а этот самый Дечен, ну что здесь раньше жил… Ты знаешь, почему он съехал? Квартирка-то всем хороша.
— Понятия не имею. Могу предположить, что Кортес сделал ему хорошее предложение.
— Кортес? — изумленно переспросил я. — Какой Кортес? Летчик?
— Какой еще летчик! Пако Кортес, домовладелец. Мой клиент.
— А он точно не летчик?
— Слушай, что с тобой?!
— Энрике, ты не можешь мне сделать одно одолжение? Мне нужна информация о Хоакине Дечене. Все, что ты можешь разузнать о нем и о продаже дома.
— Это еще зачем?
— Нужно. Ну поверь мне. Сделай это для меня, пожалуйста. Я тебе вечером перезвоню, хорошо? И ты мне все расскажешь.
Мимо меня с грохотом пролетел мотоцикл. Энрике тут же заподозрил неладное.
— Так ты все-таки на улице?
— Что? Не слышно… — я усердно принялся глотать слова, изображая помехи на линии. — Потом… перезвоню… — И отключился.
Разговор с Энрике напомнил мне о мобильнике Дечена. Почему он оставил его дома, в ящике, будто нарочно? Почему не попросил вернуть ему телефон, когда приходил за книгой? Конечно, лезть в чужую жизнь нехорошо, но меня так и подмывало заглянуть в мобильник, просмотреть его список контактов и прочитать сообщения. В конце концов я не удержался, но так ничего и не выяснил. Сохраненных сообщений не было, а все звонки, входящие и исходящие, а также пара пропущенных, были помечены одним именем — единственным в адресной книге — Констанца.
Скажете, этого следовало ожидать? Что ж, спорить не стану…
Дечен спустился в метро. Я — за ним. В вагоне я сел подальше от него, в другом конце. Впрочем, я зря страховался. Старик ничего вокруг себя не замечал, так и сидел всю дорогу, уронив руки на колени и опустив голову. Молился? Готовился к какой-то важной встрече?
Когда мы доехали до конца ветки, в вагоне уже почти никого не оставалось.
От метро он направился к автобусной остановке, метрах в двухстах. Я шел за ним, пряча книгу и отксеренные листы под курткой, замотавшись шарфом чуть ли не до самого носа. Хотя было уже ясно, что можно не стараться: Дечен меня не замечал.
Автобус выехал из города. Мы миновали пару спальных районов — бесконечная череда жилых кварталов, перемежающихся парками. Под конец нас осталось всего трое — водитель, неподалеку от него, во втором ряду, Дечен и в самом хвосте салона я.
Наконец Дечен сошел и зашагал через поле; вдали — наверное, в километре от дороги — виднелись какие-то строения, похожие на гаражи.
А потом я увидел самолеты. Рокотал мотор. Значит, это не гаражи, а ангары, значит, это и есть тот самый аэродром, о котором упоминал Дечен.
Он быстрым шагом направился к одной из невысоких построек возле взлетно-посадочной полосы — сборные домики, все на одно лицо. Над входом красовалась надпись «Авиетки Аточа». Дечен оглянулся по сторонам, вытащил ключ и вставил его в замок, не переставая озираться. Снова эта странная воровская повадка! Так же он вел себя пару часов назад в своей бывшей квартире.
Дечен открыл дверь и исчез внутри. А я уселся ждать его в захудалом кафе, которое обнаружил неподалеку. Я выбрал столик у окна — отсюда отлично просматривался вход в «Авиетки Аточа». И снова взялся за чтение.
Когда же наконец соединятся две эти истории — тридцать шестого года и нынешняя, сегодняшняя? Или, может, все-таки завтрашняя? И все произойдет завтра, седьмого ноября?
Крохотное красное солнце: оно вспыхивает, чтобы погаснуть спустя десятую долю секунды, но за этот короткий срок успевает побыть центром Вселенной; и таких маленьких светил может быть много… Люди-насекомые: маленькие, злобные, жалкие в своей бессильной ярости, вот они цепочкой бредут куда-то по земле, а сверху за ними наблюдает могучий, непобедимый великан… Язык света: вместо букв в нем короткие вспышки, которые складываются в слова, а вместо пауз между фразами — темнота…
Вот такие загадки Кортес предлагал моему разгоряченному воображению в те длинные чудесные недели, когда он обучал меня летному мастерству.
Он взял меня с собой в Бургос, где служил сам, и оставил при себе. Все приняли меня там тепло, и хоть я по-прежнему оставался мальчиком на побегушках, теперь вместо картошки у меня были самолеты. Кортес, официально сделав запрос о моем переводе из Авилы в Бургос, записал меня своим помощником. У него я научился тайнам механики и тайнам полета. Однажды ранним утром, которое я никогда не забуду, он пообещал мне, что я непременно стану летчиком, когда мы выиграем эту войну, — а ее необходимо выиграть. И, чтобы доказать мне, что это не пустые обещания, он часто брал меня с собой в небо.
Как-то посреди самого обычного бреющего полета я вдруг понял: сейчас произойдет нечто. Самолет неуклонно набирал скорость, машина яростно вибрировала, и только уверенная улыбка Кортеса придавала мне спокойствия. Внезапно самолет вскинул нос вверх. Мы поднимались — все быстрее, быстрее. Кортес, не останавливаясь, тянул штурвал на себя. Выше, выше, еще выше… И вот небо и земля слились воедино. Воздух высоты ледяной рукой сжал мне желудок; казалось, я дышу каким-то новым, неведомым кислородом, эликсиром жизни. Всего на одно мгновение — бесконечное мгновение чистого, беспримесного счастья — самолет встал на дыбы, вертикально задрав нос к небу, а потом мы перевернулись вниз головой, чтобы еще мгновение спустя очутиться лицом к земле. Мир принадлежал нам, мы были богами, — кому же еще, кроме бога, под силу поменять местами небо и землю? Мы все трое кричали — Кортес, самолет и я. И когда, замкнув круг, мы вновь вернулись в обычное положение и к обычной скорости, я понял, что человек может летать, хоть и рождается бескрылым. А если это так, значит, он может добиться всего на свете, главное — поставить перед собой цель.
— Волчок! — выкрикнул Кортес, сияя от радости. — Вот как мы с Рамиро это называли! Волчок!.. [3] Мы с ним проделывали эту штуку одновременно, каждый на своем самолете! Представляешь?
Я представил себе это. И тут же понял, сколько боли принесла двум друзьям, сражавшимся под разными знаменами, та горькая встреча в поле под Авилой. Смерть Хавьера перечеркнула счастливое прошлое, в котором они вместе взлетали в небо, чтобы крутить там этот свой волчок.
Мы летели навстречу солнцу, и я чувствовал, что Кортес стал для меня отцом — отцом, которого у меня никогда не было. «Выше неба!» — кричал он, когда самолет набирал высоту, и у меня от счастья выступали слезы.
— Хочешь посмотреть на людей-насекомых? — спросил он меня однажды утром, посреди полета и, как всегда, неожиданно.
— Конечно, хочу! А что это за люди такие? Их правда можно увидеть?
— Ну не каждый день, но как раз сегодня можно. Действительно хочешь? Предупреждаю, это может быть опасно.
В ответ я только пожал плечами: подумаешь, опасно! Разве можно чего-то бояться, когда он рядом?
Но оказалось, что люди-насекомые и впрямь могли за себя постоять.
Мы увидели их ближе к югу, через два часа полета, когда очутились над Гвадалахарой, в так называемой красной зоне. Бесконечная человеческая цепь тянулась по шоссе. Сотни — а может, и тысячи — ополченцев шли двумя колоннами, а посередине двигались грузовые машины и броневики.
— На муравьев похожи, верно? — улыбнулся Кортес. — Ну что, спустимся чуть пониже?
Я кивнул, хотя мне было не по себе. Эти люди вооружены. А что если они станут стрелять и собьют нас?
Но когда мы прошли прямо над ними в бреющем полете, возбуждение пересилило страх. Я заорал от восторга, увидев, как люди-насекомые врассыпную бросились к кюветам. Лежать! Все на землю, летят Кортес и Хоакин!
Когда мы оставили их позади и снова взмыли вверх, я обернулся. Маленькие человечки-ополченцы успели оправиться от неожиданности. Над дулами нескольких винтовок курились облачка дыма — яростные, бессильные. Где-то вдали строчил пулемет.
— Что, испугался? — спросил Кортес, когда мы взяли курс домой, на базу.
— Еще чего, ни капельки! Я бы снова слетал! — выпалил я, не помня себя от счастья. — Может, вернемся?…
— Молодец! — он одобрительно сжал мне плечо. — Давай берись за штурвал, а я пока покурю. Знаешь, куда они идут, все эти ополченцы? На Мадрид. Там, в Мадриде, будет большая битва — самая главная битва в этой войне, Хоакин. Там мы ее и выиграем, эту войну, выиграем за несколько недель. А с твоей помощью, может, и побыстрее управимся.
Не могу описать тебе, Констанца, какой гордостью наполнили меня эти слова Кортеса. Впрочем, для мальчишки, которому позволили управлять настоящим самолетом, любые слова звучали бы музыкой. Мадрид постоянно всплывал в наших разговорах. Именно там, в Мадриде, я должен был помочь Кортесу выиграть эту войну, хоть я пока и не знал как. Там, в Мадриде, ждала меня ты…
Я многому научился в августе и сентябре тридцать шестого. Пожалуй, я был тогда счастлив — оруженосец своего героя-одиночки. Семьи у Кортеса не было, он думал только о самолетах и о войне, о том, как ее выиграть. Видел ли он во мне тогда сына? Возможно. Хотя когда он грустил о брате или с гневом вспоминал о бывшем друге, который этого брата убил, мне казалось, что он скорее ищет во мне замену Хавьеру, нашедшему свою смерть там, в легендарных и проклятых казармах Ла-Монтанья.
Настал день, когда я осмелился расспросить его об этом подробнее. Это был особый день: генералы прибывали в Бургос со всей Испании, все они приземлялись на нашем аэродроме, и двое из них обратились к Кортесу с запоздалыми соболезнованиями.
— Я слышал, вашего брата убили в казармах Ла-Монтанья. Это преступление не останется безнаказанным, — сказал один из военных, обнимая Кортеса.
— Мы отомстим за него! За него и за всех остальных. И ждать осталось недолго — пару недель, не больше, — с воодушевлением заверил другой.
— А что все-таки произошло в казармах Ла-Монтанья? — решился наконец спросить я, когда мы с Кортесом уже ехали в машине на большой военный парад, который вот-вот должен был начаться на главной площади Бургоса.
Кортес вздохнул, взглянул на меня, чтобы убедиться, что спрашиваю я не из пустого любопытства, снова вздохнул.
— В Мадриде восстание восемнадцатого июля провалилось. Все пошло из рук вон плохо, и военным, которые выступили за наше дело, пришлось укрыться в казармах — чтобы спастись самим и спасти оружие, которое там хранилось. Нельзя было допустить, чтобы арсенал попал в руки коммунистов и анархистов. Толпа революционеров окружила казармы. Командиров над ними не было, и вооружены они были скверно, зато кипели ненавистью и жаждали крови. К ним на помощь подоспели и те из военных, кто не поддержал восстание. Подвезли артиллерию. Начался обстрел, казармы взяли в кольцо, а потом… А потом, Хоакин, прилетели самолеты. И Рамиро был за штурвалом одного из них. Самолеты принялись бомбить казармы, многие из укрывшихся там погибли. Среди убитых был и Хавьер, — мрачно заключил Кортес.
Что-то тут не сходилось. Отчего же они оба с Рамиро так уверены, что Хавьера убила именно бомба, сброшенная с самолета? Я не успел спросить Кортеса об этом, он сам заговорил. Медленно, глядя в окно машины, будто рассказывал свою историю не мне, а домам и людям, мимо которых мы проезжали.
— Им пришлось сдаться. И тогда началось черт знает что — настоящая бойня. Пленных расстреливали, добивали ударами ножа, выбрасывали в окна, пинали трупы ногами… Некоторые офицеры покончили с собой. Рассказывают, что один полковник и четырнадцать офицеров и кадетов ушли из жизни как настоящие рыцари. Полковник приставил к виску пистолет и предложил остальным последовать его примеру, и все без колебаний пошли на это. Толпа уже выламывала дверь; полковник скомандовал: «Огонь!», и пятнадцать указательных пальцев нажали на спусковой крючок. И когда дверь рухнула, ворвавшиеся в комнату убийцы нашли там одни только трупы. Тогда в бессильной ярости они принялись кромсать мертвые тела… — Кортес обернулся ко мне. — Вот, Хоакин, какие люди заправляют всем сейчас в Мадриде!
— Но я все равно туда поеду, мой капитан! — я сказал это как можно торжественнее. — Я не боюсь, правда!
Кортес благодарно улыбнулся мне; его тронула моя решимость.
В тот день, первого октября тридцать шестого года, все мятежные генералы собрались в Бургосе, чтобы решить, кто примет на себя командование армией. Выбор пал на человека по фамилии Франко.
— Франко? — потянул я Кортеса за рукав прямо посреди торжественной церемонии. — Тот самый? Летчик с «Плюс Ультра»?
— Тихо, — цыкнул капитан.
Но я непременно должен был знать.
— Это он, да? — снова дернул я его за рукав.
— Это его брат. Летчик — это Рамон Франко, а этого зовут Франсиско. Он генерал. Самый молодой генерал в Европе. Великий воин. И помолчи.
Брат летчика с «Плюс Ультра»! И я буду работать для него, помогу ему выиграть войну. Может, в награду за это мне позволят подняться в воздух вместе с Рамоном или перелететь Атлантический океан с Кортесом… Мне уже казалось, что военные марши и бесконечные крики «Вива!», которыми приветствовали Франко, звучат в мою честь, в честь моего славного будущего. Я едва дотерпел до утра, чтобы попросить Кортеса поскорее отправить меня в Мадрид.
— Погоди, сегодня ночью я покажу тебе, что такое красное солнце и как оно работает, — загадочно пообещал он вместо ответа. — Помнишь, я говорил?
Ну конечно, я помнил. Одна из его загадок. На земле на них ответа нет, а в небе все вдруг становится понятным. Я все это уже заучил: маленькие красные светила вспыхивают, а спустя десятую долю секунды гаснут, успев побыть центром Вселенной…
В тот раз мы поднялись в воздух поздно ночью. Мы отлетели от аэродрома недалеко, всего на два-три километра, затем Кортес взглянул на часы, и мы повернули обратно.
— Надеюсь, сержант будет на месте вовремя, — пробормотал он, что-то высматривая во мраке под нами.
Что он там искал?
Внезапно он толкнул меня локтем.
— Вот оно, Хоакин. Твое красное солнце.
Я заглянул вниз, в темноту, ожидая чуда. Я не сразу его заметил… но оно действительно было там!
Красная светящаяся точка возникла из мрака, ярко вспыхнула, превратившись на миг, как в загадке Кортеса, в центр погруженного во тьму мира, и погасла. Посмеиваясь над моим удивлением, капитан зажег сигарету. Где-то далеко внизу крохотное красное солнце вспыхнуло и погасло, потом еще раз, и еще, и еще. Я вопросительно взглянул на Кортеса. Он сделал затяжку и, выразительно подняв брови, глазами указал на тлеющий кончик сигареты. Потом вытащил ее изо рта и, держа двумя пальцами за фильтр, повернул кончиком кверху; получилось что-то вроде крохотной печной трубы. Выдохнул дым на тлеющий кончик, тот снова ожил и заалел во тьме.
— Видишь? Вот эта красная точка. Днем ее вообще не видно, зато ночью она как маяк для моряков. Собственно, это и есть маяк, указывающий путь нам, летчикам, чтобы мы не сбились с пути в темноте… Чтобы легче было обнаружить врага, когда летим наугад в темноте. То, что сейчас там, внизу, делает сержант, выполняя мой приказ, в Мадриде строго-настрого запрещено. Ночью город должен погружаться во тьму, чтобы уберечься от налетов с воздуха. Тут-то и появляешься ты, и все меняется. Бери, пора тебе научиться курить.
Он протянул мне сигарету. Я с опаской взял ее.
— Дым глотать не обязательно. Достаточно просто втянуть воздух, чтобы получился такой вот огонек.
Я осторожно затянулся. Дым обжег мне рот, я закашлялся. Гадость ужасная. Но огонек загорелся.
— Молодец, Хоакин! — крикнул Кортес, идя на посадку. — У тебя получилось. Ты был настоящим солнцем посреди мрака!
Я попытался улыбнуться; ужасно хотелось, чтобы Кортес мною гордился, и я сделал еще одну затяжку. На этот раз я проглотил дым. Подумаешь, совсем не так уж и противно.
Это был первый мой урок шпионской грамоты. Еще важнее оказалось обучиться языку света — им я должен был овладеть в совершенстве. Световые сигналы надо было отправлять при помощи особого фонарика с секретом, который вручил мне Кортес; вспышки света складывались в буквы азбуки Морзе, буквы — в слова. Фонарик был замаскирован под музыкальную шкатулку, а стенки у этой шкатулки внутри были зеркальные, чтобы огонек светил ярче. Достаточно вставить в специальную выемку на дне шкатулки огарок свечи, зажечь его — и готово: можно начинать говорить на языке света, открывая и закрывая крышку. Если кто-нибудь поинтересуется, что это у меня такое, можно ответить, что это память о родителях или, скажем, любимая с детства игрушка.
— И вот возьми… Это тебе, — сказал мне Кортес в день, когда мы закончили занятия, и протянул мне часы — настоящие, очень красивые. — Серебряные. Это часы моего брата. Надпись посмотри.
Я открыл крышку часов. На внутренней стороне было написано: «Хавьер. 13 июня 1936 года». Я невольно вздрогнул. Ну вот, опять Хавьер. Мое настоящее имя следовало за мной по пятам с тех самых пор, как я обменял его на другое; на этот раз оно собиралось остаться со мной надолго. Часы — это такая вещь, с которой не расстаешься, тем более если их подарил тебе друг или отец, а Кортес успел стать для меня и тем и другим. И вдобавок это не просто часы — это часы его погибшего брата.
— Видишь дату? — глаза у Кортеса снова стали грустными. — Тринадцатое июня — день рождения Хавьера. Я заказал это выгравировать, хотел подарить ему часы на двадцатилетие. Не успел. Рамиро убил его раньше в казармах Ла-Монтанья. Бери, теперь они твои. У меня к ним и цепочка есть, но я тебе потом ее отдам, когда вернешься. А сейчас чем меньше вещей, тем лучше… Давай сверим время, — и он вытащил из кармана свои часы. — Каждую ночь — ровно в полночь — ты будешь выбираться на крышу дома и отправлять в небо донесения своей музыкальной шкатулкой. А я буду читать твое послание сверху. Каждую ночь я буду прилетать туда на встречу с тобой.
— Из самого Бургоса, каждую ночь?
— Нет, Хоакин, не из Бургоса. Готовится решающее наступление на Мадрид, скоро мы освободим столицу. Я отправляюсь на фронт с войсками генерала Варелы. Меня переводят к нему в генеральный штаб. Так что я буду куда ближе.
Я слушал его, замирая от страха и восторга. В голове у меня крутилась целая куча вопросов; видно, Кортес это понял и стал терпеливо мне все объяснять.
Живя на аэродроме, среди летчиков, я вообразил себе, что меня доставят по воздуху куда-нибудь поближе к столице, а то и вовсе прямо в Мадрид. Я не представлял себе тогда, что творится кругом, как складываются дела на фронте. Оказалось, Кортес действительно полетит со мной, но не до самого Мадрида, а до шоссе, связывающего столицу с Валенсией. Восточное направление было единственной брешью в кольце осады. Дорога эта соединяла Мадрид с морем, именно по ней в город поступало продовольствие, и по ней же, когда мы победим, попытается сбежать республиканское начальство — гражданское и военное, будут отступать войска.
Это общая схема. На практике все должно было выглядеть так: мы с Кортесом поднимемся в небо, как только поступят сведения о продвижении очередной вражеской колонны из Валенсии к Мадриду. Мы пролетим над шоссе, осмотримся на месте, убедимся, что колонна есть и движется в нужном направлении, потом обгоним ее и приземлимся где-нибудь неподалеку. Высадившись, я подожду республиканцев у дороги и попытаюсь прибиться к ним: дескать, я один уцелел в перестрелке. Или шел с нашими, а тут налетели с воздуха, всех поубивали, я один вот в живых остался. Возраст, да и вид у меня несерьезный, бьющий на жалость, так что особо приставать ко мне с расспросами, скорее всего, не станут, просто возьмут с собой без лишних разговоров. Но на крайний случай у меня было припасено имя одного человека, не последнего в Мадриде, я даже адрес его знал. Лейтенант Рамиро Кано. Тот самый Рамиро, бывший друг, предатель, убийца Хавьера… Если что, я должен назваться дальним родственником лейтенантовой жены — ну троюродным кузеном каким-нибудь. Вот так я впервые услышал твое имя: Констанца Сото.
И началось. Кортес готовил меня, как актера перед спектаклем, заставлял бесконечно твердить вслух ваши имена и свою легенду.
— И так до тех пор, пока не почувствуешь, что и сам уже толком не знаешь, кто ты такой, — говорил Кортес.
Ну, пожалуй, для этого мне не придется особенно трудиться, думал я по ночам, посмеиваясь про себя. Я и так уже с трудом понимал, кто я: сначала приютский воспитанник, потом несколько часов побыл семинаристом, а дальше пошло-поехало: ученик пилота, разведчик, а теперь вот еще дальний родственник какой-то женщины, чье имя Кортес произносит так бережно, — твой родственник, Констанца. И все это потому, что я поменялся именем с другим мальчиком. Кстати, на этот раз мне повезло: имя мне оставили, в Мадриде я мог по-прежнему называться Хоакином. На наших тренировках-репетициях я носил ту самую одежду, в которой мне предстояло прибиться к вражеской колонне; в этой одежде я и спал. Мне строго-настрого было запрещено стирать ее, и умываться тоже было нельзя.
— Я знаю, что говорю. Чем грязнее, тем лучше. Тебе так скорее поверят.
Поверят? Кто? В чем же все-таки мое задание?
— Сейчас я тебе все объясню, Хоакин. Видишь ли, Рамиро прекрасный летчик и солдат отличный, хоть и не за тех воюет. Его очень ценит правительство в Мадриде — ну если считать, что оно там есть, правительство. В столице сейчас хаос, никто ничего не решает, кроме разве что агентов Сталина. Вот почему удар надо нанести именно сейчас. Поэтому твое задание так важно. На счету каждая минута. Город защищают солдаты и ополченцы, но согласия между ними нет и порядка тоже, каждый подчиняется кому хочет — вернее, там каждый сам себе командир. Так что сейчас взять город было бы проще. Правда, в Мадриде со дня на день ожидают подкрепления: туда вот-вот прибудут отряды иностранных наемников. А хуже всего то, что в любой момент может поступить помощь от русских, от коммунистов — русские танки, самолеты… главное — самолеты. Рамиро наверняка все про эти дела знает, он ведь у них в республиканской авиации важный начальник. Ну так вот, ты будешь следить за ним, причем прямо у него дома. Человек он умный и осмотрительный, но своей жене Констанце доверяет безгранично. Я точно знаю, что дома он осторожничать не станет и будет свободно говорить обо всех военных делах, делиться с ней своими тревогами и трудностями. А ты будешь поблизости и подслушаешь все его слова.
— Но как?
Кортес вытащил из нагрудного кармана кителя ключ. Он поднес его к моему лицу, и я понял, что ключ этот важнее и часов, и музыкальной шкатулки.
— А вот так. Ты будешь жить с ними, у них дома. Они непременно возьмут тебя к себе. Да не смотри так, я все продумал. Спрячь этот ключ, храни его так, будто твоя жизнь от него зависит… хотя почему «будто», она и впрямь зависит от него. Если все сделаешь так, как я скажу, — останешься жить в их доме. И тогда ты сможешь слушать, о чем они говорят, и обо всем мне рассказывать. Рамиро никогда не станет подозревать пятнадцатилетнего мальчишку. Тем более если ты явишься к ним как беженец. Ты будешь моими глазами в сердце врага, — торжественно подытожил он. — Верь мне.
И я верил. Конечно, мне было страшно, глупо это отрицать. Но по ночам, когда я, не раздеваясь, падал на койку, другие чувства пересиливали страх. Я был возбужден и горд. Я перестал быть никем. Оказывается, я на что-то годен, и капитан Кортес мною гордится. Все это наполняло мою жизнь новым содержанием: я радовался тому, что завтра снова настанет утро, радовался каждой минуте, просто тому, что я дышу — дышу и сражаюсь. Я все могу, я сильный, я живу, и жизнь у меня теперь совсем другая, осмысленная. В приюте я и мечтать не мог о такой.
— Ну что, настал твой час, Хоакин. Нам пора в путь.
Двадцать второе октября, подумал я. Две двойки. Я сглотнул слюну. Потом спрятал в нагрудный карман часы и музыкальную шкатулку, а ключ повесил на шею.
Мы молча вышли на взлетную полосу и зашагали к самолету. Накрапывал дождь, небо затянуло черными тучами, с юга дул сильный ветер. Лето кончилось безвозвратно. И эти наши безмятежные бреющие полеты над желтыми полями — тоже.
Фюзеляж мелко задрожал, мы оторвались от земли и устремились вверх, в самую толщу набухавшего грозой серого воздуха. Под ложечкой засосало — вернуться бы сейчас назад, почувствовать надежную землю под ногами… Но сердце и голова не соглашались с телом: разве я мог подвести того, кто столько для меня сделал?
Два часа спустя Кортес кивком показал мне что-то внизу.
— Люди-насекомые, — прошептал он.
Я взглянул вниз. Вражеская колонна медленно двигалась вперед. Скорость задавали грузовики и танки. Справа и слева от машин брели люди — с воздуха они казались совсем крохотными. Муравьи, вооруженные винтовками. Муравьи ползли к Мадриду, чтобы защищать Республику.
Мы полетели прочь. Безрассудством было бы нарваться сейчас на зенитный обстрел. Мы пролетели еще несколько километров, и наконец Кортес увидел пустынное место, где можно было сесть, так чтобы шум моторов не насторожил врага.
Никогда еще у нас не было такой трудной посадки. Коснувшись колесами земли, самолет очумело взбрыкнул; его бешено трясло, и два раза Кортес едва не потерял контроль над машиной.
Когда мы остановились, он даже не стал глушить мотор.
— Через три дня я начну летать в Мадрид по ночам. Буду искать тебя на площади Аточа. Каждую ночь, пока не найду.
— Хорошо, — сказал я.
Вот каким будет мой единственный канал связи: смотри себе в ночное небо и верь, что Кортес там, что он видит тебя.
— И вот еще что, — Кортес сжал мою руку повыше локтя, и я сразу понял, что он скажет мне что-то очень важное. — Я хочу, чтобы ты сообщал мне не только о самолетах Рамиро, но и о Констанце, его жене. Расскажешь мне, как там она. Здорова ли, счастлива ли, как протекает ее беременность… Я знаю, она ждет ребенка. Мы ведь с ней были знакомы еще до войны, как и с Рамиро. И мы дружили, крепко дружили.
От такого нового поворота я немного растерялся. Собственно, что я тут мог сказать. Я всегда делал то, что велел мой капитан.
Я вышел из самолета. Он оторвался от земли и скрылся из виду. Я остался один, на земле людей-насекомых. И побрел навстречу к ним, вниз по дороге.
Когда я наконец вышел к ним, они как раз устроили привал. Как мы и предполагали, никто не стал меня ни в чем подозревать. Какой-то сержант разрешил мне остаться, предварительно посоветовавшись со своим командиром, который в это время рассматривал карту вместе с другими офицерами; тот лишь безразлично пожал плечами, досадуя, что его оторвали от важного дела.
Вскоре мы снова двинулись в путь под проливным дождем. Мне было неуютно и тоскливо одному среди чужих; меня окружали враги, и я знал, что в случае чего они не колеблясь меня расстреляют, — хотя я видел, что это люди, обычные люди, такие же, как Кортес и я. Честно говоря, мне ужасно хотелось сбежать. И плакать очень хотелось — не оттого, что я боялся смерти, а от одиночества и дурных предчувствий, причинявших мне почти физическую боль. Жуткое это чувство — знать, что ты один, что тебя все покинули.
— Вражеская авиация! — раздался чей-то крик. Колонна вздрогнула и, извиваясь, свернулась в клубок, как раненая змея. Не раздумывая, я бросился на землю вместе со всеми. Как же свои отличат меня от республиканцев? Меня просто убьют вместе с остальными.
Рядом строчили пулеметы. Один самолет — всего один — появился на горизонте и полетел над колонной, будто не замечая, что по нему открыли огонь. Он прошел прямо над нами, гордый и великолепный, все набирая и набирая скорость; теперь он летел так быстро, что стрелявшие просто не успевали прицелиться. Разогнался и резко взмыл вверх, опередив посланные вдогонку пули. Вверх, поворот и снова вниз, замыкая круг; в небе повисло четкое, совершенное по форме кольцо белого дыма. Даже пулеметчики — и те онемели от удивления.
Я лежал в грязи, глотая слезы. Оказывается, можно расплакаться и из-за того, что ты понял: у тебя на свете есть друг. Кортес бросил вызов врагам со всеми их пулеметами, чтобы подарить мне этот волчок, чтобы показать мне, что я не один. Чтобы я знал, что он меня не бросит.
Вылазка Кортеса утешила и подбодрила меня. Воспоминание о ней грело меня все несколько часов, которые заняла дорога до Мадрида. И вот наконец я вошел в город.
Мадрид, Констанца! Город, где мне суждено умереть в двадцать первом веке и куда мне удалось заглянуть одним глазком (и все для тебя, ради тебя), — совсем не тот город, в который я вошел в памятный октябрьский день тридцать шестого года. Правда, и я уже совсем не тот Хоакин. Но тогдашний осажденный Мадрид!.. Какие слова мне найти, чтобы рассказать о нем?
Я ускользнул от ополченцев, как только мы вошли в столицу. Конечно, меня никто не хватился. Я принялся бродить по улицам и переулкам. С каждым шагом моя легенда становилась все ближе и ближе к действительности. Я и вправду был просто испуганным мальчишкой, который заблудился в незнакомом городе и падает с ног от усталости. Я расспросил прохожих, как пройти на Гран-Виа [4], и побрел туда. По дороге мне не раз попадались вооруженные штатские весьма грозного вида; глядя на меня, они и вообразить не могли, что перед ними человек, от которого зависит взятие города.
Кортес предупреждал меня: Мадрид сейчас в руках разбойников и убийц, негодяев без чести и совести, именующих себя революционерами. Если не сможешь доказать своей принадлежности к какому-нибудь профсоюзу или какой-нибудь партии левого толка — считай, твоя жизнь в опасности. А я мало того, что был лазутчиком, проникшим в самое логово зверя, — у меня еще и документов не было. Выходит, в случае провала меня вполне могли расстрелять. Откуда же тогда взялось это острое ощущение счастья?
Очень просто. Жизнь моя до этого протекала в приюте, в казарме в Авиле, потом опять в казарме — на этот раз уже в Бургосе. И вдруг — Мадрид, улица Гран-Виа, запруженная народом, несмотря на войну (я и не знал, что бывают такие широкие улицы). По обеим ее сторонам высились величественные дома, у входа в них громоздились большие мешки с землей и песком. Кинотеатры, украшенные огромными афишами, танцевальные залы, рестораны — все это как-то не вязалось с внушенным мне образом города, отданного на милость разбойников… Осажденная столица, как я ее себе представлял, — это такое место, где все засели с ружьями наизготовку и поджидают врага. Поэтому меня так удивили переполненные бары, люди на улицах, которые оживленно разговаривали и даже смеялись. Причем это были не только военные или ополченцы — просто люди… Люди! До чего же емким, Констанца, оказалось это слово, сколько оно всего вмещало! Здесь были влюбленные пары, и подростки — такие как я, и ребята помладше, и пожилые люди, и совсем старички… Помню одного пастуха: бедняга, затравленно озираясь по сторонам, вел куда-то одну-единственную тощую овцу. Мы с ним переглянулись; наверно, он пришел в город, спасаясь от наступления наших, а овечки его, одна за другой, попали в руки голодного несознательного элемента, так что теперь от всего стада осталось одно несчастное создание, такое же изможденное и напуганное, как и его хозяин.
Но было кое-что еще, самое главное. Любовь!
Я встретился с ней внезапно, на улице Алькала, возле Сиркуло-де-Бельяс-Артес. Но я влюбился не в одну какую-то девушку, нет, их было шестьдесят или семьдесят; иными словами, я влюбился во всех сразу и ни в кого в отдельности. Меня угораздило влюбиться во всех, кто проходил мимо! У меня чуть не остановилось сердце, когда я их всех увидел. Я медленно сполз по стене вниз, да так и остался там сидеть, хватая ртом воздух, как та несчастная овечка. Эти девушки на улицах Мадрида… Я ведь до этого женщин просто не видел, если не считать наших приютских монахинь — участливых, по-матерински заботливых, всегда в черном. Из казармы — что в Авиле, что в Бургосе — я почти не отлучался. Все мысли мои были заняты самолетами, все мечты — о том, чтобы научиться летать; в моем мире просто не было места естественным чувствам. А теперь, в Мадриде, они нахлынули на меня, как бурное море.
Две девушки в нескольких метрах от меня беззаботно расхохотались; от этого безудержного проявления радости я окончательно потерял голову и расплылся в дурацкой счастливой улыбке, как пьяный. Это вовсе не было пробудившимся влечением к другому полу — это была сама жизнь. Улица Алькала — улица жизни. Раньше мне доводилось бродить лишь по сумрачным переулкам жизни, и вот я попал на ее главную улицу — яркую, шумную. Если женщины так ослепительно прекрасны в дождливый день, в осажденном городе — что же будет, когда наконец настанет мир? Как вообразить себе их очарование солнечным утром в освобожденном Мадриде, мирном Мадриде? Я представил себя за штурвалом самолета, как я кручу волчок на глазах у вот этих двух хохотушек. Но они направились вниз по улице Алькала, к площади Пуэрта-дель-Соль, и мне стало страшно. А что если я их больше никогда не увижу? В голове у меня шумело; подстегиваемый отчаянием, я поднялся на ноги. Отыскал их взглядом в толпе и пошел за ними, вмиг позабыв о своей миссии. Все было просто: они смеялись, и я хотел видеть и слышать, как они смеются. Потому и пошел за ними, не в силах сопротивляться этому желанию.
Так, околдованный любовью, я попал на Пуэрта-дель-Соль, в сердце столицы. Я был настолько заворожен жизнью в самом бесхитростном и прекрасном ее проявлении, что не сразу понял, почему внезапно все вокруг засуетились и отовсюду доносятся тревожные голоса.
Всеобщее смятение, суматоха, крики ужаса и рев, страшный рев, доносившийся сверху. Девушки больше не смеялись, они бросились бежать, и я за ними, как будто мне поручили их охранять. Кто-то закричал: «Ложись! Ложись!» Кричали мне, но я тогда этого не понял. Я пытался догнать девушек, всего десять метров отделяло меня от них.
И вдруг… Оранжевый шар вырос над асфальтом, прямо передо мной. Меня отшвырнуло назад, я ощутил два коротких болезненных удара — что-то впилось мне в тело. Все случилось очень быстро, но словно в замедленном кино. Девушек тоже отшвырнуло назад. Одна из них — та, что мне особенно понравилась, — упала прямо на меня, и мы покатились по земле. Я лежал, сжимая ее в объятиях. Вторая девушка лежала рядом, лицо ее было перепачкано кровью и пылью, и она кричала. Все вокруг кричали, обезумев от страха, потому что за первыми взрывами последовали новые. Только та, что понравилась мне, не кричала, она тихо лежала в моих объятиях и не дышала — совсем. Ее молчание и странное спокойствие заслонили от меня все, что творилось вокруг. Та, другая, — сестра или подруга — бросилась к нам, схватила ее и принялась трясти.
— Пепа! — кричала она ей. — Пепа!
Так вот, значит, как ее звали.
Двое мужчин подхватили ее тело и понесли куда-то, словно можно было еще что-то для нее сделать. И когда они забирали ее у меня из рук, я успел зачем-то сказать вполголоса:
— Пепа, меня зовут Хоакин…
Ужасно глупо, конечно.
Я остался сидеть на асфальте Пуэрта-дель-Соль. Огонь стих. Но рев, чудовищный рев, казалось, повис в воздухе, заставляя дрожать дома и сердца.
Какая-то женщина подоспела ко мне на помощь, она оказалась медсестрой. Она взяла мою правую руку, спросила, очень ли мне больно. Я взглянул: оказывается, у меня текла кровь, от тыльной стороны ладони до середины предплечья тянулась рана. Медсестра перебинтовала мне руку — по-моему, она была обеспокоена моим состоянием куда больше, чем я. Сильно болела грудь. Я расстегнул куртку. Металлический осколок, с намертво впившимся в него оплавленным камнем, угодил мне в грудь, но наткнулся на препятствие — музыкальную шкатулку. Язык света спас мне жизнь, но от шкатулки осталась лишь пригоршня щепок и крохотных зеркальных осколков, которые серебряной пылью высыпались на землю.
Как только медсестра отвлеклась, я улизнул от нее и отправился на поиски площади Аточа. Мне больше некуда было идти.
Я долго бродил по улицам, подавленный, растерянный, напуганный. Потом спросил дорогу у прохожего. И несколько часов спустя мы добрались до места одновременно — я и ночь.
Там, на площади, был дом Рамиро. Твой дом, Констанца.
Слабый свет свечи или фонаря теплился в окне третьего этажа, вопреки приказу о затемнении. Впрочем, с воздуха его наверняка нельзя было разглядеть.
Я подошел к входу. На ночь жильцы, скорее всего, закрывают наружную дверь, а это значит, что мне придется ждать завтрашнего дня; у меня был ключ от квартиры, где мне предстояло выполнить свое задание, но не от парадного. Положившись на судьбу, я толкнул дверь. Она оказалась незапертой…
Я поднялся по лестнице. Второй этаж: полная темнота. Третий этаж: тоже темнота, хотя я знал, что там, внутри, теплится свет — может, просто пламя свечи. Четвертый этаж: темно и тихо, закрытая дверь. Я сглотнул слюну: там, за этой дверью, мне придется выполнить главную часть своего задания. И, наконец, пятый этаж: мансарда. Интересно, сделал бы я тогда тот последний, решающий шаг, если бы знал, что в этой комнате мне придется доживать свой век?
Я снял с шеи ключ, который дал мне Кортес, и поднес его к замочной скважине. Еще один повод для тревоги: все-таки замок давно могли поменять. Но дверь поддалась. Я шагнул через порог, в холодную ноябрьскую тьму.
Передвигаясь на ощупь, я зашел в мансарду. Дверь за собой я закрывать не стал — на всякий случай, чтобы не отрезать себе путь к отступлению. Как и говорил Кортес, в мансарде была кое-какая мебель. Стол, кровать… Он сам обзавелся ими пару лет назад, когда по совету Рамиро («отличный вариант, и раздумывать нечего») купил эту мансарду.
Я перетащил кровать так, чтобы она оказалась прямо напротив входной двери. Иногда из окна в комнату, будто мне в утешение, пробивался слабый свет — луна выглядывала из-за туч или редкие машины проезжали, светя фарами. Порой в этой темноте и тишине мне начинало казаться, что Пепа здесь. Вскоре я уже не радовался отблескам света с улицы — от них становилось еще страшнее, потому что в игре теней я видел мертвую девушку. Она говорила со мной. Я так устала, говорила она, пусти меня к себе отдохнуть… Я вглядывался в дверь, убеждая себя, что мне это всего лишь кажется, но чем дольше смотрел, тем отчетливей ее видел; иногда иллюзия присутствия становилась просто невыносимой.
Вскоре я увидел другой свет, на этот раз близкий и довольно яркий. Кто-то шел сюда, и у этого кого-то в руках был фонарь или свеча. Я сглотнул слюну, и ко мне, почти уже оглохшему, вернулся слух. Я услышал шаги на лестнице, они приближались.
Свет хлынул на лестничную площадку. Человек шел осторожно, чуть пригнувшись. Он глубоко вздохнул, собираясь с силами. Рука его шевельнулась, пламя свечи озарило ее. Я увидел, что рука сжимает пистолет. Человек взвел курок.
Шаг, другой. Тень причудливо удлинилась и уже вовсе не походила на человеческую — на стене зловеще плясали пятна, отбрасываемые пламенем его свечи. А потом мой страх снова обрел конкретные очертания: человек уже почти добрался до площадки перед дверью мансарды, ему осталось одолеть последние ступеньки. Незнакомец шел прямо на меня; он пока еще не мог меня видеть, и в этом было мое единственное — и бессмысленное — преимущество.
Он сделал еще два шага.
— Эй, есть тут кто-нибудь? — негромко, но твердо произнес он. — Кто бы ты ни был, выходи с поднятыми руками.
Он вошел в мансарду, направив в мою сторону пистолет. Я встал и пошел к нему навстречу. Он поднял свечу, чтобы осветить комнату. Я успел увидеть его за какую-то долю секунды до того, как он увидел меня: это был Рамиро, убийца Хавьера.
И тут все пережитое за день разом навалилось на меня. Вдруг стало трудно дышать, кровь отхлынула от головы, и я рухнул на пол.
На другой стороне улицы открылась дверь «Авиеток Аточа».
Дечен вышел, озираясь по сторонам. Похоже, он явно не хотел, чтоб его заметили. Он нес сумку и к тому же успел переодеться: на нем был синий комбинезон — не то летчика, не то механика. Может, он здесь работает?
Он шел прямо сюда; мне стало не по себе. В кафе никого не было, кроме бармена и смуглого толстяка средних лет, который вошел сразу вслед за мной и сейчас пил свой кофе у барной стойки, у меня за спиной. Спрятаться было негде, а мысль укрыться в туалете показалась мне совсем уж дурацкой. В конце концов, с чего мне, собственно, прятаться? Я же ничего плохого не сделал, ну разве что книгу Дечена без спросу прочитал.
Дверь открылась, и вошел Дечен, серьезный и, по-моему, даже сердитый. Я встал и пошел к нему навстречу. По принципу: лучшая защита — это нападение.
— Добрый день, — сказал я ему.
Дечен посмотрел на меня. Сейчас это был совсем не тот человек, которого я недавно застал врасплох у двери его бывшей квартиры. Казалось, это два брата-близнеца — наружность одна, а характеры разные: тот, прежний, — робкий и пугливый, этот, нынешний, стоящий передо мной, — решительный и собранный. И глаза у него какие-то другие. Трагические, что ли. Однако эти двое носили одно и то же имя.
— Ну что ж, в проницательности вам не откажешь, — сказал я. — И когда же вы обнаружили слежку? В метро? В автобусе?
Он смотрел на меня с неподдельным удивлением.
— Простите, не понял?
Я немного растерялся.
— Ну да, признаюсь, я следил за вами. Ваша история зацепила меня, и…
— Прошу прощенья, я тороплюсь, у меня дела. Растолкуйте, о чем это вы?…
Я онемел. Так, значит, Дечен меня не узнал… И я выдал себя самым дурацким образом! Что ж, по крайней мере, мне теперь незачем притворяться, и то хорошо.
Я подошел к столу, взял зеленую книгу и с дружелюбной улыбкой показал ее Дечену. По его лицу я понял, что он сначала узнал книгу, а потом уже меня.
— А-а… Вспомнил, вы маляр, как же, как же… Я просто не признал вас без рабочей одежды. А книга моя как у вас оказалась?
— Так курьер-то все-таки пришел, — вдохновенно принялся врать я. — Сразу после вашего ухода. Я, понятно, бегом вниз — думал, догоню вас, отдам книгу… Ну и пошел следом за вами. Вы же так из-за этой книги переживали…
Дечен недоверчиво смерил меня взглядом. Что и говорить, в Мадриде не часто встретишь человека, который вот так, за здорово живешь, бросит свои дела и поедет неизвестно куда через весь город — и все для того, чтобы оказать услугу какому-то незнакомцу. Он молчал, ожидая продолжения. Я решил не ходить вокруг да около:
— В общем, в метро я ее прочитал. Не целиком, но…
— Вы ее прочли?
— Не до конца… Но раз уж я начал, хотелось бы дочитать. Если вы не против, конечно. Любопытство человеческое — это такая штука, ну вы понимаете…
— Потрясающе! — он обращался к самому себе, будто меня не было рядом. В волнении сделал несколько шагов туда-сюда, повторяя вполголоса: — Поразительно! Просто поразительно!.. Скажи, — он взглянул мне в глаза, — ты веришь в совпадения?
— Знаете, я как раз недавно об этом думал и…
— Так веришь или нет?
— Нет, не верю.
— Вот и я не верю. Представь себе: я как раз собирался вернуться в свою бывшую квартиру за книгой, потому что без нее мне никак не осуществить свой план. И тут, как по заказу, появляешься ты и отдаешь мне книгу… Понимаешь, насколько это поразительно? Теперь я могу действовать, не теряя ни минуты! И раз уж ты принес книгу, а в случайные совпадения я не верю, придется мне тебе довериться. Ты-то мне и нужен. Пойдем.
Он бодрым шагом подошел к толстяку у барной стойки и с воодушевлением пожал ему руку. Тот ответил на рукопожатие не особенно пылко, даже несколько растерянно — как сантехник, которому с жаром пожимает руку владелец поломанного крана.
— Ну что, камера у вас с собой?
Как видно, с толстяком Дечен предпочитал говорить на «вы». Интересно, а то, что он со мной на «ты», — это хороший или дурной знак? И вообще, не влипну ли я во что-нибудь, если пойду сейчас с Деченом? Но я все равно пошел.
— Отлично, — сказал он, когда мы втроем оказались у стойки. — Итак, все в сборе. Этот сеньор — мой друг… он, так сказать, мастер кисти, — кивнул он толстяку на меня. — А это наш оператор.
— Хакобо, — отрекомендовался толстяк, шутливо отдав честь.
— Так вот, — продолжал Дечен, — Хакобо снимет все на видео, а ты потом отдашь пленку одному человеку.
Он извлек из своей сумки большой конверт с пупырышками, а из него вытащил другой, поменьше. Похоже, в нем было письмо.
— Положишь видеокассету в конверт, вместе с письмом, и передашь одному человеку… имя там написано. Завтра передашь, седьмого ноября. Послезавтра будет поздно. Не позднее чем завтра, понятно?
Я не успел прочесть имя, написанное на конверте, — Дечен поспешно сунул его в сумку.
— А с какой стати я должен это делать? — спросил я его, причем без задней мысли; может, он и вправду разъяснит мне, зачем я вмешиваюсь в чужие дела…
— Ну ты же хочешь дочитать книгу? А когда ты ее дочитаешь, уверяю, тебе захочется узнать, чем заканчивается эта история. Ты же сам знаешь, любопытство человеческое — это такая штука… — передразнил он меня.
Что ж, неплохое объяснение. И, главное, в точку. Я согласно кивнул.
Мы вышли втроем из кафе и подошли к маленькому белому фургону, припаркованному у входа. На нем от руки, довольно коряво, было выведено: «Видеоуслуги. Съемка, запись, монтаж». Хакобо уселся за руль, Дечен рядом с ним, а я позади, рядом с камерой, посреди немыслимого нагромождения проводов, коробок с пленкой, аккумуляторов и штативов.
Мы проехали пару километров по аэродрому и очутились возле ангара. Дечен вышел из фургона и попросил меня выйти вместе с ним.
— Вот здесь мы с тобой и простимся, — сказал он и протянул мне руку. — Я знаю, ты меня не подведешь. После того, что ты сейчас увидишь, тебе не так-то просто будет забыть обо мне и моей истории…
Я пожал протянутую руку. Он пристально взглянул на меня. Я попытался разглядеть в стоявшем передо мной человеке того простодушного мальчика, который много лет тому назад из приюта попал прямиком на войну, но у меня ничего не вышло. Неожиданно Дечен обнял меня. Из вежливости я ответил на его объятие, хотя меня немного удивило, чего вдруг он так расчувствовался. Но, похоже, это был искренний порыв. Надо же, всего-навсего согласился передать кому-то видеокассету — и такое бурное изъявление благодарности.
Дечен вытащил из сумки старый летный шлем (наверно, о таком он писал в своей книге, что дал зарок не носить его, пока не станет самым что ни на есть настоящим пилотом) и надел его. Потом отдал мне сумку и вошел в ангар.
Я уселся рядом с Хакобо. Мы ждали. Меня так и подмывало заглянуть в сумку, но я решил сначала узнать, что собирается сделать Дечен.
— Так ты у нас мастер кисти, вот оно как… — попытался завязать разговор Хакобо, без колебаний перейдя на «ты».
— Угу, вроде того, — неопределенно промычал я.
— Пейзажи небось рисуешь?
— Да нет, я по другой части. Скажем так, дизайн интерьеров.
— У моей жены кузен — тот больше по пейзажам. Фонтаны там, олени и все такое. Нарисует, значит, а потом продает. Ох и муторное же это дело, доложу я тебе. Там у них, у художников этих, такие нравы, вмиг на части порвут, что твои акулы. Сам понимаешь, законы рынка. Хотя, с другой стороны, оно повсюду так… Вот взять хотя бы меня. Ну посуди, где мне с одной камерой да пикапом тягаться со всеми этими телевизионщиками. А куда денешься? Так и кручусь — то одно подвернется, то другое. Слышь, а ты в какой технике работаешь?
— Я?… Ну это… соскабливание.
— Ишь ты! Впервые слышу.
— Да это такая техника редкая… о ней вообще почти никто не слышал.
— Слушай, а на биеннале ты ездишь? Я слышал, на этих самых биеннале такие суточные платят, о-го-го! А вот у нашего брата и этого нет. У меня ж, как говорится, все включено: тут тебе и транспорт, и камера, и бензин, и оператор…
— Гляди, вот он!
Самолетик выкатился из ангара. Дечен сидел за штурвалом, глядя перед собой. Заметив нас, он жестом показал Хакобо, чтобы тот приготовился к съемке. Потом взглянул на меня. Показал мне большой палец: все о’кей! Я улыбнулся и повторил его жест.
Дечен подрулил к началу взлетной полосы. Хакобо, в свою очередь, подогнал фургон к возвышению неподалеку, откуда полоса эта была хорошо видна.
— Вот отсюда и будем снимать. Он это место сам выбрал.
Толстяк припарковал фургон и принялся устанавливать все эти свои штуковины. Я тем временем заглянул в сумку. Там ничего не было, кроме конверта с пупырышками и маленькой квадратной коробочки, неумело упакованной в подарочную бумагу. На конверте было написано «Констанца Сото» и какой-то мадридский адрес. Я ожидал увидеть это имя, но меня удивила фамилия — та же, что у женщины, с которой Дечен познакомился во время войны. Две Констанцы Сото? А почему бы и нет? В самом начале книги Дечен вроде говорит, что их было три. Если вспомнить возраст той женщины из книги, это никак не может быть она. Хотя разве мы не читаем ежедневно про людей, которым перевалило за сто? Я взвесил в руке пакетик с подарком. Потом не удержался и попытался развернуть его. Нет, невозможно, пакет заклеен так, что, не повредив упаковку, его не откроешь. Можно, правда, открыть пакет, посмотреть, что там, а потом упаковать подарок в новый… Но я остановился: все-таки не стоит так бесцеремонно лезть в личную жизнь старика.
Я вышел из машины, чтобы понаблюдать за полетом: авиетка Дечена вот-вот должна была появиться. Хакобо готовился к съемке, прижавшись правым глазом к видоискателю. Но молчать он все равно не мог:
— У него там запланирована одна фигура высшего пилотажа, ее-то я и должен заснять. А потом он приземлится. Хорошо было бы управиться поскорее, минуточек этак за пятнадцать… У меня сразу вслед за этой съемкой другая, прямо впритык, — крестины снимать надо. И если я туда поспею, сто десять евро выйдет чистыми. Это включая две копии на DVD. Потому что теперь ведь как — если не делаешь копий на DVD, с тобой и разговаривать не станут…
Мне удалось отвлечься от его болтовни. Значит, одна фигура высшего пилотажа… Наверняка это волчок. Дечен столько раз упоминает его в своей книге… Ну выполнит он этот свой волчок, и это запечатлеют на видео. А потом что? Хакобо, наверное, в курсе, но мне не хотелось расспрашивать его, чтобы не вызвать нового словоизвержения.
— Извини, — сказал я ему, — мне нужно это дочитать до того, как он приземлится. — И отошел в сторону.
Я не врал ему, мне действительно нужно было дочитать. Мне хотелось узнать, чем там кончилось дело, до того как Дечен приземлится и отберет у меня книгу.
Я спал, я бредил.
Длинные-длинные белые женские пальцы касались моей истерзанной кожи, будто клавиш пианино, извлекая музыку из каждой ссадины, и эти аккорды заглушали рев невидимых самолетов, чьи лопасти неустанно вращались у меня в голове.
Язык оранжевого пламени, который убил Пепу на Пуэрта-дель-Соль, обернулся ползучей огненной гадиной с беспощадным немигающим взглядом. Чудище гналось за мной по городу. Извиваясь, оно ползло по мадридским улицам, роняя из своего чрева черные яйца, которые катились по мостовой и превращались в маленькие рождественские елочки; елки росли на глазах, на их ветвях зрели огненные апельсины; плоды отрывались от веток, взмывали ввысь и взрывались там, окрашивая небо в немыслимые цвета — коричневый, желтый и темно-зеленый.
Я пытался убежать от змеи. И тогда вокруг меня внезапно сгущалась тьма, и из тьмы возникал Рамиро. Он целился в меня из пистолета и не давал мне убежать. Может, он хотел отдать меня чудовищу? Но звуки невидимого пианино вставали вокруг меня стеной, защищали меня. Я проваливался в беспамятство, и Рамиро нес меня куда-то на руках по длинному черному коридору. Из-под полуприкрытых век я видел, как на темной стене, приплясывая, кривлялись тени — наши тени, искаженные пламенем свечи.
— Если они поселят тебя в своем доме, — звучал у меня в ушах голос Кортеса, отзвук реальности в этом мире теней, — считай, главное сделано. Но для тебя, Хоакин, самое трудное и опасное начнется потом. Это и будет твое задание.
Потом? И что же будет потом? Человек предполагает, а случай, которому мы даем столько ошибочных имен, располагает.
Внезапно в этот мир теней ворвалась ты — вернее, твой голос. Ты сказала:
— Нет, температуры у него нет…
Почему эти слова запечатлелись у меня в памяти? Если бы я знал тогда, что это ты говоришь, все было бы понятно. Но тогда я еще не знал тебя, просто услышал чей-то незнакомый голос. И тем не менее твои слова накрепко засели в моей одурманенной голове.
— Нет, температуры у него нет…
Твой голос, мягкий, мелодичный, чувственный, волшебный… единственный на свете. Столько красивых слов, а передать, что я тогда ощутил, все равно не удается. Он околдовал меня, твой голос, просто околдовал… Много лет спустя я понял, в чем тут дело: твой голос был первым женским голосом, который я услышал в своей жизни (монахини не в счет). Первое, что слышит ребенок, появившись на свет, — это нежные слова матери. Ласковые непонятные слова обволакивают младенца, убаюкивают его, охраняют, он плывет в них, защищенный на время от мира, который уже подстерегает его там, снаружи. Но я-то никогда не ощущал ничего подобного до того самого дня, когда впервые, еще в забытье, услышал твой голос.
Мой первый женский голос (точно так же как смех Пепы стал первым женским смехом в моей жизни, — а потом бомба упала на Пуэрта-дель-Соль, и все кончилось). Первый женский голос, первые руки, которые прикасались ко мне заботливо, с нежностью. Потом я узнал, что это твои руки раздели меня, уложили меня в постель, укрыли меня одеялом, подложили под голову подушку. А теперь твои пальцы — белые, длинные, нежные — коснулись моего лба.
— Нет, температуры у него нет…
Я не знал, что мне делать — открыть глаза, чтобы увидеть твое лицо, или подождать, продлить это прикосновение твоей руки. Решил все-таки потянуть немножко. Но когда я наконец открыл глаза, тебя уже не было рядом.
Я был один в комнате, лежал в кровати у единственного окна. Оно было закрыто, но сквозь стекла в комнату проникал солнечный свет. На другой стороне внутреннего дворика виднелась крыша с башенкой. Наверно, это и есть та самая мансарда, где меня застал Рамиро. Значит, план Кортеса все-таки сработал? Мне удалось проникнуть в стан врага?
— Констанца — необыкновенная женщина, — сказал мне капитан однажды утром, когда мы с безрассудной дерзостью облетели Мадрид и покружили над площадью Аточа, чтобы я увидел с воздуха дом, в котором жили вы с Рамиро. — У нее страсть помогать людям, это сильнее ее, она просто не может удержаться. Стоит ей увидеть, что кому-то плохо, и она тут же спешит на помощь. Поэтому я знаю, что она возьмет тебя в дом. Если, конечно, ты хорошо сыграешь роль бедного сиротки.
Положим, сыграть такое мне не составит особого труда, подумал я тогда. Да мне, собственно, и играть-то незачем. Сирота — он сирота и есть.
— Мансарда эта — моя, — продолжал Кортес. — Я купил ее до войны. Рамиро сам позвонил мне однажды и сказал, что прямо над ними недорого продается жилье, отличный вариант, и раздумывать нечего, через несколько лет этой квартире цены не будет. Вот такие в жизни случаются совпадения. Если ключ подойдет и ты сумеешь попасть вовнутрь, если тебе удастся устроить все так, чтобы они застали тебя там как бы случайно, и Констанца поверит, что твоих родителей расстреляли, а ты сбежал от войны в Мадрид, — она непременно позволит тебе остаться у них, вот увидишь.
Что ж, я увидел. Собственно говоря, я уже внедрился в стан врага. (Я вспомнил, каким странным и неуютным показалось мне тогда это слово — «внедриться»…)
— Ну что, парень, жив? Гляди-ка, глаза открыл…
Где-то внутри у меня заверещал сигнал тревоги, я похолодел. Голос Рамиро? Он знает, что я не сплю, наверняка видел, как я смотрел в окно на башенку мансарды. Мне больше нельзя было притворяться спящим. Я медленно-медленно открыл глаза, делая вид, что еще не до конца пришел в себя.
Рамиро стоял на пороге комнаты, глядя на меня каким-то непонятным оценивающим взглядом, и медленно жевал. В руке он держал ломоть хлеба и кусок сыра и поочередно откусывал от того и от другого — нехотя, будто по обязанности. На нем была кожаная куртка, на поясе висел пистолет, под мышкой он зажал фуражку. Он куда-то собирался и, видимо, решил перекусить перед уходом.
— Ну что, расскажешь, откуда ты такой взялся?
— Это Мадрид? — пробормотал я. Мне нужно было выиграть время. Я сам не знал зачем, но предполагал, что так будет лучше. — Я в больнице?
— Ты у меня дома. Да, это Мадрид. Ты помнишь, что с тобой произошло?
— Я спрятался. Мне негде было переночевать.
— Кто ты? Откуда?
— Меня зовут Хоакин. Я с ополченцами пришел, по валенсийской дороге, — добавил я. Ответ расплывчатый, понять можно как угодно.
— Так ты что, из Валенсии? — удивился Рамиро.
Конечно, это выглядело странно — бежать из мирного города (ну, по крайней мере, пока мирного) в осажденную столицу, с минуты на минуту ожидающую последнего штурма.
В дверь несколько раз позвонили; глаза Рамиро заблестели, и сам он переменился. Молча надел фуражку и вышел, дожевывая на ходу свой хлеб с сыром. В дверь продолжали трезвонить.
Я подошел к окну. Под окнами стояла черная машина. Ополченец в кожаной куртке и в кепи с ушами — наверно, шофер — прохаживался вокруг машины, разминаясь. Я высунулся еще немного, чтобы видеть дверь и крыльцо. Вскоре из дома вышли двое — Рамиро и еще один человек, высокий, в черном кожаном пальто. Высокий что-то сбивчиво объяснял Рамиро. Все трое сели в машину, она рванула с места и исчезла из виду.
Я осмотрелся. Правая рука у меня была забинтована. Больно не было, хоть я и вздрогнул, вспомнив жгучую боль от осколка, разрывающего руку. На тумбочке у кровати лежало все мое добро: часы, вырезка с фотографией «Плюс Ультра» и еще ключ на шнурке. Рамиро, наверное, подумал, что это ключ от моего дома (где он теперь, мой дом…), а в мансарду я залез, потому что она была открыта. Но вот если он догадался проверить, пока я лежал здесь без сознания, не подходит ли ключ к замку от мансарды, — тогда мне конец. Для моего романтически-искривленного воображения это означало одно — смерть: меня немедленно расстреляют враги. Значит, надо выяснить это обстоятельство как можно скорее. И случай не замедлил представиться.
Но перед этим кое-что произошло. Я увидел тебя.
Как только стало ясно, что Рамиро не скоро вернется (наверняка у него были какие-то важные обязанности, связанные с обороной Мадрида), я отважился вылезти из кровати.
Смеркалось. Я обошел дом, нарочно двигаясь медленно, неуверенно: если меня кто-то увидит, пусть думают, что я еще не до конца пришел в себя.
И тут я увидел тебя. Ты стояла посреди кухни и чистила луковицу.
Констанца? — спросил я себя. Невысокая женщина в просторном черном платье, довольно толстая, как мне показалось. Да, наверно, это ты и есть. Та самая Констанца, единственная и неповторимая, о которой Кортес говорил с таким восхищением. «Мы крепко дружили до войны, все трое. Констанца, Рамиро и я…»
Ты казалась почти неподвижной. Двигался только нож; он так и мелькал в твоей руке — левой руке, заметил я. Теперь ты ловкими, уверенными движениями резала луковицу на мелкие кусочки. Я откашлялся. Ты обернулась с такой быстротой, что я даже не успел приготовиться.
— Привет! — воскликнула ты с неожиданной радостью, и лицо твое осветилось радушием и заботой. — Уже встал, да? Рамиро сказал мне перед уходом, что ты очнулся.
Ты обошла стол и встала так, чтобы видеть мое лицо. Передвигалась ты с трудом; теперь я разглядел огромный выпиравший живот (понятно, почему ты показалась мне толстой). Потом вновь принялась за луковицу.
— Я уже на девятом месяце, — пояснила ты, поймав мой взгляд. Тень страха мелькнула на твоем лице; твоему ребенку суждено было родиться посреди битвы за Мадрид. А потом? Что будет с ним, что будет с вами со всеми?
Видимо, мне пора было представиться.
— Меня зовут Хоакин, — не подумав, я протянул тебе забинтованную руку. Ты машинально вытерла о юбку свою левую и сжала мою ладонь. Я вскрикнул от боли.
— Ох, прости! — воскликнула ты. — Какая же я неловкая…
— Ничего, я сам виноват, — сказал я и протянул тебе левую руку. Ты сжала ее правой.
— Я левша, — произнесла ты, будто извиняясь.
Это было мое первое прикосновение к тебе.
— Больно? — она кивнула на мою забинтованную руку.
— Да нет, ерунда… Я вас поблагодарить хотел…
Ты отмахнулась от меня — мол, не за что.
— Рана у тебя неглубокая. Зато одежда была вся в крови.
— Это одной девушки кровь, ее Пепой звали. Она погибла возле Пуэрта-дель-Соль, в тот день, когда я у вас оказался…
— Твоя подруга?
Получается, кровь Пепы сослужила мне службу; теперь моя история казалась еще более достоверной. Окровавленная одежда недвусмысленно показывала, что мне пришлось хлебнуть горя. Я сокрушенно кивнул головой, будто не желая вспоминать об этом. Ты крепко сжала мою здоровую руку, заглянула мне в глаза.
— Человек только и делает, что изобретает новые способы убивать, это ужасно. Рамиро говорит, дальше будет еще хуже; сейчас нам кажется, что происходящее — за пределами возможного, но это только начало.
Я не вполне понял, о чем ты. Но решил, что это подходящий момент разузнать, знаете ли вы с Рамиро о моем ключе.
— Потом, после Пуэрта-дель-Соль, я заблудился. Было темно и холодно, а у вас как раз дверь была открыта, ну я и зашел. Поднялся по лестнице, вижу, дверь мансарды не заперта…
Я следил за тобой, затаив дыхание. Ты как ни в чем не бывало снова принялась резать лук.
— Это у нас там беженцы на прошлой неделе ночевали, наши знакомые. Наверно, забыли закрыть… Кстати, о беженцах. У тебя есть какой-нибудь документ, справка какая-нибудь? Ну что ты в какой-то партии состоишь или в каком-то профсоюзе?
Я помотал головой.
— Без документов опасно ходить, даже такому мальчику, как ты. Ничего, Рамиро тебе достанет справку.
Я кивнул, не веря своим ушам. Мне не только повезло с ключом, вы еще и пропуск мне собирались выправить, чтобы я мог ходить по городу. Но первым делом нужно было завоевать твое доверие.
— Ты был на фронте? — спросила ты.
— Нет, — ответил я, и мне стало немного стыдно: почем мне знать, может, ты презираешь тех, кто отсиживается в тылу?
— Тем лучше для тебя. Кто ты, откуда?
— Меня зовут Хоакин Дечен. Я из…
Вот теперь я должен соврать. Кортес знал, что вы с Рамиро никогда не бывали в Эстремадуре, поэтому мне было велено сказать, что я пришел из Бадахоса; во-первых, проверить никак нельзя, во-вторых, вы бы сразу прониклись ко мне симпатией — в битве за столицу Эстремадуры полегло много республиканцев. Самая надежная, самая правдоподобная легенда. Но я почему-то не смог тебе соврать. Ну не получилось, и все тут.
— Я из Авилы, из тамошнего приюта.
— Авила? Я там часто бывала. И почему же ты ушел оттуда?
— У нас в приюте устроили казарму, — принялся на ходу сочинять я; Кортес предупреждал меня, что упоминать об Авиле крайне неразумно, так как они с Рамиро провели там довольно много времени, когда обучались летному делу, а с ними и Констанца. — Я сбежал вместе с другими ребятами, а потом мы разошлись кто куда. Я вот набрел на колонну ополченцев. Они шли на Мадрид с востока… или с юга, не знаю толком. Ну я к ним и пристал.
— Да-да, Рамиро мне говорил. Он еще подумал, может, это были первые интербригадовцы, из Альбасете. Говорят, они вот-вот будут здесь. Это антифашисты со всего мира.
— Нет, эти точно были испанцы, — заверил я, повторяя про себя услышанное («интербригадовцы», «из Альбасете»).
Ты была такой доверчивой, такой неосторожной. Помнится, я споткнулся о слово «антифашисты», но сейчас было не время расспрашивать, что оно означает.
— И идти мне некуда, — добавил я, решив бить на жалость.
Мне тут же стало мучительно стыдно за свою уловку — я сам не понимал почему. И досадно оттого, что не понимал.
Ты разожгла огонь, поставила кастрюлю с водой. Двигалась ты тихонько, будто на цыпочках, и лицо у тебя все время было такое приветливое, словно ты старалась не обидеть каких-то невидимых существ, населяющих комнату.
— Да уж, война затянулась. Она все пожирает, ничего людям не оставляет. Не поможешь мне порезать картошку?
На разделочном столе лежало пять картофелин. Я взял одну и, осторожно орудуя забинтованной рукой, разрезал ножом на две части.
— Пополам разрезать?
— Лучше на четыре части. Так они быстрее сварятся.
— Вот только почистить у меня не получится, из-за руки…
— И не надо. Дон Мануэль говорит, что в кожуре тоже много питательных веществ.
— А кто это — дон Мануэль?
— Сосед с третьего этажа. Он придет на ужин. Когда Рамиро нет дома, дон Мануэль всегда поднимается к нам. Мне с ним не так одиноко.
Я вспомнил, что вчера вечером видел свет фонаря в окне третьего этажа; этот фонарь мог бы мне пригодиться. Так-так… фонарь, информация про интербригады… судьба явно мне улыбалась.
— А он тоже военный?
— Кто, дон Мануэль? Нет, конечно, упаси Господи! Только этого нам не хватало… Это очень тихий сеньор, мы с ним всю жизнь здесь по соседству прожили. Целыми днями разглядывает марки, увлечение у него такое. Вот увидишь, он и на тебя сейчас накинется со своими марками, так что будь готов.
И тут кто-то позвонил в дверь. После того трезвона, который устроили ополченцы, мне показалось, что поменяли звонок, — настолько вежливо и деликатно прозвучал он на этот раз.
— А вот и он. Уж такой он человек, дон Мануэль: война, не война — он все равно никогда и никуда не опаздывает. Воплощенная пунктуальность. Откроешь?
Я поспешил к двери.
Дон Мануэль, любитель разглядывать марки по ночам, при свете фонаря, оказался невысоким плотным старичком в очках в железной оправе с поломанными дужками; на почти лысой голове произрастала лишь беспорядочная кучка седых волос. Зато одет он был с безукоризненной аккуратностью — костюм, бабочка на шее. Старик хмурил брови, будто я успел его чем-то рассердить.
— Нет, ты не думай, я вовсе не сержусь, — заявил он мне с порога. — Хотя, видит Бог, у меня для этого причин более чем достаточно. Война, мой мальчик, застала меня врасплох; я даже новые очки себе заказать не успел. А в этих, старых, я уже несколько недель почти ничего не вижу…
— Не верь ему, Хоакин, — ты вышла в коридор навстречу гостю. — Какие там недели! Дон Мануэль уже больше года говорит про эти очки!
Я улыбнулся. Каждое твое слово, каждое появление наполняли меня радостью.
— Не слушай ее, — шепнул мне дон Мануэль по дороге в гостиную, — женщинам свойственно все путать, а если речь идет речь о времени, и подавно. Хотя, если разобраться, это скорее достоинство. Изменять ход времени — это ведь прекрасно, не такли?…
За ужином я видел, как тепло и уважительно вы с доном Мануэлем обращались друг к другу. Всего за несколько часов в твоем доме я очень многое узнал о нормальной жизни — о той самой, которую мы с ребятами в приюте безуспешно пытались себе представить. Интересно, как это — когда у тебя есть родители, и братья, и дедушка с бабушкой? Ужинать с ними дома, за большим столом… Вареная картошка на тарелке, а вокруг — люди, для которых ты родной — по крови и по душевной привязанности, и ты знаешь: что бы ни случилось, они у тебя есть, и ты у них тоже… Дон Мануэль, к примеру, мог бы быть моим добрым ворчливым дедушкой. А ты? В матери ты мне не годишься — слишком молода. И женой бы тоже стать не могла — все-таки ты намного меня старше. А сестрой… сестры не бывают такими загадочными, такими волнующими. Так кем же ты мне приходишься в этой моей воображаемой семье, кем можешь стать для меня?
— А скажи-ка, тебя интересует филателия? — перешел в атаку дон Мануэль, и ты от души рассмеялась.
Вот так бы и слушать весь вечер, как ты смеешься. Но долг превыше всего, на то он и долг.
— Не знаю, — ответил я, напряженно думая о том, как бы мне все-таки раздобыть фонарь. — А что это такое — филателия?
— Как ты сказал? «Что это такое»? — дон Мануэль заморгал с театральным ужасом. — Нет, ну ты слышала его, Констанца?!
Он встал и потянул меня к двери. Ты посмотрела на меня, пожала плечами и снова улыбнулась. Эту улыбку я унес с собой, спускаясь по лестнице.
Мы, старики, знаем целую кучу разных вещей. Почему же никто нас ни о чем не спрашивает? Может, это просто закон жизни. Разве тот мальчик, которым я был в ноябре тридцать шестого года, обратил бы внимание на старика, которым я стал теперь, почти семьдесят лет спустя, в ноябре две тысячи четвертого? И это притом что оба мы — один и тот же человек. Понятно, что меня куда больше интересовало воспоминание о твоей улыбке, чем слова дона Мануэля.
— Вот, смотри! История нашего века! — произнес он и мелодраматическим жестом уронил на стол в гостиной здоровенную книгу в кожаном переплете. Поднялась целая туча пыли, мы оба закашлялись. — Проклятые бомбежки! — жалобно пробормотал он, безуспешно пытаясь прочистить горло. — Дома из-за них трясутся, так и крошатся на глазах. Мало этим негодяям, что люди гибнут, еще и пыль из-за них повсюду.
Вот уже от второго человека я слышал о бомбежках. От Кортеса я знал, что красные пропагандисты сочиняют всякую ложь, но ни ты, ни дон Мануэль не походили на агитаторов, озадаченно думал я, пока пыль медленно оседала на пол, на мебель, на нас с доном Мануэлем.
На столе рядом с большой книгой лежал фонарь — из-за него я и согласился спуститься с доном Мануэлем, притворившись, что меня заинтересовали, как он выразился, «захватывающие истории о приключениях», которые могут поведать почтовые марки.
— Это наша история. История этого века, который будет ужасен. Да он уже сейчас ужасен, что тут говорить.
Он открыл книгу. Страницы были оклеены длинными прозрачными полосками, под которыми располагались марки. Дон Мануэль доставал их оттуда, умело орудуя специальным пинцетом.
— Вот на эту посмотри, — он извлек из кляссера бледно-лиловый потрепанный прямоугольничек; на нем был изображен человек в мундире, с огромными белыми бакенбардами. — Знаешь, когда ее выпустили? Двадцать восьмого июня четырнадцатого года! В тот самый день, когда сербский террорист выстрелил в эрцгерцога в Сараево, после чего началась великая война. Я полагаю, ты слышал о ней.
— Конечно. И о Красном Бароне [6] тоже, — сказал я, припомнив прозвище легендарного летчика, о котором рассказывал Кортес.
— Красный Барон!.. Тот еще субъект, — проворчал дон Мануэль, вынимая из кляссера очередную марку, на этот раз испанскую, с изображением короля, того самого, что потом отрекся от трона. — А слышал ли ты о низложении Альфонса Тринадцатого? А о Республике?
— Да, слышал, — ответил я. Мне уже стало немного скучно. — А вы, вы ведь столько всего знаете… вы слышали о «Плюс Ультра»?
— Ну конечно! Кстати, у Франко и Руиса де Альда и марочка своя имеется. Да уж, это был настоящий подвиг. Подвиг века! Я один раз их видел собственными глазами. Обоих.
— Летчиков? Тех самых? — спросил я, задыхаясь от волнения.
— А как же, и Франко, собственной персоной, и самого Руиса де Альда, и еще помощника Франко… как же его звали?
— Пабло! Пабло Рада! — выпалил я. — Так вы их правда видели? И говорили с ними?
— Говорить не говорил, просто слушал. Это была лекция в Атенеуме. Они рассказывали о своих приключениях на борту «Плюс Ультра». Замечательная эпопея! И подумать только, что тот героический Франко и этот мясник — родные братья!
«Этот мясник»… Он говорил о генералиссимусе. В те дни собственных мыслей в голове у меня не было — мне хватало мыслей капитана Кортеса, а тот обожал каудильо. И я вслед за ним, хоть и сам не знал, за что. Просто так. Сколько вещей мы делаем «просто так»… Поэтому я смотрел теперь на дона Мануэля с враждебностью и недоверием.
— Рамон — исследователь, первооткрыватель, — объяснил тот, увидев мое растерянное лицо. — Может, он и чудак и немножко не от мира сего, но его главная страсть — изучать мир, узнавать новое! А вот тот, другой, — предатель, отступник, главарь марокканских наемников. И немецких, потому что самолеты, которые нас сейчас убивают, ему подарил Гитлер. Смотри, смотри… — он яростно перелистывал страницы альбома. — Здесь ты найдешь убийства, войны, покушения на монархов, но того, что творится в эти дни в Мадриде, не отыскать ни на одной марке. Такое происходит впервые в истории человечества. Та девочка, твоя подруга, — Констанца рассказала мне, что она погибла возле Пуэрта-дель-Соль…
— Пепа, — тихо проговорил я. И вздрогнул, вспомнив о том, как ее жизнь погасла у меня на руках.
— Да, Пепа, — повторил он. — Так вот, Пепа, дорогой мой Хоакин, уже вошла в историю — хоть и не по своей воле, конечно, — в печальную историю человеческой низости. Новая глава: бомбежки городов, гражданских объектов. Чем была война раньше? Две армии сходились на поле боя. Никогда раньше военачальники не отдавали приказа сровнять с землей город, находящийся далеко в тылу противника; не потому что они отличались милосердием, просто у них возможности такой не было. Но сейчас такая возможность появилась. Немецкий летчик прилетел из самого своего дома, из Берлина или Нюрнберга, чтобы сбросить бомбу на Мадрид. И убил эту твою Пепу, которая смеялась на Пуэрта-дель-Соль. Вот до чего он додумался, этот самый брат летчика с «Плюс Ультра». Он бомбит Мадрид, бомбит людей. Убил Пепу, а теперь готов убить тебя, меня, Констанцу.
Я молчал. Кортес ведь тоже мне говорил, что республиканская авиация начала бомбить гражданские объекты. Кто же из них лжет? Он или дон Мануэль? Я не мог спросить об этом напрямую, не рискуя выдать себя. Но, к моему удивлению, старик сам заговорил об этом.
— И других таких девушек, как Пепа и Констанца, — тех, что живут по ту сторону линии фронта, — тоже убивают. Потому что стоит только сбиться с пути, и готово: черное становится белым, прямые дороги ведут куда-то в сторону. Вот в наших газетах с гордостью пишут о победных вылазках авиации в тыл врага. Словно тут есть чем гордиться. Я-то за словами «военный объект» всегда вижу города — настоящие города, населенные живыми людьми. Но там действительно идет речь о точечных операциях. А в Мадриде все по-другому. Здесь бомбят днем и ночью, безжалостно. Чтобы запугать людей, чтобы все мы знали, что можем умереть в любой момент: на Пуэрта-дель-Соль, как та беззаботная девочка, или вот здесь, у себя дома, рассматривая вместе с другом марки… Стоит только сделать неверный шаг, Хоакин, — и ты увидишь, какие кренделя начинает выписывать дорога, которая раньше была прямой. Бедный Мадрид! По улицам бродят вооруженные негодяи, способные отправить на тот свет любого, кто им чем-то не приглянулся. А республиканское правительство бессильно, оно уже ничем не управляет. Или того хуже: приказы отдаются, но их никто не исполняет. И эти так называемые революционеры — они ведь знать не знают, что на самом деле означает слово «революция», которым они прикрываются, это великое и сложное понятие; для них революционер — это тот, кто стреляет человеку в затылок. Как будто революция — это право убивать направо и налево! А сверху на нас охотятся другие злодеи — у них свои трескучие лозунги, они одеты в другую форму. Первая столица в истории человечества, которую расстреливают с воздуха. Печальная честь для нашего Мадрида… В любой войне, Хоакин, если разобраться, есть только две стороны — люди и убийцы. Убийцы против людей. Вот послушай, шесть лет тому назад… тебе сколько лет?
— Пятнадцать.
— Когда случилось то, о чем я сейчас расскажу, тебе было девять. Это история твоего героя, летчика Рамона Франко.
Нас прервал ужасный вой в небе над городом. Я впервые такое слышал и от неожиданности чуть не свалился со стула. Дон Мануэль положил мне руку на плечо.
— Воздушная тревога. Сюда летят самолеты. Надо спускаться, — сказал он, вставая.
Так, мой выход. Сейчас или никогда.
— А можно я возьму с собой марки? Чтобы потом посмотреть дома…
Дон Мануэль улыбнулся, радуясь тому, что ему удалось меня заинтересовать. Он отдал мне альбом. И фонарь тоже. Знал бы он, что только ради фонаря я это все и затеял… Мы направились к двери.
Он принялся рассказывать мне про Рамона Франко. Я слушал с напряженным интересом, даже бомбежка меня не отвлекала.
— В тысяча девятьсот тридцатом году, в декабре, группа заговорщиков решила свергнуть короля. Среди них был и Рамон Франко — он ведь всегда был республиканцем, Рамон. Он сел в свой самолет, груженный бомбами, и полетел прямо к королевскому дворцу. План его был прост: сбросить бомбы прямо на дворец, нанести удар по сердцу монархии. И вот они с напарником подлетают и видят цель. Они уже готовы сбросить бомбы, и тут Рамон видит во дворе королевского дворца нечто такое, что просто парализует его. Короче, он замешкался, самолет пролетел мимо, потом, пролетев несколько сотен метров, снова развернулся…
Прозвучали первые взрывы. Далеко? Близко? Определить по звуку было невозможно, и от этого стало особенно страшно. Дон Мануэль заговорил громче и быстрее.
— Но оба они — и пилот, и его напарник — уже знали: то, что они там увидели, не даст им сбросить бомбы на дворец. И они вернулись на базу — вернулись, не выполнив задания. И несколько часов спустя заговор провалился. А знаешь, почему они не стали бомбить дворец? Потому что на лужайке возле королевского дворца играли дети. Те летчики были герои — герои «Плюс Ультра»! — и настоящие мужчины, и у них была совесть, и эта совесть не позволила им добиваться своей цели ценой убийства детей. Понимаешь? Шесть лет тому назад это было, всего шесть! А теперь о таких вещах даже не задумываются. Как же, ведь Мадрид должен пасть. Любой ценой. Франко и его убийцы выдумали новую форму ужаса: бомбить города. Усердно, рьяно, без передышки.
Мы выбрались на улицу. Бомбоубежище размещалось в полуподвале, в бывшей галантерейной лавке. Там уже было не протолкнуться. Все эти люди спустились сюда из соседних домов — мужчины в пижамах, женщины, с вымученной, дрожащей улыбкой («не бойся, не бойся, маленький, все хорошо…») прижимающие к себе перепуганных детей, старики, испуганные или рассерженные… Я поискал тебя взглядом в толпе. Тебя нигде не было.
— Когда ты станешь стариком, Хоакин, вспомни мои слова, — сказал дон Мануэль, глядя мне прямо в глаза. — Наступит время, когда человек придумает новые самолеты — еще быстрее и мощнее этих. Эти самолеты станут бомбить города, убивать людей — вот таких вот, как твоя Пепа, повсюду, и счет пойдет на миллионы — миллионы таких вот убитых девушек всех цветов кожи, таких людей, как мы с тобой. Сейчас, чтобы оправдаться, они называют нас преступниками. Но мы не преступники — мы люди. А вот те, наверху, — убийцы и всегда ими останутся. Они и те, кто отдает им приказы. И так будет всегда — и в этой войне, и в тех грядущих войнах. Рано или поздно каждому приходится выбирать, на чьей он стороне — убийц или людей.
И тут появилась ты. Бомба разорвалась совсем рядом, все вокруг задрожало. Я увидел тебя в облаке пыли, увидел, как волна потревоженного воздуха коснулась твоего платья, твоих волос, и понял, что смерть рядом, что ты можешь погибнуть в любое мгновение. Я подошел к тебе и обнял, и ты обняла меня и дона Мануэля. Когда смерть совсем рядом, перестаешь стесняться.
— Как близко упала! — сказала ты с этой своей мягкой, извиняющейся улыбкой, будто речь шла о какой-то досадной, но пустячной неприятности.
Дон Мануэль отвел тебя в дальний угол бомбоубежища — там на полу лежал матрац, который соседи тут же уступили беременной женщине. Ты поглаживала живот, будто хотела кого-то успокоить. Я тихонько наблюдал за тобой. И понял, что именно этим ты и занималась: старалась успокоить того, кто жил у тебя внутри.
И тут ты взглянула на дверь, поверх моего плеча, и увидела там что-то такое, отчего в глазах у тебя вспыхнула непонятная радость. Надежда под падающими бомбами. Счастье посреди ужаса.
Я обернулся. На пороге стоял Рамиро. По его глазам было ясно: единственное, что для него важно сейчас, это знать, где ты. Он увидел тебя. Кинулся к тебе.
— Я услышал, что бомбят Аточу, — сказал он, и вы обнялись. Объятие было коротким, но мне все про вас сразу стало ясно. Вы с ним любите друг друга. Мне почему-то сделалось грустно и горько. Но почему? Глупость какая-то. Я отвел глаза и подошел к двери.
Ночной Мадрид то и дело озарялся короткими вспышками, грохотали взрывы. На другой стороне улицы, укрывшись за мешками с землей у входа, стояли шофер Рамиро и тот самый человек в черном пальто, которого я уже видел сегодня днем. Оба угрюмо, молча смотрели в небо. «Погодите, придет и наша очередь», — казалось, думали они.
Вскоре, когда все утихло и стало ясно, что самолеты вернулись в свое логово, они вышли на тротуар. Мы тоже выглянули из убежища. Я держал под мышкой альбом с марками дона Мануэля, а в руках — фонарь. Мне показалось, что человек в черном пальто смерил меня изучающим взглядом: сначала он пристально посмотрел на фонарь, а потом мне в глаза. Вот таким же взглядом, зловещим и непроницаемым, он смотрел сегодня на вражеские самолеты.
Вы с Рамиро вышли на улицу, я прокрался вслед за вами. Рамиро перекинулся парой слов с человеком в черном пальто (я наконец услышал его голос; говорил он с иностранным акцентом), потом сел в машину и уехал.
Соседи («люди», как называл их дон Мануэль) стали расходиться по домам; нам дали передышку, но все мы знали, что это временно, что мы зависим от прихоти вражеских летчиков и ужас в любой момент может начаться снова.
Наступила ночь; я лежал на кровати одетый, один в комнате, и слушал, как затихает дом. И когда все эти островки тишины слились в одну большую и плотную тишину, я понял, что дом заснул, и взял в руки фонарь. Часы, подаренные мне Кортесом, показывали без пяти двенадцать. Время нашей с ним встречи, на которую сегодня я явлюсь впервые.
Я выскользнул из комнаты, вышел на лестничную площадку; дверь я закрывать не стал, чтобы можно было войти обратно. И только тут я понял, насколько рискованно это мое предприятие. А что если ты или твой муж вдруг подниметесь с постели среди ночи? А если дону Мануэлю вдруг зачем-то понадобится ваша помощь, и он подойдет к вашей двери?
Я поднялся по лестнице в мансарду. Открыл ключом дверь и подошел в темноте к выходящему на крышу окошку. Пододвинул кровать к стене. Я действовал очень осторожно — ведь накануне Рамиро меня обнаружил именно потому, что услышал, как у него над головой кто-то ходит. Вылез через окно на крышу.
Мадрид был огромным черным пятном, куском холста, расписанным ночными красками; из темноты кое-где возникали неясные очертания зданий, где-то на долю секунды вспыхивал огонек и тут же гас. Свет рвался наружу, но горожане изо всех сил загоняли его обратно. Где же он прячется, город, в такую безлунную ночь?
Ровно в двенадцать я услышал далекий, одинокий рокот самолета. Я обрадовался и испугался; два этих чувства боролись во мне. Я любил Кортеса, я боготворил его. Он всегда защищал меня, защитит и сейчас. Он…
Знает ли он о том, что бомбят мирное население? Может ли предположить, что немцы убили Пепу и множество таких, как она? А об опасности, которой подвергаешься ты, его любимая Констанца, он знает? Я совсем запутался, мне нужно было задать капитану тысячу вопросов. Это так просто и красиво — летать по небу. А вот война такая грязная… Почему же все так устроено?
Ровно двенадцать. Самолет Кортеса уже наверняка где-то надо мной. Мне нужно было кому-то верить. Почему же не ему — тому, кто подарил мне новую жизнь?
Я взял фонарь. Еще раньше, когда вы оставили меня одного, я первым делом убедился, что его можно приспособить для этого дела — посылать сообщения на языке света, языке, которому научил меня мой капитан. У меня в руках фонарь заговорил.
Я взглянул на небо и просигналил, буква за буквой:
— Я здесь, мой капитан. Интербригады в Альбасете. Еще не дошли до Мадрида. Люди боятся бомбежек. Гибнут гражданские.
Я остановился на мгновение, спрашивая себя, какое впечатление произвели на Кортеса эти мои последние слова. А потом, вспомнив о том, что еще его интересовало, добавил:
— Констанца на девятом месяце. Здорова.
И умолк, пряча глубоко в сердце свою только-только родившуюся любовь.
— Глянь, вот он! Ну наконец-то! — радостно заорал Хакобо и принялся снимать; наверняка он уже начинал всерьез опасаться за свои сто десять евро за крестины чистыми («включая две копии на DVD»).
Подвижная черная точка появилась вдалеке, отчетливо видная на фоне серого безоблачного ноябрьского неба. Рокот мотора был едва слышен — наверное, потому, предположил я, что ветер дует в противоположную сторону.
— Так, теперь бреющий полет направо… Ага, есть… — бормотал Хакобо, будто сверяясь вслух с невидимым сценарием; сейчас он снимал панораму самолета, который летел совсем низко, у самой земли, набирая и набирая скорость. — Теперь налево, очень хорошо… А теперь давай показывай свой фокус… Ну же, пошел!..
Я сделал два шага вперед и встал подальше от оператора, чтобы видеть только небо и самолет. Небо и самолет, что еще нужно для волчка? Кое-что еще нужно, подумал я. Воля человека.
Дечен прибавил скорости; самолет стал набирать высоту. Выше, выше, еще выше. Теперь это была лишь черная точка на сером фоне, слишком маленькая, чтобы оператор смог толком запечатлеть ее. И вдруг из хвоста самолетика вырвался густой шлейф белого дыма. Я встревожился. Может, с мотором что-то не то, и самолет вот-вот загорится? Но оператор продолжал снимать как ни в чем не бывало, а самолетик продолжал свой полет. Видно, Дечен выпустил дым специально для того, чтобы самолет легче было разглядеть с земли.
И тут пошли обещанные фигуры высшего пилотажа. Только это был не волчок: самолет выводил на небе буквы. «К», за ней кружок «О»… К-о-н-с-т-а-н-ц-а. Слово повисло в небе, как диковинное облако — облако, у которого есть имя. И вот тут-то, прямо из конечной «а», Дечен ушел в волчок. Мне показалось, что теперь гул мотора слышится гораздо отчетливее, чем вначале. Может, ветер переменился и дул теперь в нашу сторону, а может, Дечен теперь выжимал из мотора все, что мог. Самолетик стрелой взмыл вверх и начал чертить белый круг.
— У-у-у-у-у-у-ух! — по-ковбойски взвизгнул у меня за спиной Хакобо. Прямо техасец на родео.
Дечен взмыл вверх по вертикали; самолет на какое-то мгновение очутился брюхом кверху, а потом, завершая круг, резко ушел вниз, носом к земле, чтобы вновь принять горизонтальное положение. Эти акробатические трюки длились почти минуту. К концу волчка я почувствовал, что задыхаюсь: оказывается, я вдохнул, да так и стоял не дыша.
— У-у-у-у-у-у-у… — продолжал завывать оператор. — Вот это да! А теперь крупный план — и тихонько отходим… Класс! Голливуд отдыхает…
Я взглянул на контрольный монитор у его ног. В кадре был виден след от волчка, белый круг — вышло что-то вроде виньетки после имени Констанцы, которое еще висело в воздухе, не таяло, будто ветер нарочно утих, чтобы продлить его недолгую жизнь.
— А теперь идем на посадочку…
Камера Хакобо двигалась вслед за Деченом, который, вероятно, шел на снижение. Я увидел на мониторе, как самолетик пикирует на землю, все увеличивая и увеличивая скорость.
Догадывался ли я, что сейчас случится?
Внезапно на мониторе вспыхнул оранжевый шар; вдали что-то громыхнуло. Я оторвался от монитора и перевел взгляд на небо. Самолета не было.
Лишь оранжевый шарик догорал вдалеке. Он оказался куда меньше, чем на экране, — просто огненная точка на горизонте. Вот он поменял форму, вытянулся в небе алым языком. А потом не осталось ничего, кроме черного дыма.
Мы с Хакобо потрясенно переглянулись. Оператор наспех побросал все в фургон, я ему помогал. Минуту спустя он уже гнал к месту аварии, туда, где поднимался черный столб дыма. Белые буквы в небе, составлявшие женское имя, потихоньку расплывались, таяли, пока не исчезли совсем.
Наконец мы добрались до места аварии и теперь стояли, беспомощно глядя на разбросанные по земле догорающие обломки самолета. Я смотрел на них, то и дело отводя глаза. Может, Дечена сразу разнесло взрывом, а может, один из этих бесформенных тлеющих черных кусков — это он, то, что от него осталось? Одно я знал точно: Дечен погиб. И как ни странно — ведь речь шла о человеке, которого я знал всего лишь несколько часов, — с его уходом мне стало одиноко и пусто. И страшно.
Дымный столб заметили не только мы: к горящему самолету подъехали две машины с сиренами, одна из них пожарная. Они быстро потушили тлеющие обломки, но для Дечена все было кончено раньше.
Я воспринимал происходящее как-то обрывочно. Звенели мобильники; кто-то втолковывал Хакобо, что он должен предоставить следствию копию видеозаписи; пожарный, опершись на то, что было когда-то кабиной самолета, грустно качал головой. Мобильники не унимались. И тут, посреди этого хаоса, до меня окончательно дошло, что Дечен разбился намеренно. Один из надрывавшихся мобильников оказался моим — вибрировал у меня в кармане. Я прижал телефон к уху.
— Да, Энрике, — выдавил я из себя. Сейчас у меня не было сил делать вид, что все в порядке.
— Алло? — зазвенел в трубке веселый женский голос. Голос молодой девушки.
Я быстро взглянул на мобильник. Это был не мой телефон — Дечена. На экране высветилось, мигая, имя звонившего — Констанца.
— Алло? — повторила девушка. — Хоакин?
— Хоакин не может подойти, — сказал я и тут же поспешно добавил, чтоб ее успокоить: — Он оставил мне телефон на случай, если кто-нибудь позвонит. Может, что-нибудь ему?… — я осекся. Что уж я теперь ему передам.
— Да нет, не беспокойся.
Такой радостный голос у этой Констанцы. Из-за этого голоса происходящее вокруг ощущалось еще беспросветней. Сейчас она повесит трубку — и все.
Внезапно мне стало страшно. Повесит трубку — и исчезнет, и больше никогда не появится.
— Он тут мне кое-что для тебя оставил, — я уцепился за последнее средство.
— Так мы же с ним завтра увидимся…
Я сделал вид, что не услышал.
— Книгу. И еще пакет с подарком. И видеозапись.
Насчет книги я, правда, приврал — он мне ничего такого не поручал.
Теперь я был уверен, что он распорядился заснять собственную смерть именно для того, чтобы девушка увидела запись на следующий день, седьмого ноября.
— Вот здорово, обожаю сюрпризы! Да, завтра очень важный день для нас обоих. И когда же ты мне все это передашь?
— Может, сегодня вечером?
— Идет. А где? И в котором часу?
— Давай в кафе на вокзале Аточа, — предложил я. — Я там рядом работаю. В семь часов подойдет?
— Хорошо, в семь так в семь. А как я тебя узнаю?
— У меня в руках будет книга. Такая большая, в зеленой обложке. И еще видеокассета.
— Ладно, тогда пока.
Она отключилась.
Может, я ввязался во что-то нехорошее? Но я чувствовал, что это не так. Я должен был рассказать Констанце, что стал свидетелем последних часов жизни ее друга Хоакина. Так, стоп… друга? Почем мне знать, что их не связывали какие-то другие, куда более тесные и запутанные отношения? Обычная дружба, особенно в свете последних событий, слишком уж простое объяснение.
— А авиетка-то была краденая, — произнес кто-то у меня за спиной.
— Краденая? — переспросил другой голос.
Я обернулся. Разговаривали двое — пожарный и кто-то из сотрудников аэродрома: несмотря на холодную погоду, он был в одной рубашке, без пиджака, и узел галстука был приспущен. Явно выскочил из конторы в чем был и бросился прямиком к месту аварии. Рядом с ними крутился и наш оператор. Я подошел поближе.
— Точно тебе говорю, краденая, — ответил здешний сотрудник. — Ну, по крайней мере, формально. Разрешения на полет не было — получается, в воздух он поднялся на свой страх и риск. Наверно, это кто-то из своих был, из тех, кто мог крутиться на аэродроме, не вызывая подозрений.
Мы с Хакобо переглянулись. По-видимому, только мы здесь знали, кто сидел за штурвалом.
— А вы ведь все это засняли, верно? — он повернулся к оператору.
— Да нет… — с напускным равнодушием протянул Хакобо. — Просто увидели, что тут случилось, ну и подъехали, думали, может помощь нужна… Но снимать ничего не снимали. Мы тут вообще-то на крестины собирались. Да, кстати, нам пора… — он выразительно посмотрел на меня и постучал указательным пальцем по стеклу своих наручных часов.
Я понял намек.
— Да, пошли.
Никто больше ни о чем нас не спрашивал. Собственно, и спрашивать было некому, начальства никакого здесь не было.
Минуту спустя мы уже сидели в машине, которая неслась обратно в Мадрид.
— Ну и дела… Выходит, он специально все это затеял, со съемкой, мужик этот, хотел память по себе оставить, — Хакобо улыбался, не отрывая глаз от шоссе. — Ты прикинь, сколько мне теперь телевизионщики за эту пленку отвалят… Нет, я, конечно, к покойнику со всем уважением, но ты и меня пойми. Ему-то разве не все равно уже?
— Наверняка все равно, — вполне искренне ответил я. — Послушай, он ведь тебе заплатил за работу?
— А как же. За все вперед уплачено.
— Тогда дашь мне одну копию, для наследников? По-моему, это будет правильно. Я просто с внучкой его знаком, — добавил я.
Внучка и дедушка — это правдоподобно… Больше похоже на правду, чем друзья.
— Слышь, а с телевидением как? Ну я насчет продажи пленки…
— Да не вопрос. Сколько ни заплатят, все твое. Мне ведь только копия нужна. И вот еще что: пусть попридержат пока эту запись, не показывают до послезавтра, хорошо? Пусть девушка сначала ее сама посмотрит. Не дело это, чтобы она узнала обо всем по телевизору.
— Наверное, ты прав… Ладно, поехали ко мне в студию, я тебе отдам запись. Чем раньше, тем лучше, — теперь он с воодушевлением разыгрывал передо мной рубаху-парня; видно, боялся, что я, чего доброго, передумаю и тоже захочу урвать кусок.
Час спустя я снова был в квартире Дечена. Тяжело было смотреть на его тщательно заправленную кровать — столько в этом было печали, и непоправимости, и застарелого многолетнего одиночества.
Я провел пальцами по буквам, нацарапанным на стене. Они показались мне эпитафией кому-то, кто умер в ноябре тридцать шестого года. Кто же это был?
Я взглянул на часы: без двадцати пять. До встречи еще есть время, успею дочитать. Тут до меня дошло, что я читаю эти строки в том самом месте, где Дечен их написал. Наверняка он сидел на этом самом стуле, облокотившись на старый деревянный стол. Я положил книгу на стол (ох уж эти литературные штучки, видать, погиб во мне поэт) и уселся на стул, полный решимости узнать все-таки, что же такое началось в ночь с шестого на седьмое ноября тридцать шестого года и закончилось только что, шестьдесят восемь лет спустя, самоубийством Хоакина Дечена.
Или еще не закончилось?
Этот стул, на котором я сижу, стол, за которым я пишу тебе эти строки, свет лампы и луна за окном… Все это никуда не делось, оно сейчас со мной, в этой комнате, где прошла почти вся моя жизнь.
И это окно… окно моего предательства. Окно в наклонной стене, через него так легко выбраться на крышу. На этот подоконник я карабкался ровно в двенадцать каждую ночь в конце октября и начале ноября тридцать шестого года. Отсюда, из этого окна, вооружившись фонарем, украденным у доверчивого дона Мануэля, я рассказывал Кортесу о том, что происходило в осажденной столице. Чаще всего мне казалось, что дело это бессмысленное, что капитану и его службе разведки и так известно то, что я старательно выписываю световыми буквами. Но позже я узнал, что среди моих донесений попадались и очень ценные. Как и предполагал Кортес, Рамиро располагал сведениями, которые были известны очень немногим, и он действительно взял себе за привычку свободно обсуждать их дома — с тобой, иногда с доном Мануэлем. Мое присутствие его ничуть не смущало — ты ведь привязалась ко мне, доверяла мне, а для Рамиро этого было достаточно. Как бы то ни было, он считал, что город обречен, что даже чудо не сможет спасти его от франкистских войск, которыми командовал генерал Варела. Падение города было делом дней или часов.
При помощи фонаря я рассказывал о том, что происходило в те дни в Мадриде, надеясь, что самолет-призрак, о присутствии которого мне не всегда удавалось догадаться по рокоту мотора, действительно кружит надо мной и принимает мои послания.
Я рассказал о прибытии первых русских самолетов: правительство встретило их с восторгом, но Рамиро этих радужных настроений не разделял, он считал, что никакое оружие, никакие самолеты не помогут делу, пока в городе нет профессионального военного командования, нет дисциплины и единоначалия. Рассказал о том, что в Мадриде ожидают скорого прибытия первых интербригад, которые, как утверждали оптимисты, смогут переломить ход войны. Рассказывал о малодушном бездействии правительства: Рамиро с отчаянием говорил об этом, когда мы собирались за ужином (а наши вечерние трапезы становились все более скудными); некоторые министры спали и видели, как бы поскорее сбежать из Мадрида и впустить в него Франко — якобы для того, чтобы, обосновавшись поудобнее в новой столице — Валенсии, спокойно подготовить контрнаступление. Рассказывал, как в тюрьмах поступают с заключенными, арестованными за принадлежность к организациям правого толка, — эти расстрелы так огорчали тебя, и Рамиро, и дона Мануэля, для которого никакая идеология не могла служить оправданием убийства человека. Я с ужасом узнал, что был расстрелян без суда и следствия Руне де Альда — тот самый герой, один из безрассудных и отважных летчиков с «Плюс Ультра». До чего же потрясла меня эта смерть — до дрожи, до головокружения; горько и страшно было сознавать, что бессмертные герои, оказывается, вовсе не бессмертны. Почему он? Почему столько людей погибает? Я рассказал небу, что в Мадриде уже нет никакой власти, всем управляет хаос (да еще, возможно, агенты, которых Сталин внедрил в ряды компартии, — вроде того человека в черном пальто, который иногда спорил с Рамиро и, казалось, следил за ним). Я рассказал о том, что здесь царит уныние, но и о том, что кое-кто предпринимает отчаянные попытки собрать в столице армию, способную дать отпор осаждавшим город войскам. О том, как боятся здесь пятой колонны, этой мадридской «армии теней», затаившихся правых, которые с нетерпением ждали победы — победы и реванша. Я рассказал (хотя сам уже понимал, что Кортес тут вряд ли может что-то изменить), что немецкие самолеты бомбят людей днем и ночью, размеренно, методично; как ни привыкай к такому, все равно не привыкнешь, а главное, от смерти не скроешься. Вот о чем я говорил ему каждую ночь. И еще о том, что ты вот-вот родишь, и о том, до чего это нелегко — ждать появления ребенка в осажденном городе; о том, как тебя мучают страхи и как однажды ночью ты проснулась с криком ужаса, потому что тебе приснилось, что ты рожаешь под бомбежкой и что ребенок родился мертвым из-за адского воя самолетов, осыпающих людей бомбами, поливающих их огнем. И еще о том, что все вы привыкли ко мне, что на краю пропасти, в ожидании неминуемого конца вам вовсе не кажется странным, что рядом с вами, в вашем доме, поселился чужой человек. Я рассказал ему все… все, кроме перемен в моей душе.
Что послужило их причиной? Моя влюбленность в тебя? Долгие разговоры с доном Мануэлем? Старик плакал настоящими слезами, когда до нас доходили известия о расправах, которые творили разные негодяи, прикрываясь именем Республики. Горько было сознавать, что прежней Республики-острова, как он ее называл (по его словам, она стала островком прогресса и демократической цивилизации посреди фашистского варварства, опустошавшего Европу), больше нет: от былого живого дерева остались лишь щепки, да и те скоро швырнет в огонь чья-то рука. Люди, чью жизнь дон Мануэль считал священной и называл высшей ценностью, попрятались по домам, голодали, дрожали от холода, с ужасом ожидая так называемого освобождения, и ужас этот был настолько осязаемым, что, казалось, его можно пощупать руками. Куда подевалось правительство, куда подевалась власть, спрашивали себя люди, где та армия, которая смогла бы остановить неумолимое нашествие марокканских, немецких и итальянских наемников? Эти два слова — «марокканцы» и «наемники» — не давали мне покоя. До чего мне хотелось очутиться сейчас рядом с Кортесом, которому я так доверял, чтобы задать ему множество вопросов. Особенно волновал меня один: если правда действительно на нашей с ним стороне, почему тогда армия наемных убийц стоит у ворот Мадрида, готовая ворваться в город и расправиться с его жителями?
Я совсем запутался, заблудился в этом лабиринте сомнений. Они мучили меня, хоть я и продолжал исправно отправлять свои донесения. Но больше всего меня потрясли неожиданные слова, которые произнес Рамиро. Они заставили меня на многое посмотреть по-другому. Именно тогда я впервые осознал, что черное не всегда черное, а белое не всегда белое, что между ними — целое море оттенков серого, пойди с ними разберись.
Это случилось здесь, в этой самой мансарде, в которой я сейчас пишу эти строки, у окна моего предательства. Однажды в полночь, второго или третьего ноября, я поднялся сюда, чтобы отправить очередное послание. Я собирался доложить Кортесу о предстоящем собрании Совета обороны. Рамиро стало известно о планах правительства оставить Мадрид. Все рушилось, таяла и решимость честных людей.
Я поднялся в мансарду. Действовал я привычно и уверенно, но не забывал и о мерах безопасности. Только поэтому меня не обнаружили те, кто зашел туда раньше. Я узнал вас по голосам: это были вы — ты и твой муж.
Ярость Рамиро сменилась подавленностью. Для него бросить Мадрид на произвол судьбы было невероятной подлостью, и неуклюжий аргумент «бежать, чтобы перевооружиться», которым пытались оправдаться трусливые министры, ничуть его не убеждал. Отведя душу за ужином и все еще кипя от возмущения, он ушел спать. Но, видно, заснуть ему так и не удалось, потому что сейчас вы с ним беседовали у окна, при свете луны, под звуки далекой канонады. Наверное, с этим укромным местом у вас что-то связано, догадался я, какое-то особое воспоминание, — потому вы и пришли сюда.
Быть шпионом — подлое дело. Но за это время я стал другим, и мне уже не было стыдно подслушивать чужие разговоры.
— Видно, мне придется мучиться из-за этого всю оставшуюся жизнь, — сказал Рамиро спокойно.
И он умолк, умолк надолго, будто решил на этом закончить разговор. Но ты знала, что продолжение будет, и не говорила ни слова, только прижимала его голову к груди и тихонько гладила по волосам.
— Оно возвращается снова и снова… Днем меня отвлекает война — тут уж не до воспоминаний. Но по ночам спасения нет. Я гоню от себя этот призрак… Вот уже скоро четыре месяца, как это случилось, но со временем становится только хуже, и призрак от меня не отстает, и вина моя всегда со мной. Знаю, знаю, что ты скажешь… я выполнял свой долг, это Хавьер был предателем и отступником…
Хавьер… У меня мурашки побежали по коже, когда я услышал это имя. Сердце у меня забилось сильнее, я машинально сжал в руке свои часы — часы Хавьера.
— Но это я бомбил казарму Ла-Монтанья. Я убил Хавьера.
— Нет, Рамиро! — вскинулась ты. — Уж этого ты никак не можешь знать наверняка.
— Еще как могу. Тело… его разнесло на куски взрывом бомбы. Моей бомбы.
— Или пушечного снаряда — пушки ведь тоже били по казарме. И толпа, которая ворвалась потом, — люди были в ярости, они могли покалечить тело…
Рамиро покачал головой.
— Звучит убедительно. Но мы с ним были друзьями. С ним и с Луисом. До проклятого восемнадцатого июля. Помнишь, как мы смеялись, как мы любили летать? Конечно, помнишь… смотри, вот там, возле двери!..
Я вздрогнул. «Там, возле двери»? Он что, обнаружил мое укрытие?
Нет, он сейчас вообще ничего не видел, кроме своих призраков.
— …Там мы откупорили ту бутылку шампанского, помнишь? Когда Луис купил мансарду.
— Ну конечно, помню! Я тогда еще впервые заговорила с вами об «Авиетках Аточа», помнишь? О фирме, которую мы бы могли открыть втроем. Воздушные перевозки и все такое.
— «Авиетки Аточа»… — грустно повторил Рамиро. — Было бы здорово. Тебе всегда такие толковые идеи приходили в голову…
— Как ты думаешь, он сейчас там? — спросила ты, понизив голос, почти со страхом.
Очевидно было, что ты говоришь о Луисе, который был вашим другом — до тех пор пока не превратился в человека, сбрасывающего бомбы на мирное население.
Я взглянул на часы: десять минут первого. Да, он там, точнее, прямо над нами, удивляется, что его лазутчик не подает признаков жизни.
Рамиро пожал плечами:
— Конечно, там. Он ведь первоклассный летчик, и Мадрид знает как никто другой. Наверняка он сейчас один из главных в авиации Франко.
— Ты думаешь, он на такое способен? Способен бросать на нас бомбы?
— Любимая, — сказал Рамиро, и я, услышав это слово, невольно опустил глаза от смущения и зависти. — Скажи, разве я до восемнадцатого июля был способен сбросить бомбу на своего друга? Люди меняются. И всегда в худшую сторону.
— Нет уж, прости! — гневно воскликнула ты, вскочив на ноги. Твой голос прозвучал с особой силой, потому что в этот миг как раз стихла канонада. Наступившая тишина словно подкрепила твои слова. — Ты выполнял свой долг. Предатель — не ты, а Хавьер. Кто из вас наплевал на свое слово, нарушил присягу — ты или он? Ты или они с Луисом? И вовсе это не одно и то же! Ты атаковал вражеские позиции, стрелял по вооруженным военным. А Луис, если он правда нас бомбит, убивает невинных людей. Меня. Нашего ребенка, который родится, когда здесь уже будут марокканцы. Если это так, чем Луис лучше тех, кто здесь убивает, прикрываясь именем Республики? Убивает правых просто за то, что они правые, или тех, кто кажется правым. Если бы не ты, меня бы могли и расстрелять. А что? Просто за то, что я аристократка.
Я затаил дыхание. Вот это новость. Я ждал, что ты расскажешь что-нибудь еще, к примеру, кто ты — ну там графиня или герцогиня — и как ты попала к республиканцам. Но тут Рамиро, встревоженный звуком мотора, попросил тебя замолчать.
— Тихо! — шепнул он, поднеся палец к губам. — Слышишь? Мотор…
Мы прислушались, все трое. Действительно, это был мотор, и я даже знал какой. Мотор самолета, прилетавшего сюда каждую ночь, только на этот раз он рокотал совсем близко. Кортес спустился пониже, рискуя попасть под обстрел зениток, — и все для того, чтобы разузнать, что со мной случилось, почему я не вышел на связь. Мотор пророкотал над нами, будто предупреждая нас о новых бедах, и стих вдали.
— Ладно, — сказала ты и потянула Рамиро за рукав. — Пойдем спать.
Я бегом спустился по лестнице к себе и юркнул в кровать; когда вы проходили мимо дверей моей комнаты, я притворился спящим. Сердце чуть не выскакивало у меня из груди; этот новый, человечный Рамиро никак не вписывался в тот образ, который рисовал мне Кортес и в который я свято поверил, — образ жестокого, хладнокровного убийцы.
Сомнения, сомнения… их все же не хватило для того, чтобы я отвернулся от прежней жизни и прежних привязанностей. На следующую ночь я снова сидел на крыше и передавал свои донесения, и на следующую тоже.
Однако четвертого ноября я потушил свой фонарь. В тот день, когда никто уже не сомневался, что Мадрид падет в считанные часы, сбылись худшие предсказания дона Мануэля: бомбы обрушивались на город с методичной яростью, теперь нас бомбили без остановки, не щадя ничего и никого. Мадрид — сомнительная честь! — стал первым городом в истории человечества, который сознательно уничтожали, разрушали с единственной целью — посеять ужас; для этого убивали гражданских — женщин, детей, стариков. Убийцы против людей. Я решил забросить подальше свой фонарь — не только потому, что боялся умереть прямо на крыше, но и из-за того, что видел вокруг. Я больше не посылал Кортесу сообщений. Судьба — та самая судьба, которая когда-то заставила меня сменить имя, свела с человеком, научившим меня летать, а потом привела в твой дом на площади Аточа, — приберегала для меня другую миссию. Правда, теперь, когда я перестал выходить на связь, оборвалась единственная ниточка, связывавшая меня с Кортесом. Теперь мне не на кого было надеяться — как и остальным мадридцам. Теперь я был как все.
Ужас охватил город. Началась паника. Секунды не шли, а ползли, каждое мгновение словно проживалось многократно. И при этом события неслись к развязке неотвратимо, словно лавина с горы.
Шестого ноября пришла судьба. Общая судьба, одна на всех — но и моя, и наша с тобой.
Мы пережидали бомбежку в той самой лавке, переоборудованной под убежище. Ты прилегла — сидеть тебе было уже трудно, твой ребенок вот-вот должен был появиться на свет. Мы с доном Мануэлем присели на корточках рядом. Соседи наши изнывали от страха и неизвестности, а я — что ж, теперь я был одним из них. Просто мадридец под падающими бомбами. При каждом взрыве мы переглядывались, но никто не говорил ни слова.
Открылась дверь. Дело близилось к ночи, уже начинало темнеть. В убежище вошел Рамиро. На нем лица не было; казалось, он ничего не слышит — ни адского воя снаружи, ни подозрительного потрескивания фундамента внутри. Он подошел к тебе, молча обнял, потом отстранился и безуспешно попытался изобразить на лице что-то вроде улыбки.
— Они уехали, — сказал он тебе, но мы с доном Мануэлем тоже это услышали.
— Правительство! — догадался дон Мануэль. Он пошатнулся и, чтобы не упасть, уселся прямо на пол, пытаясь сдержать слезы отчаяния. Ужасно было видеть, как плачет от безысходности этот добрый мудрый человек.
— Наш ребенок, — продолжал Рамиро. — Мы сейчас о нем должны думать. Послушай, через несколько часов Франко может войти в город. Скорее всего, завтра они будут здесь. Не будем тешить себя пустыми надеждами: меня расстреляют. Но ребенок… Если повезет, у нас в запасе еще несколько часов до родов. И вот я подумал…
— Рамиро, — перебила его ты.
— Я подумал, что…
— Рамиро! — воскликнула ты, и на этот раз он услышал тебя. В твоих глазах стояли слезы, но боялась ты не за себя, а за него — боялась напугать его, причинить ему боль. — У меня отошли воды. Только что. Он родится здесь. Сейчас.
Рамиро покачнулся, как от удара. Я видел: он действительно не знает, что делать, что сказать.
— Пошли ко мне, — сказал дон Мануэль у него за спиной, и в голосе его прозвучала внезапная решимость. Он уже успел подняться на ноги. Вид у него был плачевный — редкие седые пряди торчали в разные стороны, напоминая усики какого-то диковинного насекомого, в глазах стояли слезы, очки с поломанными дужками съехали на нос. Но выражение лица было самое решительное. — В моей квартире куда удобнее. И потом, третий этаж: это ж как должно не повезти, чтоб нас там накрыло таким вот гостинцем.
Ты взглянула на дона Мануэля, потом на Рамиро, потом снова на дона Мануэля. Ты колебалась, тебе было страшно оставить укрытие — пусть ненадежное, но другого у нас не было.
Дон Мануэль сжал твои руки и посмотрел тебе в глаза.
— Ты знаешь, какая это ценность — человеческая жизнь? Твоя жизнь, твоего ребенка? Конечно же, знаешь, — сказал он, не дожидаясь ответа. — А теперь скажи, дорогая моя Констанца: неужели все, что было в твоей жизни — в твоей единственной жизни, заметь, другой не будет! — было зря, и ты позволишь, чтобы твое дитя родилось в пыли, среди трясущихся от страха людей?! — тут кое-кто из «трясущихся от страха» подошел поближе — одни из любопытства, другие — потому что их обидели слова дона Мануэля, но многие почувствовали, что от старика исходит какая-то непонятная сила, и безотчетно старались держаться поближе к нему, надеясь, что им передастся его спокойная уверенность. — А может, ты все-таки подаришь ему свое мужество, а, Констанца? Пускай бомбы падают на город, но твое дитя должно появиться на свет в чистой постели, самим своим рождением бросить вызов страху и малодушию!
Ты улыбнулась. Несмотря ни на что, ты улыбнулась дону Мануэлю. И оперлась на его руку и пошла за ним к выходу. Но перед этим взглянула на Рамиро. Тот выдавил из себя слабую улыбку и махнул рукой: иди, мол, я потом приду.
— Послушайте! — сказала какая-то сеньора. — Возьмите, это вам пригодится.
И указала на лохань с водой: перед этим несколько соседей стащили ее вниз — на случай, если наш вечер в бомбоубежище затянется. Я тут же поднял лохань и пошел за вами. Другая сеньора, хозяйка, сунула мне под мышку стопку простынь, которую извлекла из-под прилавка. Какой-то незнакомый мальчик с прыщавым лицом подскочил ко мне и испуганно забормотал:
— Не знаю, как сказать… В общем, у меня и в мыслях нет обидеть сеньору, просто, пока нам не пришлось бежать из деревни, я принимал роды у коров… так что, может…
— Не знаю, это ж не у меня надо спрашивать, — ответил я. — Давай помоги мне пока лохань перетащить.
Мы выглянули на улицу. Огненный дождь не утихал, казалось, он стал еще яростнее — а может, мне это только показалось, — как будто бомбы задались целью не выпускать нас из убежища всю нашу оставшуюся жизнь. Но мы все-таки вышли на улицу и добрались до двери.
Квартира дона Мануэля, этот музей книг и марок, место наших долгих бесед, была погружена в темноту. Свет мы зажигать боялись, но и передвигаться вслепую тоже не могли… Ты пошла переодеваться. У тебя уже начались схватки.
— Есть идея, — сказал я.
Я поднялся по лестнице в мансарду, взял фонарь и вернулся в квартиру.
— Молодец! Отлично придумано. Мы будем видеть, а они нас — нет, — похвалил меня старик, зажигая фонарь.
У меня потеплело на душе: теперь свет этого фонаря послужит совсем другому делу — он поможет родиться твоему ребенку.
Ты уже успела переодеться в ночную рубашку и лежала на кровати. И вот тут-то до нас до всех дошло: мы понятия не имеем, что делать дальше.
Стук в дверь. Мы переглянулись. Парнишка с испуганными глазами весь сжался от страха, так что у меня просто выбора не оставалось. Я пошел открывать.
Рамиро ворвался в квартиру, не замечая нас, и сразу бросился в комнату, где лежала ты. Я пошел за ним.
— Констанца! — выпалил он. Это был совсем не тот недавний Рамиро, убитый и подавленный. — Кажется, организуют оборону города. Наконец-то! Мне позвонили из министерства, — он сжал твою руку. — Не знаю, удастся ли что-то сделать, но я иду туда.
Ты кивнула, сжала его руку в ответ. Но не успел он скрыться за дверью, как лицо твое исказилось от страха.
— Хоакин! — позвала ты меня, и я почувствовал себя по-дурацки счастливым. — Догони его! Пожалуйста!.. — теперь ты сжимала мою руку. — Присмотри за ним, чтобы с ним ничего не случилось…
Я тоже сжал твою руку.
— С ним ничего не случится. Клянусь тебе…
— Иди! Ну иди же!
И я бросился вдогонку за Рамиро.
На улице уже было темно. Черная машина поджидала в нескольких метрах. Если Рамиро в нее сядет, как же я смогу проследить за ним, я ведь даже не знаю, куда он едет? Но судьба не дремала, и на этот раз она была на моей стороне.
Человек в черном кожаном пальто вышел из машины и направился прямо к Рамиро. Я следил за ними, спрятавшись у дверей. Разговора толком разобрать не удавалось — мешал грохот орудий, но я понял, что человек в черном пальто вроде бы приехал только для того, чтобы известить Рамиро, а сейчас собирался срочно покинуть город. Они ожесточенно о чем-то спорили. Было видно, уже в который раз, что друг друга они недолюбливают. В конце концов человек в черном пальто сел в машину и уехал. Какое-то мгновение Рамиро стоял, не двигаясь, посреди ночной улицы. Затем вдохнул поглубже и бросился бежать.
Я поспешил за ним. Иногда все вдруг затихало, и тогда отчетливо было слышно, как башмаки Рамиро стучат по асфальту Пасео-дель-Прадо. Мадрид в огне… Человек бежал по городу, и его еще не родившийся ребенок придавал ему мужества — или безрассудства? Ведь остаться и бороться, не бросить все и не бежать в Валенсию мог только отчаянный храбрец или сумасшедший.
Куда же все подевались? Мадрид умирал, всеми покинутый. Ни одной живой души не встретилось нам, пока мы с Рамиро бежали навстречу неминуемой смерти. Что же мне делать, когда начнется бой? Кто я, с кем я? Мне стало страшно.
Нет, я не на стороне убийц. Я на стороне людей.
Мы уже добрались до здания министерства, и тут перед Рамиро выросла чья-то тень. Я испугался, да и Рамиро явно насторожился. Но это был друг, или по крайней мере свой, и пришел он сюда за тем же, что и Рамиро: чтобы защитить то, что защищать было уже безнадежно. Они пожали друг другу руки, обнялись и вместе вошли в здание министерства — пустое, с погасшими окнами, с выбитыми стеклами, без часовых у дверей. Отсюда, из этого здания, должны были руководить обороной города.
Я подождал немного и тоже вошел. Никто меня не остановил — некому было останавливать.
В пустых коридорах звучали шаги, но это было только эхо в лабиринте. Куда же они оба пошли? А мое обещание? Неужели я подвел тебя?
Снова шаги, на этот раз у меня за спиной. Я обернулся: ко мне шел человек. Значит, их уже трое — людей, готовых защищать город.
— Эй, парень, не подскажешь, где здесь библиотека? — человек был в военной форме, невысокого роста, в очках. На рукаве я разглядел звездочки подполковника.
— Они вон туда пошли, — я показал рукой вглубь темного коридора. — А я тут тоже заблудился…
— Ты? — удивленно переспросил он, оглядываясь по сторонам в поисках какого-нибудь знака, который бы указал ему дорогу в библиотеку. — А ты кто?
— Я пришел с Рамиро Кано.
— А, ясно… Ну хорошо хоть он здесь. Так, говоришь, туда?
И он зашагал по коридору. Я пошел за ним. Вдвоем мы отыскали наконец библиотеку, причем я первым увидел табличку-указатель.
— Вон туда, — сказал я.
Подполковник поспешил в указанном направлении.
— Откуда ты? — рассеянно спросил он, видя, что я не отстаю.
Что я мог ему ответить? Откуда я? Кто я такой? Сирота? Из Авилы? Из Бургоса?
— Я живу на площади Аточа, — ответил я, сам не зная почему.
Он кивнул и, по-моему, улыбнулся.
— А я — на Риос Росас.
В тот ноябрьский день все мы были мадридцами, а как же иначе?
Мы добрались до библиотеки. Подполковник вошел, я остановился, чтобы подождать снаружи. Он обернулся ко мне и протянул руку. Я пожал ее.
— Удачи тебе, — сказал он.
— И вам удачи, — ответил я и, осмелев, добавил: — Мой подполковник.
Он взглянул на звездочки у себя на рукаве.
— Уже не подполковник. Меня повысили, — сказал он. — Только что. — И вошел в библиотеку.
Когда дверь открылась, я успел разглядеть скудно освещенное помещение и большой квадратный стол посередине, на котором были разложены карты. Вокруг стояло человек десять — двенадцать, кто в военной форме, кто в штатском. Среди них был и Рамиро. Интересно, а кто остальные? Что они собираются сделать, чтобы остановить волну смерти, готовую хлынуть на Мадрид?
Дверь закрылась. Я присел, потом стал бродить по коридору и из любопытства заглядывать в другие комнаты. Нескольким опоздавшим на совещание я показал, как пройти в библиотеку. Изнутри доносились гневные голоса, иногда срывавшиеся на крик; иногда все замолкало…
Я исходил коридор из конца в конец, наверно, сотни раз. Коридор был длинный, неприветливый, с двумя рядами закрытых дверей. На доске объявлений, сплошь оклеенной военными сводками и всякими важными сообщениями, я увидел объявление, которое провисело здесь несколько месяцев и которое никто не удосужился снять: желающим поехать на свадьбу Марио и Аделы в Сантандер такого-то числа июня месяца предлагалось сдать деньги на дорогу до вторника. В министерстве было темно, ноябрьский холод пропитал воздух. Я складывал губы трубочкой и выдыхал воздух, и он вырывался наружу облачком пара. Все здесь казалось заброшенным — да, собственно, и было… А снаружи не смыкал глаз Мадрид — беззащитный, вконец измученный беспорядочной, вспыхивавшей то здесь, то там канонадой — очередной садистской прихотью наступавших, которые вновь и вновь напоминали нам: на рассвете начнется ад.
Что делают в библиотеке эти люди? Если у тебя ничего не осталось, значит, и терять тебе нечего. Почему тогда не попытаться совершить невозможное?
Внезапно дверь распахнулась. Я вздрогнул. Из комнаты, устало растирая виски, вышел человек; казалось, он просто ищет спокойный уголок, чтобы передохнуть немного. Выходя, он закрыл за собой дверь, но за ту секунду, что она оставалась открыта, оттуда, словно из глотки великана, вырвался многоголосый гул. Видно, там шел ожесточенный спор.
Человек сделал несколько шагов по коридору, потянулся, поразмахивал руками, чтобы размять занемевшие мышцы. Это был один из опоздавших. Он так и не снял свою кожаную куртку — в таких ходили ополченцы. У меня внезапно сжалось сердце. Видно, плохи наши дела. В зале для совещаний стоял холод, никто из собравшихся не стал снимать пальто. Как же они собираются защищать Мадрид, если сами от холода ноябрьской ночи и то защититься не могут?
Ополченец остановился у доски объявлений и зажег сигарету. Он курил, время от времени поворачивая голову то вправо, то влево, разминая затекшую шею. О чем-то задумался… а может, представлял, что он вовсе не тут, а там, в Сантандере, на свадьбе Марио и Аделы, и на дворе тот далекий, довоенный июньский день.
Снова взвился гул голосов: дверь открылась. Ополченец обернулся, и я тоже. На пороге стоял тот самый подполковник, с которым мы перекинулись парой слов. Он подошел к ополченцу, встал рядом с ним, сказал:
— Мне бы хотелось поговорить с вами с глазу на глаз.
Ополченец курил и ждал, улыбаясь подполковнику — если не дружески, то, по крайней мере, без враждебности. Он молчал, как бы приглашая собеседника продолжать.
— Я должен знать, могу ли я вам доверять.
Улыбка застыла на лице ополченца. Видно было, что эти слова обидели его. Но ответил он сдержанно и вежливо, словно подчеркивая, что будет играть против подполковника по его правилам, его же картами:
— Занятно… Именно это я должен знать о вас. Я коммунист, под моим командованием — маленькая армия коммунистов-ополченцев. Они, как и я, относятся без малейшего почтения к этой вот форме, к той армии, которую вы представляете, да и к Господу Богу, в которого вы верите. Вы, профессиональные военные, все или фашисты, или на стороне фашистов, что в данном случае одно и то же. Предатели Республики. Что, скажете, я не прав? Подполковник устало вздохнул:
— Скорее всего, завтра в это время мы с вами оба будем мертвы, Листер [7]. Может, сделаем что-нибудь, чтобы этого избежать? Или вы все-таки предпочитаете обсуждать сейчас, что из себя представляют мои товарищи по оружию?
— Я уже сказал Миахе [8], и вы при этом присутствовали, что мои люди будут подчиняться его приказам, а значит и вашим, — ответил ополченец. — Только единое командование может спасти Мадрид, с этим я полностью согласен. Но сперва объясните мне одну вещь. Вот вы профессиональный военный, ревностный католик и человек аполитичный, хотя наверняка правые вам больше по душе, чем левые. Почему же вы, подполковник Висенте Рохо [9], не предали Республику? Кто убедит меня в том, что вы тут не разыгрываете спектакль, чтобы к утру сдать город без боя?
— Вы считаете себя человеком слова? Вы знаете, что это такое — быть человеком слова?
— Вы меня оскорбляете, Рохо!
— Точно так же, как вы оскорбляете меня! Так что, вы человек слова? Да или нет?
Они смерили друг друга взглядом. Видно было, что ополченец едва сдерживает гнев. Думал ли он когда-нибудь до войны, что ему придется выворачивать душу перед генералом? Ответ прозвучал твердо, хоть и вполголоса:
— Да. Я человек слова.
— Тогда вы сможете меня понять, — сказал тот, кого звали Рохо. — Я буду защищать Мадрид из последних сил, отдам все силы, познания, всего себя отдам — по одной простой причине: когда-то, принимая полк, я присягнул на верность Республике.
— Но ведь и Франко, и Мола, и этот Варела, который подступает к городу со своими легионерами и марокканскими убийцами, — все они тоже присягали, — возразил Листер.
— Верно. И поэтому очевидно, что они не люди слова, — невозмутимо отозвался подполковник Рохо, — в отличие от нас с вами. А теперь давайте вернемся к тому, с чего мы начали, поскольку время не ждет. Могу я вам доверять? Да или нет?
Рохо протянул Листеру руку. Поколебавшись мгновение, ополченец пожал ее.
— Можете на меня положиться. А я буду доверять вам и исполнять ваши приказы. Даю слово.
— Итак, принимаем единое командование Миахи?
— Безоговорочно.
— Тогда приступайте немедленно. Я хочу, чтобы вы поговорили с офицерами, чтобы убедили их. А они пусть поговорят с сержантами, а те — с солдатами. А те пусть сегодня ночью поговорят со своими женами, и друзьями, и соседями, а они пусть передадут дальше: все должны выйти оборонять город.
— Погодите, — недоверчиво переспросил ополченец, — вы действительно думаете, что Мадрид еще можно спасти?
— Беззащитный город Франко возьмет с ходу. А при наличии эффективной обороны ему понадобятся совсем другие силы. Вот в чем наше спасение: в эффективной обороне. А для этого нам нужна помощь жителей Мадрида. Причем всех жителей! Город спит уже несколько месяцев. Надо его разбудить. В конце концов, напугать, если понадобится. Надо объяснить людям, что, если Мадрид падет, Франко заплатит своим марокканцам и отдаст им город на разграбление. Как это было в Бадахосе, как это было в Толедо. Те будут убивать и насиловать. Погибнут сотни, тысячи. Никому не спастись: в опасности наши дома, наши семьи, наши сыновья и дочери. Нужно сделать так, чтобы люди это поняли, Листер. У Мадрида, если не считать этой бедной армии, нет ничего, кроме его жителей. А теперь давайте вернемся в библиотеку.
И они вернулись в комнату для совещаний. Подполковник открыл дверь и пропустил Листера вперед. Изнутри донесся чей-то крик:
— А если все пойдет не так? Если они ударят ниже?…
— Люди. Жители Мадрида, — повторил Рохо, будто отвечая тому, кто там, внутри, умолк на полуслове, не находя ответа на собственный вопрос. — Люди Мадрида, только они…
Дверь закрылась. В коридоре снова стало темно, но тишины я теперь не ощущал: казалось, я до сих пор слышу отзвуки этого разговора и особенно одну фразу Рохо, накрепко врезавшуюся мне в память. «Я присягнул на верность Республике»…
Этот неприметный очкарик, совсем не похожий на молодцеватых офицеров, снискавших себе в Африке славу героев, был готов поставить на карту свою жизнь, чтобы сохранить верность данному слову… Я попытался осмыслить услышанное, как-то связать его с тем, что происходило сейчас в моей жизни. Я поклялся в верности Кортесу; нет, никакого слова я ему не давал, но это как бы подразумевалось. Но сам Кортес — разве он до этого не присягнул на верность Республике? Значит, капитан — предатель, бесчестный человек? А я — я служу ему. Я окончательно запутался… Конечно, я не мог считать Кортеса негодяем. Но как же тогда быть с подполковником, с его верой и твердостью?
Потом, годы спустя, я узнал, что для многих Висенте Рохо остался в памяти самым блестящим военачальником испанской гражданской войны.
Когда открылась дверь и оттуда стали один за другим выходить участники собрания (все куда-то спешили, все были полны решимости), я опрометью метнулся к выходу, чтобы меня не увидел Рамиро. Спрятавшись за каким-то грузовиком и дрожа от холода, я подождал, пока он прощался со своими товарищами. А потом он пошел домой, на площадь Аточа, и я за ним.
Он шел быстро, широким шагом — наверно, не только для того, чтобы согреться: ему не терпелось добраться до дома.
По лестнице он взлетел, перепрыгивая через три ступеньки. Видно, совещание в министерстве, нелегкое само по себе, показалось ему невыносимо длинным еще и из-за того, что он не знал, что с тобой и с ребенком.
Я изо всех сил старался поспеть за ним, но на последнем пролете отстал окончательно. Когда я наконец добрался до квартиры на третьем этаже и остановился, чтобы отдышаться, Рамиро, переменившись в лице, уже пулей бросился по лестнице наверх.
Из дверей выглянул дон Мануэль. Он взглянул на меня, стоя на пороге.
— С ними все в порядке, они хорошо себя чувствуют — Констанца и… малышка, — и он загадочно улыбнулся.
Я попытался представить себе, что он думает, что чувствует в эту минуту. Страх перед будущим? Или, скорее, восхищение непобедимой силой жизни, вопреки всему пробивающей себе дорогу? От него отчетливо, почти осязаемо исходили спокойствие и уверенность, позволявшие ему не слышать канонады, не бояться огненного дождя.
Из-за его плеча выглянул вчерашний испуганный мальчик. Сейчас вид у него был гордый, а в глазах стояли слезы от избытка чувств.
— Наш Пепе показал себя молодцом, — дон Мануэль приобнял его за плечи. — Уж не знаю, что бы мы без него делали… Ну давай, Хоакин, иди посмотри на девочку. Они в мансарде. Ты же знаешь, до чего Констанца упрямая. Я ей говорю: нужно прилечь, а она ни в какую. Хочу, говорит, успеть показать малышке Мадрид… пока не настало завтра.
Поднимаясь по лестнице, я задержался на мгновение у твоей двери. Она была открыта. Странное существо человек. Мадриду грозила бойня, естественнее всего было бы попрятаться по домам, забаррикадироваться, создать хоть какую-то иллюзию безопасности. Но на нашей лестнице двери не запирались. Твоя дочь подарила нам радость, силу, сделала нас неуязвимыми для бомб.
И здесь, наверху, царила та же атмосфера покоя и безопасности. Где-то рвались бомбы, но я держался прямо и уверенно — мне попросту не хотелось впервые подойти к твоей дочери, втянув голову в плечи и трясясь от страха.
Я осторожно заглянул в мансарду. Конечно, мне хотелось увидеть тебя, увидеть вас обеих, но я понимал, что это мгновение принадлежит вам двоим — тебе и Рамиро.
Вы стояли у окна — того самого окна, через которое я столько раз выбирался на крышу, чтобы отправлять свои предательские донесения. И впрямь казалось, что бомбы вам не страшны, а может, вы даже сильнее их, потому что как раз в этот миг обстрел прекратился, словно ты велела небу Мадрида помолчать немного, чтобы не мешать вам, и оно тебя послушалось.
Вы оба тоже молчали, завороженно глядя на девочку. Когда я пришел, ты как раз передала малышку ошеломленному, растроганному Рамиро.
— Констанца… — проговорил он.
Вы так решили — ты как-то обмолвилась об этом: если родится мальчик, назвать его в честь отца, а если девочка — в честь матери.
Рамиро что-то прошептал на ухо малышке, а потом обратился к тебе:
— Пора спускаться, ты здесь замерзнешь.
Он отдал тебе девочку и коснулся твоей руки, чтобы увести от окна.
— Рамиро, — перебила ты его, — давай дадим друг другу обещание.
— Обещание?
— Ради девочки. Давай пообещаем, что всегда будем с ней. Что она всегда будет в безопасности.
Рамиро заколебался. Его трезвому и ясному уму претил ни на чем не основанный оптимизм, но ты была такой уязвимой, такой беззащитной, так хотела верить…
— Мы всегда будем с ней, — Рамиро постарался придать своему голосу как можно больше твердости, — и она всегда будет в безопасности. Обещаю.
Ты кивнула. Но слов тебе было мало.
— Достань свой пистолет, — велела ты ему.
Рамиро, изумленный не меньше моего, достал пистолет из кобуры и, держа его за дуло, протянул тебе.
— Дай мне одну пулю, — попросила ты.
Рамиро вытащил обойму и извлек одну пулю. Ты огляделась по сторонам — мы оба пытались угадать, что ты задумала, — подошла к окну и принялась царапать пулей стену.
— Вот смотри, давай запишем здесь нашу клятву, — к тебе уже вернулась твоя обычная решимость. — Сначала ее имя: Констанца…
Мы смотрели, как ты выводишь буквы на штукатурке, одну за другой. Растроганные твоей любовью к ребенку — и опечаленные, потому что обещание это вам обоим не под силу было выполнить.
— Так, — сказала ты, не отрываясь от работы, — теперь дата: шестое ноября…
— Седьмое, — ласково поправил тебя Рамиро. — Уже три часа ночи. Уже седьмое.
Ты перечеркнула прежнюю дату и принялась выводить правильную.
— А теперь — наша с тобой клятва…
Но тут снова взревела канонада. Мы все сжались. Собственно, это и было целью штурмующих город — запугать, сломить жителей, не давать вконец измотанным защитникам Мадрида ни секунды покоя. Рамиро, словно осознав, что передышка закончена, что недавней волшебной неуязвимости пришел конец, поцеловал тебя в лоб и, взяв за руку, заставил отойти от окна.
— Завтра. Завтра мы допишем все, что захочешь. Пойдем, ну пойдем же…
И тут вы увидели меня. Твое лицо осветилось улыбкой, а потом ты взглянула на свою дочь, словно приглашая и меня взглянуть на нее. Рамиро тоже улыбнулся мне.
— Посмотри, Хоакин. Это наша дочь. Вторая Констанца. На, подержи ее…
И ты протянула ее мне. Свою дочь. У меня голова закружилась, когда я взглянул на нее; это было какое-то новое чувство, и обрушилось оно на меня сразу и бесповоротно, чтобы остаться со мной навсегда, как неизлечимая болезнь. Вторая Констанца…
— Ну что ж, оставляю своих женщин в надежных руках, — сказал мне Рамиро, и сердце у меня сжалось от гордости и от стыда.
Все мы знали, что нас ждет, что надвигается. Может, эта бомбежка была уже не для того, чтобы запугать и сломить, — это был просто сигнал к началу наступления. Рамиро не мог позволить себе уклониться от выполнения долга. Хотя, наверное, больше всего на свете ему сейчас хотелось остаться с тобой. Вы обнялись, так крепко, с таким отчаянием, что я отвернулся, покраснев.
То, что объединяло вас в это мгновение… мне так и не суждено было испытать в жизни ничего подобного. Но я, по крайней мере, пытался это найти и был честен с собой. Да, я всегда был одинок, но это было достойное одиночество.
Вновь ударила артиллерия, но звук на этот раз был какой-то другой. Откуда я это взял? Неужели я мог в эту минуту различать подобные оттенки? Сам не знаю. Я просто почувствовал, что стреляют как-то по-другому, — а может, лишь вообразил, что почувствовал. Но вы оба тоже это поняли: Рамиро оторвался наконец от тебя и бросился к выходу.
Войска Варелы начали штурм Мадрида. Смерть пришла за своей добычей.
Перед тем как спуститься, я постоял немного у окна. Город под огнем — жуткое и завораживающее зрелище. Мне было страшно, хотя в этом страхе жила и надежда: если мне удастся перебежать к врагу, доказать «маврам» и легионерам, что я свой, что я просто выполнял здесь боевое задание, — я спасен. В свое оправдание я могу сейчас сказать лишь одно — от этих мыслей мне сделалось не по себе. А как же другие? У меня была надежда на спасение — пусть крохотная, пусть призрачная. А вот у тысяч мадридцев и такой надежды не было, они точно знали, что им предстоит умереть. И какой лютой смертью! «Маврам» — марокканским наемникам генерала Варелы — плевать было на идеологию, им выдали карт-бланш на случай взятия Мадрида, и теперь, войдя в город, они будут убивать, грабить и насиловать. Об этом, мучительно боясь за твою судьбу, Рамиро говорил всякий раз, когда по вечерам мы собирались все вместе за ужином, — и до чего же горько и тревожно было всем нам теперь за этим столом. Я же думал о Кортесе, о его благородстве и великодушии, и повторял себе, что это неправда, не может такого быть. И здесь, у окна, думая о своем спасении, я, как и Рамиро, боялся за тебя. И за твою дочь, так ненадежно защищенную словами, процарапанными на стене. «Констанца, 7.11.36»: молитва, надежда, обещание — бесполезные, в сущности, вещи; разве ими защитишь кого-то от свирепой ярости африканских наемников и нацистских истребителей.
Чья-то рука легла на мое плечо. Куртка на мне была плотная, но я узнал твои пальцы.
— Хоакин…
Я не обернулся, не отозвался. Я знал, что стоит мне обернуться — ты уберешь руку с моего плеча, и мне хотелось продлить это прикосновение, этот единственный и последний миг, когда мы были с тобой вдвоем, одни в целом мире, только ты и я.
— Хоакин, — повторила ты.
И тогда я обернулся. И посмотрел на тебя. Ты держала на руках девочку, и видно было, что ты изо всех сил борешься с подступающими слезами.
— Я хочу тебя кое о чем попросить.
До чего же дурацкая и непредсказуемая штука — человеческая душа. Мы были на волосок от смерти, а у меня внутри все пело от радости, потому что тебе вдруг понадобилось о чем-то меня попросить. Я чуть не расплакался от счастья, но сдержался — ведь ты же держалась.
— О чем?
— Пойди за ним. Снова. Прошу тебя. Пусть с ним ничего не случится!.. — и тут ты наконец разрыдалась. Ты так боялась, что Рамиро погибнет, что просила меня о совершенно невозможной, абсурдной вещи. Как я мог уберечь его от беды, если всем нам оставалось жить считанные часы…
Я сжал твои руки. Я провел пальцами по твоему лицу, вытер твои слезы. Девочка тихо спала у тебя на руках. На какое-то мгновение я позволил себе вообразить, что мы — семья, что Мадрид, свободный и счастливый, — это город, в котором нам с тобой предстоит прожить жизнь.
— С ним ничего не случится, клянусь тебе.
Я старался говорить как можно решительнее. А ты — наверное, ты и сама понимала, что я пообещал невозможное, — улыбнулась и сжала мою руку.
Память о твоем прикосновении все еще была со мной, охраняла меня и придавала мне сил, когда я выбежал на улицу, чтобы защитить Рамиро.
Я бегом бросился к министерству: туда, предполагал я, он должен явиться в первую очередь. Мадрид не то спал, не то грезил наяву. Стояла ночь, но казалось, будто уже рассвело. Несмотря на канонаду и падающие бомбы, иногда посреди пламени возникали озерца тишины. Вот во время одной из таких передышек я услыхал шаги у себя за спиной и обернулся.
За мной, еле поспевая, шел Пепе, тот мальчик с испуганным лицом. Он уставился на меня широко открытыми глазами.
— Ну чего тебе? — сказал я. — Тебя же убить могут, не понимаешь, что ли?
— Понимаю… Так я поэтому за тобой и иду, чтоб меня не убили…
— Ну и куда же ты собрался?
— А я почем знаю. Просто иду за тобой, и все. Куда ты, туда и я. А ты куда?
— Я сам толком не знаю… Ладно, пошли вместе.
И мы побежали.
Через несколько мгновений нам встретился человек средних лет — он тоже спешил, только в противоположную сторону. На нем было пальто, застегнутое доверху, на голове берет, в правой руке он держал охотничье ружье. Из кармана пальто выглядывало что-то продолговатое, завернутое в газетную бумагу, похожее на булку. Кто-то приготовил ему бутерброд, собирая на войну. Значит, у него тоже была своя Констанца. Мы с ним переглянулись на ходу. Увидел ли он в моих глазах такой же страх, какой я увидел в его взгляде?
Мы с Пепе поспешили дальше по пустому городу: казалось, он принадлежал нам двоим. На нас чуть не наехал переполненный людьми грузовик, внезапно выруливший из-за угла; его пассажиры, вооруженные мадридцы, звали нас с Пепе поехать с ними. Но я должен был охранять Рамиро, а Пепе не хотел со мной расставаться. Мы пошли дальше. Теперь нам повсюду попадались люди — много людей. И откуда только они взялись? Неорганизованные, зато полные решимости. Порой растерянные, но готовые постоять за себя. Одним своим существованием они придавали мне сил, сами того не зная, — как и мне, может, удалось подбодрить кого-то из них. Было уже не важно, что мне вроде бы полагалось находиться на другой стороне. Ты сейчас была той стороной, за которую я сражался. И у каждого из этих людей, брошенных на произвол судьбы собственным правительством, была своя собственная Констанца. Вот за них, своих близких, эти люди и сражались, благодаря им перестали чувствовать себя перепуганными одиночками посреди всеобщего смятения.
На площади Сибелес ожесточенно спорили между собой ополченцы. Одни хотели идти к университетскому городку, другие — к Толедскому мосту; впрочем, среди сторонников первого варианта единодушия тоже не наблюдалось: кто-то настаивал, что нужно занять оборону на Французском мосту, а кто-то считал, что лучше подождать фашистов на площади Испании. Рядом с ними затормозил грузовик. Из кабины вышел офицер и велел перейти под его командование. Вначале ополченцы наотрез отказались, один из них даже предложил расстрелять офицера. Но кто-то сказал: «Не забывайте, что приказал Листер», — и ополченцы согласились пойти с офицером и выполнять его приказы.
Я вспомнил разговор между Рохо и Листером и подумал о победе мудрости и здравого смысла над хаосом. «Единоначалие, Листер. Единоначалие». И вдруг я понял, в чем еще великая сила Мадрида, кроме его людей. Не в самолетах, не в пулеметах и пушках, не в идеях и даже не в крови, проливаемой его защитниками. Великая сила Мадрида была в верности данному слову — как у подполковника Рохо, не способного переступить через присягу, как у многих таких, как он. Просто вера в честное слово, вера в то, что невозможное возможно.
Трудно отыскать человека, когда кругом царит хаос. Когда я добрался до министерства, Рамиро там уже не оказалось. Я злился на себя: трус, придурок, опять я подвел тебя, обманул твои ожидания, — но делать было нечего. Выяснилось, что Рамиро отправился на аэродром проверять новые самолеты. О том, что их доставили в Мадрид, он уже упоминал дома. Мне и в голову не пришло сообщать об этом Кортесу. Означало ли это, что теперь я предаю своего командира, его дело, так же как до этого предавал доверие Рамиро? По правде сказать, для меня сейчас было важно одно — ты, твое счастье, твой покой. А твое спасение и покой зависели от спасения Мадрида и покоя в нем. Вот за это я теперь и боролся. Ты — моя единственная идеология, и потому слова «Они не пройдут!», которые я слышал теперь все чаще и чаще, стали и моим девизом.
История рассказывает нам о победах и поражениях, но откуда ей знать, что творится в душе у солдата, который бежит с винтовкой в руке, часто сам не зная, куда бежит, который ничего не видит вокруг, кроме огня, и ничего не слышит, кроме взрывов, у которого нет друзей, кроме солдата, бегущего рядом, и который вдруг падает на землю, уже не подвластный ничьим приказам, повинуясь только последним лихорадочным толчкам испуганного умирающего сердца. И еще история любит нанизывать одно на другое названия мест, где кто-то выиграл, а кто-то проиграл сражения: в Мадриде такими местами стали Французский мост, городская больница, Каса-де-Кампо, мост Сеговии, Толедский мост… Однако солдат видит совсем другое: разрушенную стену, угол дома или открытое поле, посреди которого неминуемо должен появиться вооруженный враг — такой же одинокий, как и он.
Я, безоружный, ощущал себя центром битвы. Я чувствовал, что каждый взрыв, каждая пуля предназначены мне, что весь мир ополчился против меня и старается меня убить… И весь Мадрид чувствовал то же самое, каждый мадридец на улице, вынужденный сражаться чуть ли не голыми руками, чувствовал, что он — центр этой войны, что охота идет именно на него. Везде царил хаос, но теперь поверх хаоса слышались новые голоса, и голоса эти, поначалу робкие, с каждой минутой звучали все увереннее. И вот уже весь город, торжествуя, повторял: «Они не прошли! Не прошли!» Возможно ли такое? Девять часов утра, десять, час дня, два часа. Казалось бы, нападавшие давно уже должны были прорвать линию обороны, организованную Рохо, и ворваться в город… Однако Мадрид не сдавался, и минуты шли одна за другой, приближая город к желанному вечеру, за которым в свою очередь должна была наступить ночь. В темноте штурмующим Мадрид придется вернуться на свои позиции и признать, что это седьмое ноября, которое должно было войти в историю как день его падения, останется в ней как день памяти о непобедимом городе людей.
Немецкие «юнкерсы» бомбили центральные улицы столицы. Пилоты, видно, считали каждый жилой дом очагом сопротивления, а каждого его обитателя — опасным врагом: вооруженные до зубов младенцы, свирепые старушки… Поэтому они бомбили нас с таким остервенением. Но бомбы, разрываясь, наполняли ненавистью сердца жертв и придавали сил защитникам города. Люди, несмотря на опасность, выглядывали в окна, чтобы осыпать проклятиями небесных убийц, и на их лицах были написаны гнев и бессилие; кто-то даже пытался стрелять в самолет из старого охотничьего ружья, в этих обстоятельствах совершенно бесполезного.
Было уже около десяти утра, и я решил вернуться домой. Раз уж я не мог позаботиться о Рамиро, буду заботиться о тебе.
Но, подойдя к площади Аточа, я вдруг увидел, как «юнкерс», только что бороздивший небо над городом, внезапно превратился в огненный шар. Зрелище было грандиозное и ужасное, столпившиеся на тротуаре прохожие не могли отвести глаз. Что случилось?
Все вокруг, не отрываясь, смотрели на небо; поднял глаза и я.
Я слышал, как Рамиро рассказывал о новых русских самолетах, только что подоспевших на помощь Республике. Люди называли их «чато» — курносыми, из-за их носовой части, словно приплюснутой спереди [10]. В то утро я впервые увидел «чато» в небе.
Жители Мадрида — и я вместе с ними — позабыли обо всем, даже о войне, и, затаив дыхание, смотрели на самолеты, гордо кружившие над нашими головами. Теперь небо над городом принадлежало им; казалось, они ощущают наши восхищенные взгляды. И когда «юнкерсы», более тяжеловесные и неуклюжие, обратились в бегство, улица разразилась восторженными криками. В бою ничего не бывает наполовину. Если уныние, то уж безысходное, а если радость, то безудержная, безграничная. Вот такую радость мы и узнали в тот миг благодаря «чато».
Я уже собирался подняться к тебе, чтобы поделиться с тобой, радостью, когда над площадью стрелой пронесся франкистский самолет, один-единственный. Быстрый, решительный — я с содроганием узнал его. Да и как было не узнать, если я сам не раз летал в нем, сидел в этой самой кабине. Это был он, без всякого сомнения. Самолет Кортеса. Куда он направлялся? Как решился в одиночку залететь так далеко на вражескую территорию?
Один «чато» отделился от колонны и полетел к нему навстречу. «Представь себе, на войне телефоны тоже иногда работают…» — сказал мне Кортес, рассказывая, как они с Рамиро условились встретиться в поле под Авилой. Когда же бывшие друзья успели договориться об очередной встрече? — спросил я себя, предположив, что за штурвалом Рамиро. А впрочем, не все ли равно… Главное — оба они были здесь, кружили над площадью Аточа. Это была их дуэль, отдельная от общей битвы, со своими правилами, своим ритмом. Оба они не спешили открывать огонь. Наверное, присматривались друг к другу. Вспоминали прежние времена.
Я испугался за тебя. Хорошо бы, чтобы ты лежала сейчас в постели, в квартире дона Мануэля, и ничего не знала об этом поединке, в котором на кону твое счастье — твое и твоей дочери. Я поспешил домой — быть рядом с тобой. И тут я увидел тебя: забыв о предосторожностях, ты выглядывала из окна мансарды, и твой взгляд был прикован к сияющему небу; как и я, ты узнала участников схватки. Я бросился к дому, пробиваясь через толпу зевак, и бегом поднялся по лестнице. Ты обернулась, чтобы посмотреть, кто это ворвался в мансарду с таким грохотом, а узнав меня, опять впилась глазами в небо. Я подошел к тебе; моим первым движением было увести тебя в безопасное место, но, выглянув на крышу, я понял, что мне не удастся стронуть тебя с места. Да я и сам не мог отвести глаз от происходящего в небе.
Самолеты уже поливали друг друга огнем из пулеметов. Мне это показалось, или город действительно притих в ожидании развязки? Внизу, на улице, люди затаили дыхание, глядя на небо, и мне почудилось, что канонада стала потише. Может, некоторые командиры батарей даже велели своим людям прекратить огонь, чтобы с биноклями в руках следить за тем, как сошлись в схватке два самолета — будто два зверя, которые вот-вот вцепятся друг другу в сонную артерию. Они кружили над площадью так стремительно и с такой безрассудной отвагой, что можно было подумать, что за штурвалом — сумасшедшие или новички, а не два лучших аса этой войны. В ужасе ты схватила меня за руку, прижалась ко мне. Ты боялась за Рамиро, но наше объятие, которым обернулся твой страх, позволило мне вообразить на миг, что ты любишь меня. Мне захотелось, чтобы поединок длился вечно, чтобы никто не победил.
Сколько бы ни длилось лучшее мгновение в жизни человека, его хочется продлить до бесконечности. И сколько бы ни длилось наше с тобой объятие, оно все равно показалось бы мне слишком коротким. Но оно оборвалось внезапно, когда мы оба увидели, что хвост одного из самолетов загорелся. Рамиро подбили. С криком ты отшатнулась от меня. Поначалу я осознал лишь одно: ты куда-то делась, я больше не ощущаю твоего прикосновения.
Изрыгая черный дым, «чато» камнем падал вниз. Невероятно, но Рамиро удалось остановить падение; самолет выровнялся и с трудом, как смертельно раненный зверь, стал уходить прочь. Он уже не собирался нападать на врага. Но и бегством это тоже не было. Я знал, куда летит Рамиро. Я часто слышал от него, а еще раньше от Кортеса, что летчик, которого подбили, должен любой ценой увести самолет подальше от человеческого жилья, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Так что мы с тобой хорошо знали, почему он полетел прочь. Конечно, знал об этом и Кортес. Есть еще одно правило — правило военного времени. Подбитого врага полагается догнать и добить, чтобы он не собрался с силами и не напал на тебя снова. Но Кортес не стал преследовать Рамиро. Он набрал высоту, развернулся и полетел в противоположном направлении. Мне почудился в этом слабый проблеск надежды. Как бы то ни было, Кортес даже посреди этого страшного водоворота сохранил уважение к поверженному врагу. Может, не все потеряно, может, он еще прежний, капитан Кортес?
Самолет Рамиро исчез из нашего поля зрения — все-таки дотянул, не упал…
Твое лицо осветилось надеждой, к тебе вернулась прежняя твердость.
— Он уходит к аэродрому! Попытается приземлиться! Пойду туда!
Я схватил тебя за руку.
— Нет, — возразил я, попытавшись вложить в слова всю свою нежность; в чем, в чем, а в самолетах я разбирался лучше тебя и знал, что посадить самолет Рамиро вряд ли удастся. — Ты еще очень слаба. Если с Рамиро что-нибудь случится… — я поднес твою руку к надписи на стене, чтобы ты коснулась ее пальцами. — Ты должна оставаться здесь. Пойду я.
Я просто не оставил тебе выбора. Я отвел тебя вниз, к дону Мануэлю, который оставался с малышкой; судя по выражению его лица, он тоже видел бой. Он обнял тебя — оглушенную, убитую горем, повел в квартиру и закрыл за вами дверь.
Я бросился на поиски человека, которого ты любила. Спускаясь по лестнице, я был полон решимости найти его во что бы то ни стало, хотя надежды на то, что он выжил, не было. Но когда я выбежал на улицу, решимости у меня поубавилось. Где мне искать его посреди этого хаоса? С чего начать? Возможно, в Совете обороны что-то знают о его судьбе. Я там уже был, меня наверняка пустят. Я бросился бежать.
Два вражеских самолета обстреливали Пасео-дель-Прадо [11], возле самого музея. Я укрылся за статуей Веласкеса, где уже прятался пожилой человек. Человек этот странно улыбался, и одежда на нем была необычная — какой-то чудной синий мундир с эполетами, будто позаимствованный из театральной костюмерной. Когда самолеты, сделав еще один круг над площадью, развернулись и полетели к югу, странный человек показал мне длинную наваху.
— Эй, парень, а у тебя есть такая? Отличная штука, мы еще им покажем! Бонапарт найдет свою смерть в Мадриде, вот увидишь!
Безумие пугает сильнее бомбежки. Я отшатнулся от его кривой улыбки и бросился прочь. Я бежал к фонтану Нептуна, а меня преследовал его голос:
— Вот доживешь до старости, парень, всем будешь рассказывать, как дрался с французами! Второго мая, плечом к плечу с Даоисом [12] и со мной!
Город затаился и ждал новостей с фронта. В здании, где заседал Совет обороны, все были чем-то заняты, кипела лихорадочная работа. Никто не обращал на меня внимания, не у кого было спросить, как дела на фронте, но что-то здесь изменилось. Что-то неуловимое в атмосфере, в том воодушевлении, с которым все эти люди теперь занимались своим делом, позволяло предположить: Мадрид вопреки всем ожиданиям продолжает бороться. Мне сказали, что в подвале оборудовали небольшую контору, где можно узнать о жертвах, но когда я вошел, там никого не было. Почему-то это особенно удручило меня. Люди продолжали умирать на улицах, на фронте, и рано еще было подводить итоги, считать погибших. Время неизвестности. Скажите, мой сын — он умер? Неизвестно. А моя жена? Неизвестно. А я? Я еще жив? Неизвестно. Ничего пока не известно, ждите ответа.
— Хоакин, — окликнул меня чей-то голос посреди этой конторы убитых надежд. Я вскрикнул от неожиданности: передо мной стоял Пепе, в его круглых, как у рыбы, глазах застыло выражение вечного ужаса. — Я видел, как ты вошел, ну и пошел за тобой… Куда это ты тогда подевался? Бросил меня одного…
Я открыл рот, чтобы ответить, и тут на меня навалилась усталость — внезапная, непреодолимая.
— Самолет Рамиро упал, а где — не знаю, — вот и все, что я смог из себя выдавить.
— Да, я слышал, что разбился кто-то из наших.
— Где?
— Возле Толедского моста.
Может, я смогу дать тебе надежду. Судорожно цепляясь за эту мысль, я бросился бежать, Пепе — за мной. Больше огня, больше падающих бомб, больше смерти Пепе боялся остаться один.
Теперь мы шли не прячась, не пригибаясь; мы уже успели привыкнуть к пожарам, к трупам на улицах, к неожиданным взрывам. Когда умолкали пушки (а такое иногда случалось, правда, совсем ненадолго), мы с Пепе вполне могли бы сойти за двух мальчишек, играющих в пустом городе, который принадлежит им двоим.
Став участником великого и трагического события, можно навсегда заболеть им, и эта одержимость прирастет к тебе, как вторая кожа. Все эти годы, вплоть до сегодняшнего дня, я жадно глотал все, что писали и издавали об этой битве. Мне попадались и предвзятые, лживые агитки времен диктатуры, и версии событий, которые стали публиковать в переходный период, — восторженные, с перекосом уже в другую сторону и, конечно же, неполные; лучшие исследования писали иностранные историки, чаще всего англичане, с бесстрастностью вивисектора препарировавшие нашу войну, как ящерицу, — ни любви, ни ненависти к извлекаемым наружу внутренностям. Но все, что я читал, сильно отличалось от того, что пережил я сам. Оттого, что переживал в те дни каждый житель Мадрида.
Мы с Пепе невольно стали участниками события, которое склонило исход сражения в пользу республиканской армии, — только тогда мы с ним об этом даже не подозревали.
Это случилось возле Толедского моста, одного из ключевых участков фронта. День клонился к вечеру. Мне-то казалось, что все еще утро… Между тем было уже часов семь или восемь. Конечно, никто ничего не знал про разбившийся самолет; кое-кого удивляло и даже оскорбляло, что мы разыскиваем одного какого-то конкретного раненого, когда кругом их десятки, а мертвых и того больше. Бои здесь шли кровавые, да они и не утихли еще, как объяснил нам раненый ополченец, который сидел прислонившись к разрушенной стене; видно было, что усталость измучила его сильнее, чем рана.
— Сбили, говоришь? Да, было такое. Я видел, как «чато» разбился.
— А летчик? Что с ним?
— Погиб. Там все взорвалось.
— Точно? Ты уверен?
— Еще бы! Летчик этот — уж не знаю, кто он был, — мне жизнь спас. Да и всем нашим. Спикировал прямо на марокканские позиции… Мавры ведь нас здесь кругом обложили. Вон там, видишь те дома?…
Но я так и не успел взглянуть. Не успел проститься с Рамиро минутой — ну хоть несколькими секундами — молчания, потому что из-за гор щебня и обломков домов в каких-то двух метрах от нас появился вражеский танк. Казалось, он движется наугад, как большой загнанный зверь. Мы с Пепе в ужасе кинулись бежать, пытаясь где-то укрыться. Но танк почему-то не стрелял. Наверно, его подбили, а может, он отстал от своих и потерял ориентацию. И тут ополченец, с которым я только что говорил, закинул связку гранат прямо под железное брюхо. Он даже не привстал для этого с земли — небось догадался, что танкисты его не видят, и решил застичь их врасплох. Вот только рассчитал он скверно; прогремел взрыв, и взрывом этим его убило на месте. Но и танк тоже взорвался. Железные стены задрожали; дымящаяся машина проползла по инерции еще несколько шагов и встала. Мы с Пепе застыли в ожидании.
Во внезапно наступившей тишине послышался отчетливый лязг открывающегося люка. Кто-то пытался выбраться наружу. Сначала мы увидели руку с пистолетом. Потом другая рука ухватилась за край люка. Потом из люка показалась голова. Человек подтянулся и высунулся из люка почти целиком. На нем был мундир испанского офицера. Он наклонился и достал коричневый кожаный планшет; оглянулся по сторонам, держа наготове пистолет. Нас он не заметил и решил, что можно вылезать. Видно, он один выжил из всего экипажа. Офицер вытащил из люка правую ногу и вдруг замер, скривившись от боли. Затем удивленно посмотрел вниз. На животе у него расплылось большое пятно алой вязкой крови, она вытекала из раны медленно и неостановимо. Наверное, мы все трое поняли, что он умирает, — и он сам, и мы с Пепе. Он едва слышно вскрикнул — от удивления, а может, от отвращения, которое ему внушала собственная кровь, и умер — прямо в этой позе. Теперь он скорее походил на статую с приоткрытым ртом и с заряженным пистолетом в руке. Кровь все текла и текла из неподвижного тела и не могла остановиться.
Пепе встал.
— Ты куда? С ума сошел?! — я схватил его за рукав.
— Сумка…
— Какая еще, к черту, сумка?
— Видел, как он в нее вцепился? Там небось что-то очень важное. Надо ее забрать.
И он вылез из укрытия. Его решимость подействовала на меня, я понял, что он прав, и бросился на помощь. Я был уже рядом, когда Пепе склонился над танкистом и ухватил планшет. И тут прогремел еще один взрыв, и над землей выросло облако дыма. Меня отбросило назад взрывной волной.
Сначала мне показалось, что я ослеп. Через некоторое время я осторожно открыл глаза и убедился: все в порядке, я вижу. Черный дым тем временем потихоньку начал рассеиваться.
Пепе неподвижно лежал в трех метрах от меня, неестественно изогнувшись. Он прижимал к груди кожаный планшет, стоивший ему жизни.
Я осторожно забрал планшет и сел на землю рядом с ним. Был ли я виноват перед этим мальчиком, который бежал из своей деревни и пришел сюда только для того, чтобы умереть в двух шагах от меня? Он помог появиться на свет твоей дочке, а потом отдал жизнь за какую-то кожаную сумку. Мог ли он представить себе такое всего несколько месяцев тому назад, когда спокойно ходил за коровами и телятами у себя в деревне? Мы даже подружиться не успели, так ничего и не узнали друг о друге. Зато мы с ним вместе стали мужчинами в этот день седьмого ноября, в день его смерти. Я бережно сжал его руку. Она была еще теплой.
Открывая планшет, я представлял себе, что мы с Пепе делаем это вдвоем. Я хотел, чтобы там не оказалось ничего важного, — тогда мне не пришлось бы делать очередной выбор. Но деваться было некуда: на верхнем листе пачки бумаг, схваченной резинкой, красовалась надпись: «Совершенно секретно. Генеральный штаб генерала Варелы».
«Иди и отдай документы Рохо», — казалось, говорил мне мертвый Пепе. «Отдай», — вторил ему Рамиро. А вот Кортес — тот требовал, чтобы я немедленно уничтожил их, чтобы я даже не думал отдавать их республиканцам, и придет же в голову такая глупость… Эти голоса боролись во мне. Но ты и твоя дочка были живы, так что выбора у меня не было. Я снял куртку и укрыл Пепе. Сразу стало очень холодно, но я оставил ее там: мне почему-то казалось, что Пепе она нужнее.
Уже стемнело, когда я вновь переступил порог Совета обороны. У Миахи и Рохо шло совещание с республиканским начальством, но офицер, охранявший вход, не колеблясь вошел в зал, как только заглянул в планшет и в общих чертах оценил его содержимое.
Не успел он закрыть дверь изнутри, как я улегся прямо на пол и провалился в сон. Пять минут посплю, всего пять, сказал я себе, а потом пойду и расскажу тебе, что Рамиро погиб. Только пять минут… Но глаза тут же закрылись, и я проспал несколько часов кряду.
На следующее утро я, как и все мадридцы, узнал, что наступление Варелы разбилось о линию обороны, организованную генералом Рохо. Может, в планшете этом и не было ничего особенного, подумал я.
Прошли годы, десятилетия… Повторюсь: я по-настоящему одержим битвой за Мадрид и глотаю все, что мне попадается на эту тему. Как-то раз (Франко к тому времени уже давно умер, демократия была восстановлена) я прочитал одно исследование, автор которого, полковник кавалерии и по совместительству военный историк, утверждал, что победу республиканских войск в этом сражении предопределила случайная находка — планшет с планом штурма и расписанием действий войск Варелы на ближайшие дни. Планшет был изъят из подбитого вражеского танка, пишет он, и если бы не эта невероятная удача, битва за Мадрид, скорее всего, была бы проиграна.
Мне так и не удалось достоверно выяснить, был ли это наш с Пепе планшет. Но, думаю, Пепе рад был бы узнать, что он не зря погиб. Что поступок, который он совершил не раздумывая, в те ноябрьские дни тридцать шестого помешал фашистским войскам ворваться в Мадрид, сровнять его с землей.
Я открыл глаза: солнце светило вовсю, стояло утро восьмого ноября. Город праздновал победу. Да, Варела продолжал штурмовать столицу. Но жители Мадрида совершили чудо. «Они не прошли!» — с сильным акцентом выкрикнул кто-то. Это был француз, боец интербригады. Город не сдавался. Они не прошли. И не пройдут. Не должны пройти.
Теперь я мог рассказать тебе о победе, хоть и знал, что эта новость не утешит тебя. Ничто не сможет тебя утешить после гибели Рамиро. И все-таки ты должна была узнать правду. И я поспешил на площадь Аточа.
Поднявшись по лестнице, я остановился на площадке третьего этажа. Дверь в квартиру дона Мануэля была не заперта, и я заглянул внутрь.
Старик сидел в гостиной, в своем любимом «читальном» кресле, понурившись, задумавшись о чем-то. Таким подавленным я еще никогда его не видел; что-то зловещее было в его молчании. Казалось, ему все на свете безразлично, кроме колыбельки из ивовых прутьев, стоящей возле кресла — так, чтобы до нее можно было дотянуться рукой. В колыбельке мирно спала маленькая Констанца. Удивительно, как ей удавалось спать так безмятежно посреди ужаса, в котором все мы жили.
— Дон Мануэль, — пробормотал я (неужели им уже сообщили о гибели Рамиро?). — Вы уже знаете? Победа… Славная победа…
Дон Мануэль обернулся, скользнул по мне взглядом и вновь уставился в пустоту.
— Победа, слава… Будь они прокляты…
Я молчал, потрясенный его словами. Все двери в доме были открыты, в окнах не осталось ни одного целого стекла. Здесь было по-настоящему холодно, еще холоднее, чем на улице.
— Слава — она не приходит одна, Хоакин. Слава — это чудовище, страшное, лживое чудовище, лукавая строчка в учебнике истории, а за этой строчкой — низость, трусость, малодушие и много всего такого, чему и имя трудно подобрать. Ты знаешь, что расстреляли сотни заключенных? Просто ворвались, вывели их из тюрьмы и расстреляли. Вот они, жертвы хаоса, который никому не под силу остановить. Всюду зверствуют, куда ни глянь.
— Вы вроде не рады… Мадрид выстоял, понимаете?
— Я не об этом, Хоакин. Фашистов остановили, и, конечно, я этому рад. Но победа — это всегда грязь. Красивые победы только в детских книжках бывают. Да еще в торжественных речах победителей. А настоящие победы — они, они…
Дон Мануэль словно онемел; я тоже молчал — мне редко удавалось найти нужные слова в разговоре с ним. Тут он закашлялся, — мне показалось, он задыхается, но нет, это он пытался прочистить горло, чтобы сказать мне что-то важное. Все эти разговоры о славе были просто попыткой оттянуть разговор о главном. Он вздохнул. И тут я увидел у него в глазах слезы.
— Констанцы больше нет, — сказал он. Его рука потянулась к колыбели, вцепилась в край. Он разрыдался. — Бедная девочка!
Я подошел к колыбели. Все мои мысли в этот миг были только о тебе. Знаешь ли ты, что твой ребенок умер? Что Рамиро разбился? Твоя боль, боль, что подстерегала тебя, разрывала меня изнутри… Я заглянул в колыбель. Невероятно. Быть не может, чтоб у мертвого младенца было такое безмятежное лицо… И тут малышка вздохнула, причмокнула языком.
— Дон Мануэль! — заорал я, не помня себя от счастья. — Да она ведь жива! Откуда вы взяли, что она…
Дон Мануэль смотрел на меня с горечью, с трезвой безнадежностью. И этот взгляд заставил меня вдруг понять, что он имел в виду. Меня охватил ужас. Я шагнул к нему, затем попытался сделать еще один шаг, но у меня подкосились ноги, пришлось опуститься на стул. Потрясенный, я смотрел на дона Мануэля и ждал: вот сейчас он что-нибудь скажет, растолкует, вот сейчас выяснится, что это неправда.
— Констанца вышла на улицу рано утром. Она совсем отчаялась: за весь вчерашний ужасный день — никаких новостей, ни о Рамиро, ни о тебе. Ей бы после родов полежать, но куда там. Вскоре стали падать бомбы. Одна за другой, как это обычно бывает. Каждый день, целый день напролет… Да так близко — казалось, их бросают прямо на наш дом…
— Но это же неправда, — я выдавил из себя улыбку.
Дон Мануэль уже сам не знает, что говорит. Такого просто быть не может. Ты — и умерла? Бред какой-то.
— Мне сообщила хозяйка лавки. Она видела, как Констанцу сбило с ног, подбросило в воздух. Ее… ее разорвало на куски. Я побежал вниз. Это была она, Хоакин. Констанца. Бедная девочка!
Я встал; почему-то сидя я совсем не мог дышать. Бежать, подумал я. Мне нужно на улицу, подальше от того места, где дон Мануэль повторяет какие-то несусветные вещи. Мол, тебя нет. Как это нет? Как мне в это поверить? Совсем недавно была, а теперь нет? И даже не простилась со мной? Будто тебя ножом отрезали. И теперь ты мертвая, и тебя не будет в моей жизни. Да нет, что за чушь. Кто угодно, только не ты.
Наверное, на улице, среди мертвых тел, все встанет на свое место. Вот сейчас выйду и пойму: все в порядке, ты жива. Да, надо выйти. Но я так и не стронулся с места. Удушье поднялось откуда-то изнутри, в глазах стоял туман. И я наконец понял, что больше никогда тебя не увижу, что тебя больше нет — нигде нет. И провалился в темноту.
Потом точкой света в конце длинного черного коридора возник голос дона Мануэля. В ушах стоял непрестанный, монотонный барабанный бой.
— А ведь она была аристократкой, Хоакин, — откуда-то издали доносился голос старика. — Представляешь? Графиней или герцогиней — что-то в этом роде. Констанца дель Сото-и-Оливарес. От этого самого «дель» она отказалась, когда вышла замуж за Рамиро. Детский поступок, что тут скажешь. Суть человека ведь не в том, есть ли у него приставка к фамилии. Но она так решила. Хотела начать новую жизнь просто Констанцей Сото.
Я открыл глаза. Я лежал на кровати, рядом сидел дон Мануэль. Правда обрушилась на меня, как только я пришел в себя: тебя нет, ты умерла. Бомба убила тебя на площади Аточа. Далекий грохот, похожий на барабанный бой, глухой, сбивчивый, отзывался у меня в груди, от него вздрагивали прутья кровати. Сражение продолжалось.
— Не знаю, как там у вас в приюте проходило первое причастие, — думаю, совсем не так. Для Констанцы устроили настоящий праздник в имении друзей ее родителей, вся челядь и местные крестьяне выстроились там вдоль дороги, ожидая ее приезда, будто это сама королева приехала. Только этот праздник ее не порадовал, нет, скорее, потряс, и отметина от него осталась на всю жизнь. Вот как оно иногда бывает: вместо того чтобы погрузиться с головой в свое счастье — белое платье, королевские почести, — девочка вдруг видит нечто такое, что круто меняет ее жизнь, ее саму. Там был один мальчик. И когда она увидела его, ей стало страшно. За него страшно. «Страшно» — она так и сказала, когда рассказывала мне об этом, уже взрослая. Это был деревенский мальчик, сын кого-то из слуг, рахитичный, с неровно выбритой головой — чтобы вши не заели. Бедняга смотрел на нее во все глаза. Наверное, не мог надивиться на прекрасную принцессу, которая вдруг пожаловала в его нищий, беспросветный мир. Представь себе, Хоакин, двое детей стоят и разглядывают друг дружку… Как просчитать с математической точностью вероятность события, которое глубоко затронет человека и переменит его жизнь? Девочка семи-восьми лет, дочь богатых людей, рожденная для того, чтобы жить отгородившись от мира и ни о чем не печалиться, вдруг видит что-то — и ее мир рушится, и она начинает задавать себе вопросы. Ну и какова математическая вероятность подобного? Один случай из сотни? Из тысячи? Как бы то ни было, именно это случилось с Констанцей дель Сото-и-Оливарес, с нашей Констанцей. Она стала другой. Не сразу, не за день, не за неделю, не за год. Может, даже не за десять лет. Но ход вещей не остановишь. Она стала интересоваться театром, книгами, школами для бедных. Ее интересовало все вокруг, она присматривалась, впитывала новое. Потом стала водить дружбу с прогрессивно настроенной молодежью, и это постепенно отдалило ее от родителей, от слоя, к которому она принадлежала. Познакомилась с Рамиро, вышла за него замуж… Они хотели жить радостно и осмысленно. Смерть — это всегда горе, Хоакин, но причины каждый раз другие. Смерть нашей Констанцы — горе, потому что она еще искала себя, свою дорогу. Искала, понимаешь? Она еще сама не знала, куда идти. Но точно знала одно: рано или поздно эта дорога привела бы ее к таким, как тот мальчик, что смотрел на нее в день первого причастия…
Я приподнялся на кровати. Сознание того, что тебя больше нет, змеей шевелилось во мне. Снаружи продолжал доноситься барабанный бой канонады, рвались бомбы, падающие на Мадрид, на людей. Старик был прав: не было никакой победы, нам всего лишь удалось ненадолго оттянуть смерть, вырвать у нее передышку. Те, кто осадил город, не остановятся, пока не добьются победы, а победить для них значит убить нас всех до единого.
Я спустил ноги на пол, сел, пытаясь унять дурноту, но она не проходила. Все вокруг плыло, ускользало куда-то… Только правда о твоей смерти никуда не делась. И не денется уже никогда. Я увидел в глубине комнаты колыбель твоей дочки, второй Констанцы. Я вспомнил вас с Рамиро в мансарде, тот единственный раз, когда вы были вместе — ты, твой муж и твоя дочка. И, сам не знаю почему, заговорил с тобой — с тобой, с твоей душой, со своим воспоминанием о тебе. Услышала ли ты меня в своем далеком краю?
— Констанца… Это я тебя убил.
Дон Мануэль смотрел на меня с недоумением.
— Да что же ты такое говоришь…
Заплакала девочка. Дон Мануэль взял ее на руки, чтобы успокоить. Плач ребенка испугал меня. Он обвинял меня, и я действительно был виноват: я передавал информацию врагу. Я помог убить Рамиро. Я убил Констанцу.
Теперь я должен выбраться из Мадрида, перейти линию фронта, поговорить с Кортесом… Нужно, чтоб он понял…
Я метнулся к двери, выскочил на площадку, бросился вниз по лестнице.
— Хоакин! — крикнул мне вслед дон Мануэль.
Я остановился, обернулся. Дон Мануэль смотрел на меня со страхом. Потом я понял: он боялся, что я оставлю его одного с младенцем на руках посреди обреченного города. Может, он еще не знает, что Рамиро убили!
— Я… — тихо начал я и сам ужаснулся тому, что сейчас скажу. И не осмелился договорить.
Я спустился еще на несколько ступенек. Мне не хотелось оборачиваться. Не хотелось видеть его лица. И лица твоей дочери тоже.
— Все это время я был лазутчиком, — произнес кто-то совсем близко.
Этим кем-то был я. Совесть не дала мне смолчать, укрыться за уютной привычной ложью. Я хотел остановиться, но слова вырывались сами по себе, жестокие, уродливые, непоправимые, и ранили меня самого сильнее, чем ошеломленного старика. — Я передавал информацию тем, кто сейчас нас убивает. Я шпион Варелы.
Только что я боялся обернуться, но когда произнес эти слова, все переменилось. Мне нужно было взглянуть на дона Мануэля, дождаться его ответа, узнать, что он теперь обо мне думает.
Страх на его лице сменился удивлением, затем недоверием… А затем — и это было хуже всего — печалью, безграничной, безнадежной.
Я не смог этого вынести. Я сбежал по лестнице — прочь отсюда, подальше от этого места. Выбежал из дома; улицы Мадрида полыхали огнем. Я бежал, бежал, бежал. Но последний взгляд дона Мануэля преследовал меня. Картина эта оставалась у меня перед глазами, беги не беги: вот он стоит на лестничной площадке и смотрит на меня, одинокий беззащитный старик, которого я только что бросил на произвол судьбы с маленькой девочкой на руках — твоей новорожденной дочерью, теперь уже круглой сиротой.
И все по моей вине.
Лабиринты времени…
Первый поворот: тридцать шестой год, Хоакин Дечен в последний раз смотрит на маленькую вторую Констанцу в доме на площади Аточа.
Второй поворот: две тысячи четвертый год, миг, когда я впервые увидел другую Констанцу — третью (предположительно третью) — в кафе на вокзале Аточа.
На месте перронов здесь теперь устроили большой зимний сад с пальмами, а на втором этаже, в глубине, — кафе и ресторан с террасой. Атмосфера в этом месте особенная, не мадридская, и дышится здесь совсем по-другому из-за увлажнителей воздуха, которые облегчают жизнь произрастающим здесь пальмам, а заодно, наверно, и черепахам, обитающим в маленьком пруду у входа. Писатель, даже если это писатель-неудачник, имеет право на свои странности; я, к примеру, всегда воображал, что здешние влажные испарения обладают магическими свойствами, по крайней мере, способствуют развитию литературных способностей. Я часто назначаю здесь встречи, надеясь, что собеседник, вдохнув воздух этого места, тоже попадет под его колдовское обаяние.
Уж не знаю, есть ли какие-то реальные основания у моих фантазий или нет, только от единственной посетительницы кафе, сидевшей в этот час за столиком, и впрямь веяло таинственностью. А может, я все это придумал, с меня станется.
Но была ли это Констанца — третья Констанца? Девушка сосредоточенно уткнулась в какие-то листки, испещренные цифрами, так что у меня была возможность хорошенько разглядеть ее перед тем, как подойти и заговорить. Итак, вопрос первый: действительно ли передо мной дочка второй Констанцы и внучка Констанцы дель Сото-и-Оливарес, или просто Констанцы Сото? Может, это родство — плод воображения Дечена? Или моего? Как бы то ни было, Дечен верил, что это третья Констанца. Разве он не свел счеты с жизнью ради нее и для нее? И вот теперь она сидит себе и преспокойно попивает чай в нескольких метрах от того места, где бомба убила ее бабушку много лет тому назад.
Лет ей было на вид двадцать пять — тридцать. Впрочем, я никогда не умел толком определить возраст человека. Наружность у нее была самая что ни на есть обыкновенная, пройдешь мимо — не оглянешься. Маленькая, крепкая, может, лишних пару килограммов. На ней были удобный джинсовый комбинезон с нагрудником и ковбойские сапоги. На соседний стул она небрежно бросила широкополую мужскую шляпу. Внешность, мода — такие пустяки, похоже, не особенно волновали третью Констанцу. Она полностью погрузилась в свое занятие и время от времени гримасничала и сосредоточенно шевелила губами, будто что-то шептала. Да, не красавица: круглолицая, нос длинноват… Девушка как девушка, ничего особенного. Иссиня-черные волосы коротко острижены. Кстати, а ведь Дечен нигде не пишет, какого цвета волосы у его Констанцы — той первой, уже почти мифической, которую любили трое мужчин и которой многие восхищались (пожалуй, и я в их числе). Но вообще-то, если верить описанию влюбленного Дечена, та Констанца никак не могла быть бабушкой этой девушки, по уши закопавшейся в свои бумажки. Конспекты, наверно. Или сама чьи-то контрольные проверяет. Она и впрямь была похожа на учительницу. А может, мне так показалось потому, что я — непонятно с какой стати — вообразил себе, что та, первая Констанца непременно бы стала учительницей, если бы выжила?
И тут девушка взяла со стола чайник и подлила себе чаю. И я увидел ее руки.
Длинные, ловкие, изящные белые пальцы… Как завороженный, я смотрел, как эти руки наливают чай, отводил глаза, делал шаг к ней, потом опять смотрел, как они высыпают в чашку сахар из пакетика, снова отводил глаза, опять делал шаг, смотрел, как они помешивают чай ложечкой, — смотрел и не мог оторваться.
Она отпила глоток и что-то стала записывать на листке. Левой рукой. Получается, эти руки она и впрямь унаследовала у той самой Констанцы Сото, минуя все лабиринты времени? Так и есть, теперь я это чувствовал.
Внезапно руки застыли в воздухе. Я готов был поклясться, что они смотрят на меня, точно так же, как я на них. Левая рука положила шариковую ручку на стол, подождала немного и сказала:
— Привет, я Констанца.
Нет, я не вру, мне правда показалось, что рука заговорила. Иллюзия была такой полной, что я вздрогнул. Я поднял взгляд и посмотрел в глаза девушке. Она улыбалась. Увидела мое слегка ошарашенное лицо и повторила:
— Привет, я Констанца. Мы ведь с тобой договаривались? Ты видео мне должен был передать. И книгу.
И то и другое я держал в руках, поэтому она меня и узнала. Пакетик с подарком лежал у меня в кармане.
— Да, конечно, прости! Я просто не знал, ты это или не ты. Семи ведь еще нет, вот я и сомневался…
— Мне тут нужно было это все просмотреть, — сказала она, небрежно ткнув пальцем в свои бумаги. — Тарифы, расписание полетов и все такое. Просмотреть и, что называется, утвердить. Ну так что же ты мне хотел передать? И где Хоакин?
— Как ты сказала — расписание полетов?… Послушай, а где это ты работаешь? — небрежно спросил я, изо всех сил стараясь держаться естественно.
— У меня своя авиафирма. Вернее, будет фирма, с завтрашнего дня. «Авиетки Аточа». Я знаю, по мне не скажешь, но я на самом деле летчица. Ну так что, отдашь мне пакет или так и будешь стоять? И что там, кстати?
Что сказать ей? Недолго думая, я выбрал самый простой ответ:
— Не знаю.
— А Хоакин? Он-то почему не пришел?
— Не знаю, — соврал я. Но тут же передумал: — Вернее, знаю. Он там, на видеопленке.
Она приглядывалась ко мне растерянно и с опаской. В глазах у нее блеснула тревога. Она не могла знать, что произошло на аэродроме, но, видно, поняла: что-то случилось. Что-то очень важное.
— Послушай, — я решил не ходить вокруг да около, — а Хоакин Дечен — он тебе кто?
Констанца слегка нахмурилась. Похоже, почувствовала, что я не из праздного любопытства спрашиваю; может, что-то такое было у меня во взгляде, после того как мои глаза увидели смерть Дечена. Она помолчала немного и ответила:
— Мой компаньон. С завтрашнего дня.
— Ну а пока что?
— Друг.
Я поднял брови. Дружба между девушкой и стариком за восемьдесят? Ага, кому-то другому расскажи. Она, видно, и сама поняла, что это прозвучало неубедительно, и поспешила уточнить:
— Ну, скажем так, не обычный друг. Скорее, друг моей матери.
А ведь я только что прочитал, как он ее увидел впервые, твою маму, без малого семьдесят лет тому назад, в этом самом доме, из которого я только что вышел… Беспомощная крохотная девочка на руках у дона Мануэля — возможно, еще более беспомощного.
— А мама твоя с ним когда познакомилась? Когда уже взрослая была? — увидев удивленное лицо Констанцы, я поспешил добавить: — Или раньше? Ну, может, еще в детстве…
— Слушай, ты только не обижайся. А как насчет тебя? Сам-то ты кто такой, можно наконец узнать? — перебила меня Констанца. И подалась вперед, пристально глядя мне в лицо. — Так… Что-то случилось с Хоакином?
— Давай сначала ты ответь, хорошо? — это прозвучало глупо и неуместно, детские игры какие-то. — А потом уже я расскажу тебе все. Все что захочешь.
Ну и рассердилась же она — и была права, наверно. Встала, взяла книгу и кассету.
— Все, я пошла.
И действительно повернулась и пошла прочь. Левша, как и ее бабушка, и с таким же твердым характером.
— Послушай, ты имя на стене видела? — крикнул я ей вслед, когда она уже была у самой двери. — И дату?
Она застыла на месте. Никакой надписи, конечно, она не видела, это было ясно по ее лицу. Но, похоже, сообразила, что это дело касается ее напрямую.
— Констанца, седьмое ноября тысяча девятьсот тридцать шестого года. Ты видела когда-нибудь эту надпись на стене?
И тут она рассмеялась — не сдерживаясь, от души.
— Так ты все это придумал, чтобы меня закадрить?
Я даже не улыбнулся. До меня вдруг дошло. Я затеял слежку за Деченом, влез без спросу в чужую жизнь — в его жизнь, в жизнь третьей Констанцы. Так должен быть от меня хоть какой-нибудь толк? Значит, я сейчас должен быть рядом с ней, смягчить удар, не допустить, чтобы она узнала о смерти старика из видеозаписи. Нужно сказать ей, тянуть больше нельзя.
Я подошел к ней — она не отстранилась, не попятилась. Только как-то сжалась вся, втянула голову в плечи. Наверное, почувствовала, что на нее надвигается какое-то неминуемое несчастье.
— Твой друг Хоакин разбился на самолете пару часов назад. Мне очень жаль.
Она коротко, с силой, вдохнула и выдохнула два или три раза и, нащупав рукой ближайший стул, опустилась на краешек.
— Это… там? — сказала она.
Я не понял вопроса, тогда она молча показала на кассету.
— Да. Он нанял оператора, договорился, чтобы тот заснял фигуры высшего пилотажа. А потом самолет рухнул, и оператор, естественно, заснял и это. Такова официальная версия. Но у меня есть своя. Я думаю, он нанял оператора, чтобы тот снял и то и другое — и фигуры пилотажа, и самоубийство. Потому что я почти уверен: он не случайно разбился. И он хотел, чтобы ты это увидела, хоть и знал, что тебе будет очень больно. Не спрашивай меня почему. Я и сам не знаю. Но эта запись, эти кадры его самоубийства — это его завещание тебе. Его наследство.
— Ты здесь неподалеку живешь? У тебя есть видеомагнитофон? Я должна это увидеть. Прямо сейчас.
— У меня нет, но у него был. У него дома, здесь недалеко. Я там работаю, стены скоблю перед ремонтом. Поэтому я обо всем узнал.
Констанца покачала головой; казалось, у нее в голове не укладывается столько новой информации…
— У него дома? У кого?
— У Хоакина. В мансарде, тут неподалеку. Только не говори, что ты там никогда не была…
— Хоакин жил здесь, в центре?
— А ты что, не знала?
— Мне он сказал, что живет в поселке рядом с аэродромом.
— Да нет, у него тут поблизости отличная квартира. Была. Где на стене та самая надпись. Пойдем, там есть видеомагнитофон.
Я кивнул ей: пошли, мол, не упрямься. Она подумала пару секунд и встала.
Мы перешли улицу, вошли в вестибюль. Поднялись по лестнице. Констанца шла впереди, оглядываясь по сторонам, будто окна, выходящие во внутренний дворик, и лампочки на лестничных площадках, и деревянные панели на стенах могли рассказать ей что-то новое о Хоакине Дечене, которого она открывала для себя заново. А ведь этим стенам действительно было что рассказать. В доме много лет не было ремонта, так что юный Дечен, влюбленный предатель, вполне мог касаться паркетных половиц или лестничных перил.
В квартиру мы вошли молча, как в церковь.
Констанца положила сумку и шляпу на стул и выжидательно посмотрела на меня. Я включил видеомагнитофон, вручил ей пульт и отошел подальше, чтобы не мешать.
Кадры с надписью на небе и взрывом она посмотрела стоя, словно в таком положении ей было легче сохранять самообладание. Когда пленка закончилась, она, не говоря ни слова, отмотала ее назад и принялась смотреть снова. На этот раз она присела — совсем близко от телевизора. Грустно улыбнулась, когда увидела волчок. Она снова и снова прокручивала кадры со смертью Дечена: круглое облако дыма вдалеке, почти беззвучный взрыв — так, глухой гул. Второй раз, третий, четвертый… После пятого раза она выключила видеомагнитофон и задумалась — ошеломленная, притихшая.
Я подошел к ней, взглянул в лицо. Казалось, она упорно о чем-то думает, глядя на потухший экран телевизора. А потом у нее на глазах выступили слезы.
— Он бросил меня одну. И именно сегодня, накануне седьмого числа…
Она говорила тихо, словно сама с собой. Я был не в счет, меня как будто не было. Но потом она обратилась ко мне:
— Почему же он не сказал мне, что живет здесь?
Потому что он был беглецом, подумал я. Потому что он бежал от тебя, прятался от тебя. Но говорить этого не стал, лишь протянул ей книгу:
— Тут он все объясняет. Думаю, тебе лучше прочитать ее сегодня. Пока не настало седьмое ноября. И раз уж обстоятельства привели тебя в этот дом и в этот день, то и читать стоит именно здесь.
Констанца заглянула в книгу. Потом обвела взглядом комнату, будто запоминая каждую подробность или пытаясь уловить невидимые следы присутствия Дечена, что-то неуловимое, что въелось в стены. Она пока еще не чувствовала настоящей боли от смерти своего друга. Просто еще не успела осознать. Наверно, это и помогло ей решиться. Она подошла к кровати и примостилась поудобнее. Похоже, формальности и приличия ее не особенно волновали. Ее не смутило, что на этой кровати совсем недавно спал человек, которого только что не стало; скорее всего, она этого и не осознала.
Мне нужно было позвонить, и я вышел на лестничную площадку, чтобы не отвлекать ее от чтения. Энрике был у себя в офисе и сразу взял трубку.
— Да узнал я, все узнал, о чем ты меня просил. Кортес мне все выложил. Но учти, это только потому, что мы с ним сто лет знакомы. Расскажешь мне потом, зачем тебе это все?
— Потом. Сейчас рассказывай ты.
— Отец нашего Пако, Луис Кортес, был военным летчиком, в гражданскую воевал на стороне франкистов. Дослужился до генерала военно-воздушных сил, одно время был министром. Погиб несколько лет тому назад — несчастный случай. Вот ему-то и принадлежал весь дом, кроме мансарды. То есть мансарда тоже сначала была его, но он ее Дечену этому подарил, давно, сразу как война закончилась. Дечен, я так понимаю, был его правой рукой. Знаешь, он ведь, оказывается, офицером был, Дечен твой. С шестнадцати лет на фронте. В авиации служил, у франкистов. Все время при Кортесе. Отчаянный, говорят, был человек. В самое пекло летал, ничего не боялся. И пуля его не брала. А знаю я все это потому, что Кортес-младший — страшный зануда. Я с ним целый час на телефоне провисел, так что учти, с тебя причитается. Уж на обед в ресторане я точно заработал.
— Что еще узнал?
— О Дечене — самую малость. Он дослужился до майора военно-воздушных сил, а потом, на самом пике карьеры, вдруг взял и ушел в отставку. После войны жизнь вел самую обыкновенную, скучную. Ну ты же знаешь, что говорят про героев войны. Мол, их скука сводит в могилу, жизнь без опасностей и приключений.
— Ну а дом он зачем продал?
— Деньги вдруг понадобились. До восьмидесяти лет дожил как схимник — и тут на тебе… Солидную сумму, между прочим, выручил. Двести с гаком тысяч евро. Кортес не поскупился. В память о дружбе Дечена с его отцом он и торговаться не стал.
— А не известно случайно, зачем ему понадобились деньги?
— Да нет, Кортес понятия не имеет. Собственно, он тоже в накладе не остался, давно хотел затеять там генеральный ремонт… И вообще, я не понял! — вдруг вскипел он. — Ты чем там занимаешься, а? Стены скоблишь или книгу пишешь?
— Не заводись. Прорвемся… Ладно, спасибо тебе, завтра увидимся. То есть нет, не завтра, — спохватился я. — Лучше послезавтра, восьмого. Завтра я, скорее всего, буду занят. До встречи. И еще раз спасибо.
Я повесил трубку. И снова вошел в дом.
Констанца успела скинуть свои ковбойские сапоги, чтобы устроиться поудобнее. Я улыбнулся: на ногах у нее были альпинистские носки грубой вязки, вполне подходившие к ее одеянию. В ней ощущалась какая-то удивительная, подкупающая непосредственность. И еще невероятное упрямство и наивная непоколебимая уверенность в своей правоте. Может, именно поэтому она казалась мне теперь такой хрупкой.
Я молча сел в кресло в нескольких метрах от нее. Поглощенная чтением, она не заметила моего присутствия. Сейчас она погрузилась в жизнь Хоакина Дечена.
Меня разбирало любопытство. Я ведь еще не знал, чем закончится зеленая книга. На столе лежала ксерокопия последней главы, но я слегка отвлекся — мне хотелось смотреть на Констанцу. Увлекательное это занятие — наблюдать, как человек, который тебе небезразличен, читает хорошо знакомый тебе текст. Каждая ее гримаска, каждая полуулыбка или грустная тень, пробегавшая по лицу, каждый удивленный взгляд заставляли меня угадывать, какие именно строки она сейчас читает. Говорят, — и это правда, — что книги меняются в зависимости от читателя; выходит, каждый читает свою собственную книгу. Я уже почти закончил книгу Дечена, а теперь перечитывал ее снова, вглядываясь в лицо Констанцы. (За этим занятием я и провел, в сущности, всю ночь — наблюдал, как она листает страницу за страницей. Будто смотрел в зеркало, в котором отражалась книга Дечена, и этим зеркалом было ее лицо, которое внезапно показалось мне прекрасным.)
Я вздохнул и уже было собрался приняться за очередную главу, когда в голове у меня всплыла одна фраза, произнесенная Энрике. Поначалу я не придал ей особого значения, но теперь, вспомнив, почувствовал, будто меня с размаху огрели чем-то.
Я тихонько вышел — Констанца даже не заметила — и снова позвонил Энрике.
— Слушай, мне почудилось или ты действительно сказал, что Кортес-старший, тот, что был летчиком, погиб в аварии?
— Да нет, не почудилось. Он на самолете разбился.
— А при каких обстоятельствах? Какой-нибудь коммерческий рейс?
— Нет, на своей авиетке. Благотворительное авиашоу, он показывал там разные штуки — ну знаешь, всяческие вензеля, которые эти чокнутые выписывают в небе. Фигуры высшего пилотажа.
— А ты случайно не помнишь, какая именно это была фигура?
— Кортес-младший мне говорил… Погоди, сейчас вспомню… Ну как же эта штука называется… Не то завиток, не то крючок… Что-то в этом роде.
— Может, волчок?
— Точно, волчок! Вот во время этого самого волчка он и разбился.
Время потекло по-другому после долгих дней войны. Или, может, это я изменился, мое восприятие происходящего?
Я плавал в мертвой, стоячей воде повседневных обязанностей, где не было ни дней, ни месяцев, ни лет. И одновременно мне казалось, что все происходит очень быстро. Я был измучен своими призраками, и мне никак не удавалось излечиться и снова ощутить радость жизни.
Твоя смерть оказалась пропастью, в которую я рухнул. И я думал, что мне никогда из нее не выбраться. Но время — новое, изменившееся время — расставило все по местам. Конечно, я выбрался, конечно, я сумел осознать, что встреча с тобой была ослепительной вспышкой, сильнейшим потрясением — вроде того, которое я пережил, впервые очутившись в Мадриде и увидев всех тех женщин на улице Алькала. Первой юношеской любовью — вот чем ты стала для меня, Констанца. Или могла бы стать, если бы не война. Эта любовь родилась тогда, когда я из мальчика превращался в мужчину; она накрепко вросла в мою жизнь и оставила в душе черный осадок вины и раскаяния. Почему проклятой судьбе было угодно привести меня в твой дом — именно в твой? Почему я должен был стать свидетелем твоей смерти? Твоей, и Рамиро, и несчастного Пепе.
Я бежал из дому, бежал от самого себя в тот ноябрьский день, когда оставил твою дочь на руках дона Мануэля. Я не мог поступить иначе. Но воспоминание о старике с младенцем на руках не оставляло меня. Оно преследовало меня при всех перипетиях моего побега и позже, когда мне удалось после многочисленных приключений перейти на сторону франкистов. Заметь, я не говорю — на сторону врага. К тому времени душой я уже успел прикипеть и к тем, и к этим. И по обе стороны от линии фронта мне довелось испытать любовь и познать счастье.
Когда я наконец обнял своего командира, он не был уже прежним Кортесом. Да и я уже не был прежним Хоакином. В неопрятном мундире, небритый, капитан Кортес внешне все-таки еще походил на того человека, который научил меня летать, но внутри он стал другим: что-то неуловимое в глубине его взгляда, который теперь казался усталым и тусклым, почти мутным, раньше времени состарило его. Он как-то сжался, потемнел; война отучила его радоваться. Война, а может, то, что он убил Рамиро. Ненависть ненавистью, но никому не под силу убить лучшего друга и потом не вздрагивать по ночам от внезапно нахлынувших воспоминаний о тех беззаботных временах, когда они вместе мечтали и радовались, не мучиться мыслью о том, что отобрал у друга его будущее. Убить — значит украсть. Ограбить мертвого, отнять у него будущую надежду, радость, мечты, смех, отрезать путь к возвращению в то прошлое, где все счастливы и никто ни в чем не виноват.
Какой же все-таки странной была эта моя двойная война! В Мадриде героями были ополченцы, интербригадовцы, за его пределами говорили об отваге марокканских солдат, о том, как рискуют меткие нацистские летчики. А правда — она, казалось, была на стороне мертвых, погибших по ту и по другую сторону фронта, молчаливых, невозмутимых. Те, кто сражался под командованием Варелы, считали Мадрид бастионом, где окопалась горстка убийц и лихоимцев, хуже которых не знала Испания. С особой яростью здесь проклинали Миаху и Рохо, без решительности и ума которых город бы пал; их называли предателями дела, за которое сражалось большинство профессиональных военных. Но я-то помнил слова генерала Рохо о верности и предательстве, которые мне по чистой случайности довелось услышать, и мне казалось, что правда на его стороне, на стороне человека, который предпочел пойти против всех, чтобы сохранить верность слову в заранее проигранном сражении, — и сумел это сражение выиграть.
Правда, Кортес не спешил осуждать Рохо и остальных офицеров, защищавших Мадрид.
— Солдат не может бежать, как это сделали министры республиканского правительства. Солдат должен сражаться. Как Рохо. Я бы поступил точно так же. И я уважаю его. А теперь рассказывай. Про Мадрид, про дом, где ты жил. Трудно тебе было туда проникнуть? Ну рассказывай же!..
И я принялся рассказывать, понимая, что за его профессиональным интересом, военной надобностью или дружеским любопытством скрывается тайное желание побольше узнать о тебе. Мне трудно было совсем не упоминать о Рамиро, и когда его имя по моей оплошности проскальзывало в разговоре, в глазах моего капитана я видел что-то похожее на панический ужас. И еще я все никак не мог отважиться сказать ему, что ты умерла, Констанца. Наконец я понял, что дальше скрывать правду бессмысленно. Пора рассказать ему все, и чем раньше, тем лучше.
Это было на рассвете, ветер дул сильный, порывистый. Кортес собирался взлететь. Бои за Мадрид продолжались, хотя и довольно вяло; с каждым днем становилось все очевиднее, что осаждающие город потерпели поражение. Вдали слышались выстрелы, грохотали пушки.
— Констанца… Она погибла утром восьмого числа, — выпалил я, улучив момент, когда механики занялись его новым самолетом — «фиатом» итальянского производства. Первые слова произнесены, дальше говорить стало легче. — Ее убила бомба, сброшенная с самолета на площадь Аточа. Накануне перед этим у нее родилась дочь. Девочку назвали Констанцей, в честь матери, — договорив до конца, я сглотнул слюну и умолк, ожидая ответа.
Кортес выслушал меня стоя, не изменившись в лице, дрожа на ледяном ветру; глаза его стали каменными. Он ничего не сказал, даже не вздохнул; так молча и забрался в свой «фиат». Самолет покатился по взлетной полосе, набрал скорость, но когда настало время подниматься в воздух, он продолжал скользить дальше, дальше. Кортес спохватился и принялся отчаянно тормозить — но было уже поздно. Самолет выскочил на добрые несколько сотен метров за край взлетной полосы; оторвавшись от земли, он тут же с грохотом ткнулся носом в землю, почти вертикально задрав хвост. Мы с механиками со всех ног бросились к этому торчащему хвосту. Невероятно, но Кортес был цел. Его била дрожь; не видя нас, он смотрел куда-то вдаль невидящим взглядом. Винты, повинуясь судорогам мотора, продолжали рубить землю, пока не треснули и не развалились на части. Эти обломки, казалось, воплощали все, что скрывало застывшее, упрямое, бесстрастное лицо Кортеса. Вот так, наверное, выглядела его душа, которая умерла в одночасье.
И таким вот каменным, застывшим, покорным судьбе и оставалось его лицо до самого конца войны. С таким лицом он встретил день окончания войны — день, когда победа оказалась на нашей стороне.
Пережить войну и остаться прежним — дело трудное, а то и вовсе невозможное. Кем был я, когда двадцать восьмого марта тридцать девятого года вошел в Мадрид вместе с победителями? Одним из них? Нет, это со стороны казалось, что колонны победителей, идущие стройным шагом, охвачены единым порывом, но на самом деле у каждого за плечами была своя история, своя боль, своя, не похожая на другие, разлука с кем-то дорогим. Я не был одним из них. Я был Хоакином Деченом, лейтенантом авиации в свои восемнадцать за боевые заслуги. Но еще я был просто человеком, который, едва машина въехала в Мадрид и двинулась вперед по Пасео-де-ла-Кастельяна, понял, что его старая рана снова открылась и кровоточит, — а ведь временами мне удавалось ненадолго убедить себя, что она уже зарубцевалась.
Площадь Аточа была запружена ликующими людьми; все это время они скрывались, опасаясь за свою жизнь. Теперь враги поменялись местами, и те, кто еще вчера свободно ходил по улицам города, опасались худшего — и, к несчастью, не зря. Час мести (который на пропагандистских плакатах и по радио напыщенно именовался «долгожданным часом мира») настал. Убийцы против людей: дон Мануэль прав, только так и бывает на войне.
Никогда во время моих безумных воздушных вылазок (а я очень часто вызывался выполнять самые опасные задания) мне не было так страшно, как в тот миг, когда я после долгих колебаний решился поднять голову и посмотреть на окошко мансарды на площади Аточа. Наглухо закрытое, мертвое окно равнодушно взирало на лихорадочно-суматошный людской поток. Успокоило меня это или раздосадовало — не пойму. Мне нужны были новости, хоть какие-нибудь, и это молчание внезапно показалось мне дурным предзнаменованием — сам не знаю почему. Тебя ведь уже два с половиной года как не было на свете…
В окне третьего этажа шевельнулась тень — словно кто-то с опаской наблюдал за шествием победителей. Дон Мануэль, тут же подумал я. Безотчетный, бессмысленный страх охватил меня, и я велел шоферу прибавить скорости: скорее прочь от этого места!.. Когда-то я бежал из Мадрида, бежал от них двоих — от старика и от твоей дочери. Теперь я вернулся в город, но бегство мое не закончилось, и я снова бегу от них обоих — ведь они наверняка до сих пор вместе. Тогда я и понял: война — не главное. Единственно важным для меня было мое нескончаемое бегство. Бежать от того, что я натворил, бежать от себя самого.
Вечером, неделю спустя после триумфального въезда в город, я набрался смелости, чтобы снова подойти к твоему дому. Решено: вот сейчас я войду в подъезд, поднимусь по лестнице, зайду в мансарду, в твою квартиру. Может, у меня даже хватит духу позвонить в дверь старика.
Стояла темная весенняя ночь. Город никак не мог затихнуть: победители шумно праздновали победу, вооруженные люди, держась кучками, рыскали по улицам в поисках жертв — врагов или тех, кто мог сойти за врагов. Мой мундир, мои нашивки охраняли меня.
Я толкнул входную дверь. Она была не заперта и тут же подалась, когда я неуверенно толкнул ее, — точно как тогда, когда я мальчишкой пришел сюда впервые. Внутри было темно. Наверно, электричество отключили, подумал я, вслепую шагнул вперед, встал на первую ступеньку, нащупал рукой перила. Я уже собирался сделать второй шаг, когда ужасающий крик разорвал ночную тьму. Крик доносился сверху. Позабыв о предосторожностях, я выхватил пистолет и бросился вверх по лестнице, не разбирая дороги, натыкаясь на стены и перила локтями и коленями. Еще один вопль, еще пронзительнее. Я понял, откуда он доносится.
Стыд, жгучий стыд. Где я был все эти дни, почему не пришел к старику сразу, как только войска вошли в Мадрид, почему не предложил свою помощь? Как я мог из-за собственной трусости оставить его с девочкой на целую неделю одних среди волков?
Достав из кобуры пистолет, я взвел курок и ударом ноги распахнул дверь. В квартире было не совсем темно: на стенах плясал причудливый оранжевый отсвет трех или четырех свечек. На меня смотрели дула двух винтовок; я услышал звук передергиваемого затвора, увидел перекошенные лица тех, кто в меня целился. Марокканец и легионер. Они застыли от удивления, и это спасло мне жизнь. Да еще мундир снова сослужил мне службу, мой мундир героя. Они опустили оружие, неохотно отдали честь. Но злоба так и рвалась наружу, как они ни сдерживались: это была их территория, их добыча, и им вовсе не хотелось с кем-нибудь ею делиться, будь этот кто-то хоть трижды герой войны. Дверцы шкафов были распахнуты, ящики комода выдвинуты, а их содержимое в беспорядке валялось на полу. Грабители не церемонились. Обычное дело — трофеи, добыча, взятая с бою, неплохое подспорье к солдатскому жалованью. О таких вещах победители рассказывать не любят.
— Что здесь происходит? — я был в ярости.
— Ничего такого, мой лейтенант, — ответил легионер.
— А что же это за крики?
Легионер пожал плечами, но не успел ответить: из комнаты донесся новый крик. Я бросился туда.
Дон Мануэль стоял посреди комнаты, вытянувшись по стойке смирно — вернее, изо всех сил пытаясь удержаться в этом положении. Он был раздет до пояса, и это потрясло меня больше, чем проступившая кое-где кровь; дона Мануэля я привык видеть тщательно, безупречно одетым — неизменный костюм-тройка и галстук-бабочка. И для меня мучительным оказалось зрелище его наготы — белая кожа, беззащитная, дряблая, старческая плоть. Еще один легионер — судя по знакам отличия, капрал — стегал хлыстом старика.
— Смирно, говорю! — орал он всякий раз, когда измученное, судорожно вздрагивающее тело дона Мануэля сотрясала судорога после нового удара. Видно, стоять смирно у дона Мануэля не получалось, поэтому палач бил снова и снова.
Он уже размахнулся для очередного удара, когда я прицелился ему в голову. Все случилось очень быстро, гнев и горячность не дали мне времени на раздумья. Выстрел прозвучал в маленькой комнатке как разрыв пушечного снаряда. В эту решающую, крохотную долю секунды мое сердце оказалось расторопнее моего гнева: при выстреле рука непроизвольно опустилась. Что-то во мне дрогнуло, не позволив совершить убийство. Сегодня я благодарен судьбе за это.
Капрал с визгом упал на пол, обхватив окровавленную ногу выше колена.
В комнату ворвались те двое с ружьями наизготовку. Я не дал им опомниться.
— Шальной выстрел. Ваш товарищ по оплошности ранил себя. В лазарет его, — скомандовал я легионеру.
Они даже не пикнули — ни те двое, ни тот, кто корчился на полу с простреленным бедром. Легионер и марокканец, злобно косясь на меня, подняли раненого и вынесли его из комнаты. Они кипели от ярости, но поднять руку на офицера все же не осмелились: во франкистской армии за неповиновение старшему по званию расстреливали глазом не моргнув.
Я закрыл за ними дверь и поспешил уложить дона Мануэля на кровать. Старик был почти без сознания. Он умирал. Чего добивались эти мерзавцы, когда мучили его с таким остервенением?
Я принес немного воды, обтер ему лицо. Похоже, мне больше нечем было ему помочь.
— Дон Мануэль, — тихо проговорил я. — Дон Мануэль… Что же они с вами сделали?!
За годы войны я много всего повидал, но никогда еще не испытывал такого ужаса, такой боли — почти физической. Я поклялся себе, что найду этих нелюдей, всех троих, и заставлю их заплатить за содеянное. Видно, они думали, что старик прячет дома драгоценности.
Услышав свое имя, дон Мануэль открыл глаза. И узнал меня. Пристальный, суровый взгляд. Мне стало страшно.
— Ты правда Хоакин? А может, ты его призрак? — спросил он.
Его слова ужаснули меня. Наверно, он прав: я был всего лишь призраком прежнего Хоакина. Но, должно быть, сам этого до сих пор не замечал.
— Да, дон Мануэль. Это я…
Губы старика тронула улыбка. А может, это была гримаса приближающейся смерти.
— Я им ничего не сказал, Хоакин! Ты слышишь, ничего! — и он заплакал. Дико звучит, но мне показалось, что он плачет от облегчения и радости. Он сжал мою руку выше локтя с неожиданной силой; я понял, что ему осталось жить считанные мгновения. — Небо прислало тебя сюда! Потому что я им ничего не сказал. Понимаешь? Я не сказал им, где малышка! Но теперь-то я могу умереть спокойно, Хоакин. Ты ведь позаботишься о Констанце? Для этого ты и вернулся, верно?…
И он умер, оставив меня наедине с вопросом, который мне теперь некому было задать и который так и повис в воздухе, как проклятие или как признание моего бессилия.
— Где она? Дон Мануэль! Где малышка?…
Как, как мне теперь заботиться о ней, если я не знаю, где ее искать? В отчаянии я тряс бесчувственное тело старика. Тысяча вопросов вертелась у меня на языке, но он уже не мог на них ответить. Может, это правда — то, что он сказал, и я вернулся сюда, чтобы позаботиться о твоей дочери, где бы она сейчас ни была? Может, только ради этого я уцелел во всех переделках, когда упрямо и хладнокровно искал смерти? Я хотел, чтобы меня убили, для того чтобы не думать о тебе, о твоей смерти, которая невыносимой тяжестью лежала на моей совести, пусть я и не был виновен формально.
Несколько часов я провел рядом с мертвым телом дона Мануэля, накрытым грязной простыней. Когда рассвело, я поднялся в мансарду.
Я открыл окно и выбрался на крышу. Руки и колени сразу узнали наклонный черепичный скат, по которому я карабкался на то место, откуда отправлял в небо донесения.
Над Мадридом вставал рассвет. Справа простирался квартал Саламанка, который Франко запретил бомбить, слева лежали в руинах рабочие кварталы. Страдает ли город от ран, как живое существо? Или он и впрямь равнодушен к боли и, не чувствуя собственных каменных ран, бесстрастно наблюдает за человеческой агонией?
Легионеры, догадался я, искали девочку по распоряжению Кортеса; никому больше не было до нее дела. Вот оно, мое последнее, хоть и бессознательное, предательство по отношению к тебе и твоей дочери. Когда я бежал из города три года тому назад, Кортес потребовал рассказать ему о тебе. Я понял еще тогда, что за его безрассудной отвагой, за его стремлением во что бы то ни стало выиграть эту войну скрывалась одержимость тобой. Что чувствовал к тебе Кортес? Полюбил ли он тебя еще до того, как ты выбрала Рамиро? Надеялся ли завоевать тебя после победы? Любил ли он тебя? Что сломалось в нем, когда он узнал о твоей смерти? Много лет спустя он признался мне, что в день твоей гибели, в разгар битвы за Мадрид, он сам бросал бомбы на город. Кортес не говорил этого впрямую, но я-то знаю: до скончания дней он жил с сознанием того, что убил не только твоего мужа, но и тебя. Точно так же Рамиро мучился из-за смерти Хавьера. Я их обоих понимаю. Я тоже вот уже несколько десятилетий обвиняю себя в твоей смерти и в смерти Рамиро, хотя и не виноват в них. Но вина, как любовь, не оставляет нам выбора.
Стоя на крыше и глядя сверху на предрассветный весенний Мадрид, я спрашивал себя: сколько их здесь, в этом городе, — тех, кого мучает совесть? Сотни, тысячи? Проклятая война превратила город, всю страну в место, населенное неприкаянными душами. Наша больная совесть, наши страшные тайны останутся с нами навеки, до последних дней, как бы мы ни прятали их в самую глубину души. Впрочем, не у всех так. Были и другие: они и не думали страдать, напротив, они упивались своей победой, праздником, который пришел на их улицу…
Зачем Кортесу нужна была девочка? Чтобы уберечь ее от горькой участи потерпевших поражение в этой войне? Не все ли равно. Девочки нигде нет, она исчезла бесследно. Где, в каком уголке Мадрида спрятал ее дон Мануэль? Я пристально вглядывался в город сверху. Где она, моя вторая Констанца?
И тут я увидел «фиат» Кортеса. Он неспешно летел над поверженным городом. Похоже, капитан задается теми же вопросами, что и я, и не находит на них ответа. Из самолета повалил красный дым. Я встревожился. Авария, мотор отказал? Нет, приглядевшись, я понял: так задумано. Кортес привязал к фюзеляжу целую связку бенгальских огней и теперь собственноручно поджигал их, открыв дверцу самолета. Убедившись, что все идет как надо, он закрыл дверцу и принялся выполнять какие-то причудливые фигуры высшего пилотажа. На небе одна за другой стали появляться буквы из красного дыма. Несколько прохожих внизу остановились и, задрав головы, наблюдали за необычным зрелищем.
«Констанца», — вывел он на небе струей алого дыма. Послание в бутылке, с размаху брошенное Кортесом в волны небесного океана?
Буквы вскоре растаяли в облаках, послание исчезло… Но я понимал Кортеса. Он знал, что убил родителей маленькой Констанцы. Поэтому и искал ее. Трехлетняя девочка могла бы стать для него искуплением.
Вскоре состоялся большой парад по случаю победы. Я как адъютант новоиспеченного полковника Кортеса, аса франкистской авиации, сидел на трибуне. В нескольких метрах от нас сидел сам Франко. Я вспомнил тот день, когда увидел его в Бургосе. Тогда его только-только назначили главнокомандующим, а я воображал себе, как поднимусь когда-нибудь на самолете его брата Рамона, отважного летчика с «Плюс Ультра». Но Рамон погиб на войне, а от «Плюс Ультра» осталось лишь воспоминание, старая черно-белая фотография. Еще одна мечта, растоптанная на этом ослепительном параде.
Может ли сердце отсчитывать время? Сколько ударов сердца приходится на двадцать пять лет?
Я задал себе этот вопрос на рассвете, в шестьдесят четвертом году, надевая перед зеркалом свой парадный мундир.
Режим готовился отпраздновать четверть века своего пребывания у власти. Очередной военный парад должен был пройти по мадридскому проспекту Пасео-де-ла-Кастельяна, переименованному к тому времени в проспект Генералиссимуса. Празднества проходили под лозунгом «Двадцать пять лет мира». Я снова буду стоять рядом с Кортесом на трибуне, всего в нескольких метрах от Франко. Для большинства из тех, кто в этот день удостоился чести стоять рядом с генералиссимусом, сам этот факт был неопровержимым доказательством того, что жизнь удалась. Они гордились собой, это было видно по их лицам, их взглядам, по новеньким, с иголочки, безупречно выглаженным мундирам.
А вот в моей безрадостной жизни, пожалуй, почти ничего не изменилось за двадцать пять лет, со дня того парада в тридцать девятом, разве что теперь я носил мундир майора.
А что же Кортес? Остался ли он прежним, несмотря на свои награды, на свое звание генерал-лейтенанта военно-воздушных сил? В глубине души мы с ним оба знали, в кого превратились: в двух побежденных победителей. Да, мы добились успеха — точнее, того, что люди называют успехом, — во всем, кроме того, что стало нашей болезненной одержимостью: ни мне, ни ему так и не удалось найти твою дочку. Девочка бесследно исчезла.
И все же у Кортеса эта одержимость сочеталась с реальной жизнью куда лучше, чем у меня. Он женился, у него родился сын; он стал успешным предпринимателем, финансировал разные проекты в самолетостроении и даже сам спроектировал пару легких самолетов; по служебной лестнице он поднимался так быстро и неуклонно, будто в этом и было его предназначение — добраться до самого верха; ему даже в министерском кресле довелось несколько месяцев посидеть. Кроме того, он был богат. Большая часть недвижимости, экспроприированной победителями в марте тридцать девятого года в качестве «возмещения ущерба», и дома тех, кто погиб или бежал из страны, перешли в руки военных — самых удачливых из них. Многие из тех, кому удалось вскарабкаться на трибуну поближе к Франко, знали об этом не понаслышке. За героизм, проявленный в бою, Кортес получил несколько домов в Мадриде, в том числе и дом на площади Аточа. Теперь ему принадлежало все здание целиком, кроме той самой мансарды, которой он когда-то владел на законных основаниях. Узнав, что мое имя значится в списках счастливчиков, которых за боевые заслуги собирались отблагодарить недвижимостью, я тут же попросил эту мансарду. Кортес отдал ее мне не задумываясь; в чем, в чем, а в щедрости ему нельзя было отказать.
Наверно, я мог сойти за вполне благополучного человека — как же, ведь у меня теперь был свой дом, и майорские нашивки, и акции в авиационной фирме Кортеса… Со стороны могло показаться, что все у меня хорошо, что мне удалось забыть о тебе и о твоей дочери.
Но любое напоминание о прошлом, о страшных военных и послевоенных годах, растравляло мне душу; снова и снова являлся вопрос, на который я не мог найти ответа: куда подевалась вторая Констанца?
Однажды, в середине шестидесятых, прошлое вернулось. Или правильнее было бы сказать — начало возвращаться?
В пятьдесят седьмом году генерал Висенте Рохо, когда-то возглавлявший армию, которая потерпела поражение в этой войне, обратился к властям с ходатайством, чтобы ему позволили вернуться из изгнания на родину, в Мадрид; такое разрешение ему дали. Одни встретили эту новость с удивлением, другие — с неудовольствием, а большинство — равнодушно. А я все не мог забыть ту ночь накануне битвы за Мадрид. «Я присягнул на верность Республике». Думаю, из-за этих слов, произнесенных с такой беспощадной искренностью в таких тяжелых обстоятельствах, моя вина, мое предательство перевешивали для меня все мои успехи.
О возвращении Рохо я узнал из разговоров в конторе Кортеса — газеты обходили эту тему. Вскоре после возвращения генерал Рохо был отдан под суд за участие в военном мятеже и приговорен к пожизненному заключению. До тюремной камеры дело не дошло: он попал под амнистию. Зато другая цель, которую наверняка преследовал Франко, жестоко унизив генерала, была достигнута: тот впал в депрессию, от которой так и не оправился до самой смерти в июне шестьдесят шестого года. Я следил за подробностями судебного разбирательства, потому что втайне восхищался генералом.
В суде, где рассматривалось дело, я узнал его адрес. Генерал жил на улице Риос Росас; увидев ее название в материалах дела, я вспомнил разговор с Рохо в ту далекую ночь: «Я живу на площади Аточа». — «А я — в Риос Росас».
Рохо вышел из дому на свою ежедневную утреннюю прогулку. Я велел шоферу заехать за мной попозже, а сам занял позицию у входа в дом, чуть в стороне. Я хотел пожать ему руку, сказать, что, на мой взгляд, с ним поступили подло. Что я глубоко уважаю его. Неподалеку двое мальчишек семи-восьми лет фехтовали деревянными палками; на одном была бумажная шапка, другой повязал вокруг шеи самодельный рыцарский плащ — обрывок скатерти. Заметив мое присутствие, они тут же прекратили игрушечный рыцарский турнир и восторженно уставились на меня: как же, взаправдашний офицер, в настоящей форме!
Рохо появился через полчаса. Ничто в нем не напоминало о прежнем Рохо, но я сразу понял, что это он: пожилой сеньор (но еще не старик), задумчивый, усталый, с газетой под мышкой. Чуть пониже ростом, чем мне запомнилось. Лица я не узнал. В моей памяти остался человек со спокойным взглядом, полным непоколебимой решимости. Впрочем, может, задним числом я его немного приукрасил.
В два шага я пересек улицу, догнал его. Но заговорить не решился. Не знаю, что меня остановило, — может, то, что на мне был мундир армии, которая так с ним обошлась. Я уже собрался повернуться и уйти, махнув рукой на свои планы, но тут у него из рук выпала газета, а он и не заметил. Я поднял газету (это был свежий номер «ABC»), догнал генерала и коснулся рукой его плеча. Он вздрогнул, затравленно огляделся по сторонам и только потом взглянул на меня. Его глаза вспыхнули от негодования, хотя лицо оставалось неподвижным, только подбородок слегка дрогнул.
— Что… что такое?… — процедил он сквозь зубы. Выбрит он был скверно, на подбородке пробивалась седая щетина — передо мной стоял больной беззащитный старик. — Что вам от меня надо? Что еще вам от меня надо?…
Улыбка застыла у меня на губах. Конечно, он не узнал меня. Это моя форма вызвала его гнев — справедливый гнев. Там, на суде, мне некуда было деваться, — вот что я прочитал в его полном ярости взгляде, — там я был вынужден терпеть вас, сносить унижения от вашего брата, вы вдоволь надо мной покуражились и едва в тюрьму не посадили. Но здесь, на улице, — увольте.
— У вас газета упала, — выдавил я из себя.
Он увидел «ABC», и лицо его немного смягчилось.
— Благодарю, — сухо бросил он.
Повернулся и пошел прочь.
Дети подошли поближе. Они улыбались; одно мое слово — и я стал бы их героем. У одного из мальчишек, того, что повыше, нос был перепачкан шоколадом.
Рохо шагал к подъезду — сгорбившись, но не потеряв ни капли достоинства.
Вскоре я узнал, что его не стало.
В Мадриде, в нашем с тобой Мадриде, в его Мадриде, никогда не было улицы, названной в честь человека, который спас тогда город от вторжения фашистских войск. И сейчас такой улицы нет.
Та встреча все оживила заново, причем не только в моей душе… Судя по тому, что случилось почти сразу же, призрак Рохо решил подтолкнуть судьбу в нужном направлении и напомнить ей о нашей с тобой истории. Вот судьба и вспомнила, и извлекла эту историю оттуда, где она хранилась так долго, и решительным движением стряхнула с нее пыль.
Это случилось воскресным утром, весной шестьдесят шестого. Рано утром я вышел на прогулку — по выходным это вошло у меня в привычку. Мне всегда нравился безлюдный город, а таким он бывал только в эти утренние часы. Я зашел в бар, где обычно завтракал после таких вот прогулок, перед тем как подняться к себе. Хозяин бара, Фермин, хлопотливый, неутомимый, лично открывал свое заведение каждое утро. Ему было около шестидесяти; как-то раз он рассказал мне, что во время войны уже работал здесь, за барной стойкой, помогал отцу. Я его не помнил, хотя наверняка мы с ним тогда не раз встречались. Теперь он с удовольствием рассказывал всем желающим послушать истории о сражениях и летчиках, о бомбежках и смерти, о взаимовыручке и солидарности мадридцев. И истории эти принесли Фермину популярность в квартале. Он знал, что я военный: иногда мне приходилось выходить на улицу в форме. Правда, я не стал ему рассказывать, что был среди этих самых героев, которые брали город.
Когда я вошел, он как раз что-то рассказывал небольшой компании молодых людей. Парни и девушки слушали Фермина с неподдельным интересом.
— Так оно и было, что я, врать стану?… Прямо на небе, — продолжал он свой рассказ, расставляя перед посетителями чашки с кофе и тарелочки с пончиками. — И цвет был такой… ярко-алый. Я своими глазами видел.
— И кого же он искал, этот летчик? — спросил один из парней.
Я насторожился.
— Женщину какую-то, ясное дело. Вроде бы это была его большая любовь, — Фермин заговорщицки подмигнул. — Написал ее имя прямо на небе, а потом взял и исчез…
Я перестал помешивать свой кофе. Рука с ложечкой бессильно повисла в воздухе. Мне сделалось холодно, перед глазами стоял туман.
— Прямо Голливуд, — заметила улыбчивая блондинка и обернулась к своей подружке, невысокой брюнетке с короткой стрижкой, которая сидела ко мне спиной. — Представляешь, Констанца! Кто-то написал твое имя на небе! Вот это поклонник, умереть от зависти!
Сердце глухо дернулось у меня в груди. Нет, я не стал ничего сопоставлять; я вообще не думал ни о чем, у меня на это не было сил. Я просто слушал. А потом поднял глаза и увидел ее. Темноволосая девушка повернулась, чтобы ответить подруге. Ее правая рука потянулась к чашке кофе на барной стойке. Я увидел ее пальцы — белые, длинные, тонкие… Нет, не может быть. Так не бывает. И все-таки… вдруг это она?
— Скажешь тоже, — ответила девушка. — Мне в тридцать девятом и трех лет не было.
Твой голос, Констанца. Это был твой голос.
Меньше трех лет в марте тридцать девятого… значит, она родилась во второй половине тридцать шестого. Я обливался ледяным потом. Тошнота подкатила к горлу, меня зашатало, я неловко рухнул на стул. Чашка моя очутилась на полу и разлетелась на куски. Фермин выскочил из-за стойки и бросился мне на помощь. Молодые люди тоже подошли поближе.
Теперь я мог разглядеть девушку. До чего же она была похожа на тебя! Это была ты, Констанца. Горло у меня перехватило от страха или от счастья — я и сам толком не знал. Помню, что на глаза у меня навернулись слезы, я почувствовал, что задыхаюсь.
— Как вы? Вам уже лучше? — спросила она.
Голос, снова твой голос… И не только голос — губы тоже были твои, и твое лицо, и эта твоя заботливая улыбка. Она впиталась в меня, въелась мне под кожу, она хранила меня и утешала все эти тридцать лет. Из горла у меня непроизвольно вырвался какой-то жалкий звук, похожий на рыдание.
— Пустяки… Голова закружилась, — выдавил я из себя наконец. — Ничего-ничего, все в порядке.
Мне помогли встать. Когда я настоял на том, что мне пора идти, она проводила меня к выходу (ее руки… твои руки, обхватившие мой локоть…), а потом вернулась к друзьям.
Я прошелся по кварталу, потом уселся в свою машину и подогнал ее к бару. Припарковался так, чтобы видны были оба выхода из бара Фермина. Сердце у меня стучало так, что казалось — в груди строчит пулемет.
Молодые люди вышли из бара полчаса спустя. Я облегченно вздохнул. Присмотрелся повнимательнее: явно не местные, не мадридцы, скорее всего, из какого-нибудь городка неподалеку, приехали провести выходной в столице. Я поехал за ними.
Да, я был в смятении, но чувствовал, как все в этот ясный день неожиданно наполнилось новым смыслом. Каким образом твоя дочь, вторая Констанца, вдруг очутилась в том самом баре, где я всегда пью кофе? Да еще рядом с домом, где все случилось, где я увидел ее в последний раз, перед тем как покинуть! А с другой стороны, что здесь такого? Может, друзья собирались сесть на поезд, ведь вокзал Аточа в двух шагах. Или, наоборот, только что сошли с поезда. Да нет, не может быть все так просто, что-то за этим кроется. Я вспомнил дона Мануэля, его предсмертные слова. Девочка в безопасности, сказал он тогда. В безопасности, но где? Где он ее спрятал? В случайные совпадения я не верю, однако сегодняшнее и впрямь походило на поразительную случайность. А может, это ты, наблюдая за нами оттуда, из вечности, взяла и подстроила эту невероятную встречу?…
Ближе к вечеру компания отправилась на автобусную станцию. Сели в синий автобус, тот тронулся с места и выехал на шоссе. Я поехал следом. Прекрасные мгновения, прекрасные и ужасные. Ты стояла передо мной как живая, я вспомнил все — а значит, и смерть, разлучившую нас.
Синий автобус останавливался несколько раз в деревнях, а один раз — в небольшом городке, названия которого я не заметил. На одной из остановок вторая Констанца распрощалась с друзьями и вышла, а потом села в местный автобус, поменьше. Мне из машины было хорошо видно, как она едет в полупустом автобусе среди немногих пассажиров.
Садилось солнце, когда она вышла на остановке посреди шоссе и направилась куда-то по желтой немощеной тропинке. Я вышел из машины и пошел за ней пешком — иначе она бы меня заметила. Я шагал по полю… нет, не так — мы с ней шагали по полю, под синим небом, под солнцем, которое клонилось к закату. Я чувствовал себя открытым миру, свободным — и одновременно околдованным странной силой, исходившей от фигурки, которая шла впереди, в ста шагах от меня.
Вдали показался большой каменный дом. Сердце забилось сильнее. Похоже, я бывал в этом месте. И тут наконец я понял. Вспомнил. Узнал.
Это был приют, в котором я вырос, который я покинул тридцать лет назад. И вот теперь я возвращаюсь, круг замкнулся, и все встало на свои места.
Дон Мануэль, которому я много рассказывал о приюте, спрятал девочку там. Уже не узнать, как ему удалось вывезти ее из Мадрида и переправить на территорию, которая находилась под контролем франкистов. Может, помог кто-то из священников — кому-кому, а дону Мануэлю было хорошо известно, где их найти в этом безбожном и антиклерикальном Мадриде, он сам мне об этом говорил. А впрочем, какая разница, как это случилось, результат-то — вот он, передо мной. Значит, городок, который мы проехали, это Авила, а я даже не заметил — не мог оторвать глаз от твоей дочери.
Вторая Констанца вошла в дом. Я постоял перед железными воротами, потом принялся бродить вдоль ограды, разглядывая двор через решетку. Надпись над входом — «Сиротский приют Сан-Хуан-де-Дьос» — завораживала меня. Я уселся прямо на землю перед домом. Мыслей в голове не было; казалось, я перестал думать, только чувствовал. Сверху — небо, снизу — земля. Мне было легко и покойно, как во чреве матери. Потом я осознал, что беззвучно плачу. Может, из-за нахлынувших воспоминаний, может, потому что понял: это ты каким-то необъяснимым образом привела ее ко мне. А может, потому что теперь я знал, что мне делать.
Уже стемнело, когда я вернулся в машину. На ночлег я устроился прямо в ней. Когда стоишь на пороге чего-то такого, что круто изменит твою жизнь, не до удобств.
На следующий день — это был понедельник — я подъехал рано утром к воротам приюта и сказал, что мне нужно поговорить с директором. Директор оказался директрисой, да еще и монахиней вдобавок. Перед тем как войти, я поправил галстук; я представился директрисе военным, бывшим воспитанником приюта. Монахиня расплылась в улыбке. Приятно, наверное, когда сироты и подкидыши становятся счастливыми. Ну или кажутся такими.
Было нетрудно заставить ее поверить в мою историю — собственно, почти правдивую.
Человек я состоятельный, сказал я директрисе, у меня своя авиационная фирма, и я хотел бы нанять помощника для кое-какой работы в Мадриде. А она рассказала мне, что одна из «девочек» давно уже хочет покинуть приют, куда ее привезли во время войны, и начать новую жизнь в большом городе (которым вполне может оказаться Мадрид). У этой девушки есть кое-что на банковском счете, сказала директриса, потому что таинственный благодетель, который переправил ее в приют, передал дирекции ценную коллекцию марок, с тем чтобы продать их, когда девочка достигнет совершеннолетия. Я не смог сдержать улыбку. Какой же все-таки молодец дон Мануэль! Наверное, старик прав: поступки добрых людей рано или поздно находят признание и благодарность, а дела негодяев — лишь презрение, пусть даже тем и удается сначала натешиться властью.
Девушку эту, рассказывала дальше монахиня, зовут Констанца Сане: имя это значилось в письме, которое прилагалось к альбому с марками, то бишь это ее настоящее имя, а фамилию она сама выбрала во время заведенной здесь простодушной церемонии. В свое время, вспомнил я, для меня тоже такую устроили. Тогда сестра Анхела разрешала нам, воспитанникам, выбирать себе любую фамилию, какая понравится, самую красивую, на наш вкус, — раз уж больше ничего своего у нас не было. Я, сам не знаю почему, выбрал из предложенного списка фамилию Альварес, которую потом мне суждено было обменять на Дечен, а твоя дочь выбрала фамилию Сане, не зная, что настоящее ее имя — Констанца Кано Сото.
Ей тридцать лет, она уже несколько лет работает в приюте, помогает монахиням. Но с недавних пор стала поговаривать о своем желании уйти в мир.
— И надо же такому случиться, вы приехали именно сегодня. Какое совпадение! — подивилась монахиня.
— Совпадение?
— Да! Констанца ведь вчера ездила в Мадрид с друзьями. Хотела взглянуть на дом, в котором, по-видимому, жили ее родители.
— Вот как… — я усердно изображал полное безразличие.
— Ее благодетель — тот сеньор, которому удалось переправить ее к нам из красного Мадрида, — не захотел назвать свое имя и о родителях девочки тоже ничего не рассказал. А вот священник, который привез ее сюда, — тот был знаком с этим сеньором; он-то и сообщил нам, как его зовут и где он живет. Точного адреса он не знал, но назвал площадь, ну и описал это место в общих чертах. А потом я решила, что негоже это все от Констанцы скрывать.
Я молча кивнул. Так вот почему Констанца появилась на площади Аточа. Тем лучше. Мне как-то легче думать, что для всего есть логическое обоснование.
— Рано или поздно это случается со всеми, верно? — грустно улыбнулась монахиня. — Человеку хочется покинуть родной очаг, дом, где он вырос, увидеть мир…
— Ваша правда, — подтвердил я.
Интересно, посещали ли когда-нибудь такие мысли саму директрису?…
Новая жизнь твоей дочери началась две недели спустя.
Она приехала в Мадрид тем же автобусом, понятия не имея, что таинственный «бывший воспитанник», который принял в ней участие, — тот самый человек, который едва не упал в обморок, увидев ее в мадридском кафе. Я решил не открываться ей, мне было стыдно. Мне не хотелось лгать твоей дочери, а сказать ей правду — всю правду — я не мог: она бы меня запрезирала.
Вот так началась моя чудесная история любви. Порой она казалась мне полным безрассудством, а порой — чем-то возвышенным и прекрасным, началом пути к безграничному счастью.
Констанцу Сане взяли на работу в контору кортесовской фирмы, где у меня были акции и некоторое влияние. Ей везло, хотя она так и не узнала, что везение это — моих рук дело, что я управляю ее судьбой, прячась в тени. Теперь у нее была достойная работа, за которую платили неплохие деньги, она смогла снять квартиру — отличную квартиру и совсем недорого, я об этом позаботился. Порой я издали наблюдал за ней — смотрел, как она возвращается домой с работы, или ходит за покупками на рынок по выходным, или встречается с друзьями (а друзья у нее вскоре завелись). Констанца была хороша собой, нравилась окружающим, она могла стать счастливой.
Временами я задумывался о природе своего отношения к ней. О ком на самом деле я заботился — о твоей дочери или о тебе? Помогал ли я ей бескорыстно, от всей души, или возвращал долг вам с Рамиро, заглаживал свою вину перед вами? Кем я ей был? Отцом, братом, другом? Любил ли я ее? В любом из ответов была частица правды, и мое одиночество становилось из-за этого острее и болезненнее. Отец может радоваться успехам своей дочери вместе с ней, я же радовался успехам Констанцы, собственноручно подстроенным, в полном одиночестве, забившись в свою нору. Мучительно было сознавать, что она и понятия не имеет о моем существовании, о моих хлопотах. Но и устраниться от участия в ее судьбе я не мог.
Она стала встречаться с одним хорошим парнем, механиком с аэродрома, и новость эта одновременно и обрадовала меня, и раздосадовала. Как я был счастлив — и вместе с тем несчастен, — когда они поженились; как я гордился, когда устроил все так, чтобы они смогли заплатить первый взнос за квартиру, и как стыдился своего эгоизма: ведь квартира эта, моими стараниями, находилась неподалеку от моего дома.
Луис Кортес менялся на глазах. Он уже давно не был тем героем, которым я когда-то восхищался. Казалось, моральное падение затронуло и его наружность — он сильно постарел и обрюзг. И все-таки я понимал его и отчасти жалел. Кортес не был негодяем, хотя обстоятельства и заставляли его совершать скверные поступки, которые омрачили и его собственную жизнь. Мы никогда не говорили об этом, но я знал: он страдал из-за того, что убил Рамиро. А больше всего его мучила убежденность в том, что это именно его бомба — его и никакая другая — убила тебя. Ты была тенью, которая приходила терзать его (а мне вот казалось, что твой призрак меня охраняет). Теперь Кортес ненавидел тебя так же сильно, как прежде любил. И в этом коренилась причина всех бед, случившихся потом.
До сих пор не понимаю, как я мог свалять такого дурака. Ну почему я не подыскал твоей дочери работу подальше от Кортеса? Я ведь знал, что он время от времени наведывается в контору. Почему, наконец, я не подстраховался и не выдумал какую-нибудь уловку, какой-нибудь предлог, пусть самый идиотский, чтобы убедить ее назваться другим именем?
— Не нравится мне эта девушка, — сказал мне однажды Кортес, когда мы возвращались из конторы на его машине. Я сразу же понял, что он говорит о твоей дочери, что он узнал ее точно так же, как я в баре Фермина. — Неуютно мне из-за нее как-то. Не нравится она мне, и не спрашивай почему. Не нравится, и все тут. Я ее уволю.
Я угрюмо молчал. Все встало на свои места. Я был ангелом-хранителем твоей дочери. Я возвращал тебе долги. А у Кортеса на совести тяжким грузом лежала твоя смерть, и для него Констанца Сане была посланницей ада, явившейся усугубить его мучения. И так же, как я из кожи вон лез, чтобы помочь твоей дочери, он все силы решил положить на то, чтобы загубить ей жизнь.
И самое ужасное — мотив у нас с ним был один. Воспоминание о тебе, твое присутствие. Ты.
Он уволил их обоих — сначала Констанцу, потом ее мужа. Ему нужно было избавиться от них, вычеркнуть из своей жизни. Я не мог противиться его решениям — я ведь был всего лишь его служащий, хоть и занимал в компании неплохой пост и вдобавок владел кое-какими акциями. Кортес, болезненно мнительный во всем, что касалось твоей дочери, непременно бы что-то заподозрил, встань я на их защиту. Заподозрил? Что именно? Может, мне все-таки следовало за них вступиться, может, я струсил, снова поступил недостойно?… Но я не мог пойти против Кортеса. Собственно, никогда не мог. И только наблюдал с тревогой и болью, как молодая пара справлялась со своей новой ролью безработных.
Горько было видеть, как уныние потихоньку вытесняло радость. Теперь они познакомились с изнанкой счастья. Сбережения быстро растаяли, пришла нужда. Я видел, как они ходят по рынку, пытаясь как-то растянуть свои гроши, решая, что купить — фрукты или молоко, отказываясь от необходимых вещей в пользу других, еще более необходимых. Хуже всего дела обстояли с квартирой. Их неминуемо должны были выселить за неуплату. И что тогда? Констанца с мужем подолгу бродили по городу, вели разговоры, искали выход — и не могли найти. Я следил за ними, я тоже искал выход, только размышлениями своими ни с кем не делился — разве что с тобой. Иногда, забыв о своих бедах, а может, чтобы подбодрить друг друга, они брались за руки; меня это трогало, но и задевало.
Конечно, я пытался найти им работу. Мои старания оставаться в тени только запутывали все и усложняли. Столько порой приходилось тратить усилий, чтобы подстроить какое-то собеседование, из которого потом все равно ничего не выходило. В голове у меня дни напролет крутилось: что же делать, что делать, что делать…
Однажды утром, как обычно, я зашел позавтракать в бар Фермина. Уселся за стол, развернул газету, Фермин принес мне мой кофе с пончиками. И тут из дверей подсобки вышла Констанца в белом халате, с ведром и шваброй в руках. И лишь когда она принялась мыть пол, до меня дошло, что она нанялась к Фермину уборщицей. Вот она какая, твоя дочка!.. Как же я восхищался ею, как я ее любил! Вся в тебя — такую непросто сломать. Отважная, стойкая Констанца. Для того чтобы выстоять, требуется особый дар, и этот дар она унаследовала от тебя. И все-таки мне было обидно и горько: здесь, в этом самом баре, я увидел ее впервые, проследил за ней до самого приюта и там задумал подарить ей новую жизнь, подарить будущее. Кто знает, если бы я тогда не вмешался, если бы держался от нее подальше, — может, сейчас она была бы счастлива в совсем другом месте, жила бы своей, не заемной, а изначально предназначенной для нее жизнью…
— Ну как, все обошлось? — раздался у меня за спиной ее голос.
Я не понял, что она имеет в виду, обернулся и вопросительно посмотрел. Она улыбалась. Несмотря ни на что, Констанца улыбалась.
— Вы меня не помните. А вот я вас сразу узнала. У вас тут как-то раз случился обморок, года три тому назад. Мы вас вот на этот стул усадили. Припоминаете?
— Ах да! — пробормотал я. Констанца помнила о том случае. Она помнила меня… — Вы очень любезны. Какая у вас память! Спасибо вам.
— Ну что вы, — пожала она плечами и снова принялась мыть пол.
У Констанцы и в мыслях не было вести разговор, она просто хотела поздороваться и справиться о моем здоровье. Интерес к людям, к их жизни, забота о них проявлялись у нее естественно и ненавязчиво — совсем как у тебя.
Я не мог упустить этот шанс. Допил кофе, изо всех сил стараясь казаться невозмутимым, хотя на самом деле места себе не находил от волнения. Встал, расплатился с Фермином и пошел к двери, где она как раз намыливала стекла.
— Всего доброго, — сказала она.
— Всего доброго, — ответил я. Потом сделал два шага — два хорошо рассчитанных, продуманных заранее шага — и остановился, будто спохватившись, будто мне в голову пришла внезапная мысль. Я обернулся к Констанце: — Знаете, я живу здесь, неподалеку. Так вот: может, у вас есть подруга или знакомая, которая бы согласилась приходить ко мне прибираться? Живу я один, так что можете вообразить, что у меня творится.
— Подруга, говорите? Да я сама могу у вас убирать! — не задумываясь, выпалила она.
Я притворился, что растерян.
— Даже так? О, ну прекрасно. Если это вас, конечно, не затруднит…
— Какое там затруднит, я с радостью. У меня сейчас не самые лучшие времена. Муж сидит без работы, я тоже. Нас обоих уволили.
— Да что вы говорите! Как жаль… Ну тогда, если вы готовы приступить, милости прошу… хоть с завтрашнего дня.
— С сегодняшнего, и откладывать нечего. Вот только здесь управлюсь — и сразу к вам, — весело ответила она.
Новая работа, которая свалилась на нее так неожиданно, могла поправить ее дела.
Я дал ей адрес и поспешил домой. По лестнице я поднимался бегом. В то время у меня была отличная домработница, она убирала мансарду два раза в неделю, но я не мог упустить такой шанс. Сеньора эта как раз приходила накануне, так что дома у меня все сверкало чистотой, — и я усердно принялся наводить беспорядок. Нужно, чтобы у Констанцы было побольше работы, тогда я смогу больше ей заплатить. Пару раз я останавливался, осознав, до чего по-идиотски выгляжу, но напоминал себе, что это все ради нее, и снова лихорадочно действовал. Я раскрыл шкафы, извлек оттуда свежевыглаженные рубашки и принялся мять их и разбрасывать по кровати и по дивану. Кровать я по привычке, оставшейся с детских лет, старательно заправил перед уходом — теперь я не менее старательно ее разворошил. На кухне я разбил пару чашек, чтобы было что подметать, потом ножом вскрыл пакет с мусором, рассыпав его содержимое по полу, — пусть думает, что это он случайно порвался… Я с радостью разорял для нее свое жилье, чтобы иметь возможность заплатить ей — хотя бы ту скромную сумму, которую обычно платят домработнице.
Деньги эти в любом случае были не лишними для молодой семьи, Констанца мне это подтвердила позже, когда мы с ней разговорились. Ее муж нашел работу на аэродроме в Куатро-Вьентос [13]; его заработка, того, что она получала в баре, и того, что заплатил ей я, как раз должно было хватить, чтобы дотянуть до конца месяца. Правда, оставалась еще одна проблема, и серьезная — квартира. Как же я обрадовался, что она упомянула про квартиру! Теперь я мог расспросить ее об этом, и она выложила мне все про свою беду с ипотекой. Я тут же предложил помочь им: пока они не встанут на ноги, ежемесячно платить сумму, которая покрывала бы взносы за квартиру. Как ни странно, Констанца согласилась сразу же.
— Знаете, это не из-за нас с мужем, — объяснила она. — И не из-за того, что мне так хочется квартиру. Но у меня будет ребенок. Не хочу, чтобы он родился на улице. Если родится мальчик, — добавила она у двери (и в ее голосе было столько непобедимой радости жизни!), — мы назовем его Хоакином, в вашу честь.
Твоя дочь была беременна твоей внучкой. На дворе стоял семьдесят второй год.
Примерно тогда же Кортес познакомил меня с неким субъектом — светловолосым, с тоненькой ниточкой усов, в дымчатых очках. Почему я сразу вспомнил об агенте в черном пальто, который в ноябре тридцать шестого неотступно, как конвоир, следовал по пятам за Рамиро? Блондин в дымчатых очках оказался частным детективом, Кортес нанял его, чтобы разузнать все о Констанце. Ему мало было того, что он ее уволил. Он хотел избавиться от нее, заставить ее уехать из Мадрида, сделать так, чтоб ее не было. Мысль о том, что он в любую минуту может столкнуться лицом к лицу с живой копией женщины, которую он любил, а потом убил, была для него невыносима.
Детектив уже выяснил, что Констанца работает уборщицей в баре; теперь, по его словам, оставалось уточнить, не работает ли она и в доме по соседству, куда приходит регулярно, в одно и то же время, два раза в неделю. Не исключен и другой вариант, сказал он: возможно, в этом доме живет ее любовник.
Ясно было, что рано или поздно он расскажет обо мне Кортесу, а тот в своем безумии не примет никаких моих объяснений. Он непременно вообразит себе наш с Констанцей чудовищный заговор с целью его погубить. Раз уж я скрывал все это время, что знаком с ней, — значит, у меня непременно есть план, и частью этого плана было внедрение Констанцы в контору под видом секретарши. В параноидальном воображении моего бывшего героя всему нашлось бы свое место и свое объяснение.
Кортес заметался еще больше, когда детектив доложил ему, что муж Констанцы нашел работу на аэродроме. Через несколько дней должно было состояться благотворительное воздушное шоу, в котором Кортес собирался принять участие. Так вот, ему все стало ясно: муж Констанцы готовит покушение на его жизнь. Он должен защищаться, объяснил мне Кортес, и убить врага, прежде чем тот убьет его. Я смотрел на него, взбудораженного, взмокшего от пота, слушал его свистящий шепот и понимал: он слепо верит в собственный бред. Мне стало жаль его. Этот несчастный человек, злодей поневоле, безумец, потерявший рассудок из-за угрызений совести, которые с годами становились только мучительнее, оставался для меня, несмотря ни на что, все тем же капитаном Кортесом, моим капитаном, героем, научившим меня летать. Но теперь его безумие сделалось опасным; он совершенно серьезно, глядя мне в глаза, говорил о намерении убить мужа твоей дочери. Оставить твою внучку без отца, как когда-то, во время битвы за Мадрид, оставил сиротой твою дочь.
История могла повториться, и воспрепятствовать этому мог только я.
Ты поверила бы мне — да и любой читающий эту исповедь поверил бы, — скажи я, что в гибели Луиса Кортеса на том самом воздушном шоу виноват несчастный случай. Мне ничего не стоило бы свалить вину на судьбу: мол, провидение позаботилось о нас — хоть раз в жизни — и спасло. Но я не хочу лгать, поэтому скажу тебе. Это я убил Кортеса. Я повредил его самолет. По иронии судьбы, я сделал именно то, что якобы собирался сделать человек, которого он в своем умопомрачении считал убийцей.
Я не спал ночами. Все это время я жил на грани безумия. Порой я был готов отказаться от своего плана. Как вдруг случилось нечто неожиданное и чудесное. По телевизору передавали информационный выпуск; я не особенно прислушивался, в который раз прокручивая в голове свою ужасную дилемму. И тут диктор произнес: «Хавьер Альварес». Я оглянулся на экран. Хавьер Альварес. Это нехитрое сочетание, столь распространенное, встречалось мне часто и неизменно привлекало мое внимание, что немудрено: ведь это было мое настоящее имя, которое когда-то на автобусной станции города Авилы я обменял на свое нынешнее у настоящего Хоакина Дечена, приютского мальчика, который хотел стать священником. Сейчас диктор как раз и говорил об испанском священнике Хавьере Альваресе, пятидесяти трех лет от роду — моем ровеснике. Может, это он? Я вслушался. Альварес летел в Латинскую Америку, чтобы проинспектировать там деятельность испанских миссионеров. Он улыбался мне с экрана, и, увидев эту улыбку, я впервые в жизни пожалел о том нашем обмене. Если бы мы тогда этого не сделали, теперь не мне, а вот этому улыбающемуся священнику пришлось бы метаться перед выбором: убивать или нет? А я бы спокойно поднимался себе по трапу в самолет, готовый к отлету в Буэнос-Айрес.
И тут настойчиво, пронзительно заверещал домофон. Я вздрогнул, бросился к трубке. Это была Констанца. Она что-то выкрикнула — я не разобрал слов. Я открыл дверь, и она бегом стала подниматься по лестнице, отчаянно рыдая. Никогда раньше она не впускала меня в свою жизнь, и вот теперь что-то стряслось, и она пришла ко мне в поисках защиты. Я бросился по лестнице ей навстречу.
Мы чуть не сбили друг друга с ног на третьем этаже, перед самой дверью бывшей квартиры дона Мануэля. Никогда еще я не видел Констанцу такой — испуганной, несчастной, убитой горем. Она была на девятом месяце — как ты тогда…
Я обнял ее — или это она бросилась в мои объятия? Неужели у нее не было близких друзей и не к кому было прийти? Или же мне действительно удалось завоевать ее привязанность? Это было счастье — прекрасное, пронзительное ощущение полноты жизни, но я не стал ему поддаваться. Может, дело не в ее отношении ко мне, а просто я живу поблизости.
— Его убили! Убили!.. Убили!.. — повторяла она, дрожа, как в припадке.
Мне не сразу удалось выяснить, в чем дело. Оказалось, беда с мужем — несчастный случай на работе.
Я пытался успокоить ее, вызвал знакомого врача, тот заставил ее выпить лекарство, и она наконец уснула. В полночь, когда она еще спала на моей кровати, я, сидя у того самого окна — свидетеля самых важных минут в моей жизни, принял единственно возможное решение: я убью Кортеса, жалкого, безумного Кортеса, несчастного, измученного Кортеса, чтобы он в своем безумии не убил твою дочь. Я погладил стену в том месте, где под обоями скрывались две строчки — дата и имя беременной женщины, которая спала сейчас на моей кровати и знать ничего не знала о моем долге чести, о моей болезненной страсти. И женщине этой грозила смерть. Я вспомнил тот далекий день — и почувствовал, что ты снова здесь, рядом со мной; я снова видел, как ты требуешь от Рамиро, чтобы он разделил с тобой твою клятву. «Поклянись, что наша дочь всегда будет в безопасности…» Несколько часов спустя вы оба, и ты и он, были мертвы, а значит, не могли теперь сдержать слово. Но я-то все еще здесь, у этого самого окна…
Поскольку речь шла о благотворительном представлении, Кортес пообещал показать свой знаменитый волчок. И я, в память о былых временах и чтобы поддержать его благородный поступок, вызвался лично проверить его самолет перед полетом. Его растрогал этот знак внимания; пожалуй, он и меня бы растрогал, не будь я так занят подготовкой своей диверсии.
Перед этим я попытался расследовать обстоятельства гибели мужа Констанцы. Страшнее всего, что это действительно мог быть и несчастный случай — странный, необъяснимый… но все-таки теоретически возможный. А значит, я собирался убить своего друга, не будучи на сто процентов уверен в его виновности. И пока я возился с мотором, приводя его в негодность, чтобы самолет не смог уйти вертикально вверх, когда Кортес начнет свой волчок, я все яснее сознавал: еще один шаг — и я окажусь в этом страшном кругу, кругу мужчин, убивших своих друзей, стану очередным звеном в этой цепи — Рамиро убил Хавьера, Кортес — Рамиро, я — Кортеса…
Будто читая мои мысли, Кортес подошел ко мне. Там, снаружи, уже вовсю светило солнце, публика на трибунах ждала представления. Он провел рукой по фюзеляжу самолета, с нежностью приобнял, снова погладил рукой — будто ласкал любимую женщину. На Кортесе был его старый кожаный шлем. Я смотрел на него, внутренне сжавшись, опасаясь, не заподозрил ли он что-то. А вдруг детектив уже успел ему рассказать, что Констанца бывает у меня дома? А может, он всегда об этом знал, но притворялся, чтоб удобнее было наблюдать за мной?
— Скверную жизнь я прожил, Хоакин, — сказал Кортес внезапно.
Он проговорил эти слова медленно, очень печально. Передо мной словно был прежний Кортес, тот, которого я узнал вначале, настоящий Кортес, такой, каким он был до всего страшного, что случилось с нами. И говорил он искренне, от сердца. И я тоже не врал, когда ответил:
— Почему скверную? Будет тебе, Луис, ты ведь всего добился.
— Какое там… — прошептал он, потом обошел кругом свой самолет и снова встал рядом со мной. — Всего добился… «Все» — дурацкое слово, тебе не кажется?
Я молчал, но Кортес и не ждал ответа. Внезапно он заглянул мне в глаза:
— Нам, летчикам, следует умирать в воздухе. По крайней мере, таким, как мы с тобой.
— Каким таким?
— Нам вот это все, — и он дважды топнул каблуком по земле, — не нравится. — Нам хорошо только там, — он поднял глаза к небу. — Вот такие мы — и ты, и я.
Мы смотрели друг другу в глаза. Еще одно долгое, бесконечное мгновение. Мы вглядывались друг в друга, и, по-моему, каждый знал, о чем думает другой. Что чувствует сейчас.
Кортес попытался улыбнуться.
— Прощай, друг, — сказал он. И обнял меня.
Я сжал его в объятиях. И тут — всего лишь на миг — все вернулось: Кортес снова был героем, научившим меня летать, а я — мальчишкой, который столькому у него научился и верил ему беззаветно. Наше объятие было искренним, мы оба не лгали. В самом конце все мы снова становимся детьми. Просто детьми в ожидании большого путешествия.
Кортес сел в самолет, завел мотор и, прежде чем тронуться с места, показал мне большой палец — как когда-то, сорок лет назад.
— Я улетаю, Хоакин! — крикнул он перед тем, как захлопнуть дверцу. — Туда, далеко! Выше неба!
— Выше неба… — прошептал я.
Я помахал ему в ответ и проводил глазами, пока он выезжал из ангара. Он вырулил на взлетную полосу и оторвался от земли.
Я вышел через заднюю дверь и побрел к машине, не оборачиваясь. Когда я уже вышел с территории аэродрома, ветер донес до меня голоса, слившиеся в один крик, — это ахнули от ужаса люди на трибунах. Потом — взрыв. Я не обернулся. Прощай, Луис. Спасибо, что научил меня летать.
Одиночество, безумие или то и другое вместе?
Кортесу, несомненно, удалось удивить меня — уже после смерти. Я растерялся, когда узнал, что, хотя все его предприятия и недвижимость остались вдове и сыну Пако, он оставил мне в наследство небольшой аэродром. Кортес, как оказалось, построил его на своей собственной земле, а я об этом и не знал. К аэродрому прилагались две авиетки и ангар, который при ближайшем рассмотрении оказался чем-то вроде музея авиации: я обнаружил там настоящее сокровище — два боевых самолета времен гражданской войны в отличном состоянии. «Чато» — точно такой же, как тот, за штурвалом которого сидел Рамиро, когда его сбили, и «фиат» — тот самый, на котором Кортес прошел всю войну. Никто из его родных не знал об этих самолетах, и я подумал, что он завещал их мне: ведь я один мог оценить этот дар, только я сумею любить эти самолеты, как они того заслуживают, и ухаживать за ними как следует.
Моя жизнь и жизнь твоей дочери резко изменились после тех двух ужасных событий — смерти ее мужа (я до сих пор так и не знаю, что это было — несчастный случай или убийство) и гибели Кортеса. Я убил его, это правда, но поскольку людям свойственно недооценивать чудовищность своих поступков или, по крайней мере, находить им извинение, я убедил себя в том, что Кортес обрел покой после смерти и что в нашем последнем разговоре он поблагодарил меня за то, что я подтолкнул его к шагу, который он никак не мог решиться сделать сам…
Констанца родила твою внучку, еще не оправившись после смерти мужа, всего три недели спустя после этих событий. В октябрьский день семьдесят третьего года на свет появилась девочка, которую тоже назвали Констанцей. Я испытывал странную радость. Обстоятельства сложились так, что теперь я мог в открытую оказывать покровительство твоей дочери и внучке. Никого — ни соседей, ни знакомых — не удивило, что я забочусь о бедной вдове, да и сама Констанца не стала противиться. Они остались жить у меня дома. До чего же она была похожа на тебя!..
Когда маленькой Констанце Родригес Сане исполнился год, ее мать решила: пора что-то менять. Она найдет работу, встанет на ноги; она не хочет больше сидеть на моем иждивении. Не может же так вечно продолжаться… Я слушал ее молча, не спорил. Но как только мы закончили разговор, я принялся за дело. Весь вечер я потратил на поиски выхода. И придумал, как сделать так, чтобы она не уходила. Музей Кортеса — вот выход.
— Мы с тобой? Компаньоны? — воскликнула Констанца, когда я рассказал ей о своем замысле. — Как ты говоришь — музей авиации и служба аэротакси? А почему тогда не школа тореадоров?
Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами, будто я совсем рассудка лишился. В самолетах она ничего не смыслила, даже на обычных пассажирских не летала ни разу.
— Я буду летать, а ты — вести дела, — как можно убедительней сказал я и добавил, немного приврав: — Я уже несколько лет об этом думаю, просто раньше случая не представилось.
— Да, но… — препятствия явно виделись Констанце непреодолимыми. — А твоя военная карьера? Ты же майор.
— Уже не майор. Я вышел в отставку. Сегодня утром. Я сыт этим по горло.
А вот тут я не соврал ни капли. К несказанному удивлению начальства, я подал прошение о полной отставке. Отрезал себе путь к отступлению. Сжег корабли.
— Но…
— Давай знаешь как сделаем? — перебил я ее. — Пусть девочка решает.
Маленькая Констанца безмятежно спала в своей кроватке. Ее мать в изумлении смотрела на меня; похоже, она уже не сомневалась, что я спятил.
— Девочка? Это как?
Мы отправились на машине на наш маленький аэродром в Куатро-Вьентос, окруженный другими, более крупными. У ангара Констанца не смогла сдержать улыбки; может, мой замысел все-таки показался ей заманчивым, а может, ей просто понравилась вывеска, которую я еще рано утром велел прикрепить над входом, — «Авиетки Аточа». Название, которое ты придумала для фирмы, где вы должны были работать втроем — Луис, Рамиро и ты. «Авиетки Аточа», имя твоей мечты.
Я вывел из ангара самолет, который поставил туда накануне, когда придумал свой план. Пригласил Констанцу с ребенком сесть в него. Она поколебалась, но потом, соотнеся свое недоверие к самолету и доверие ко мне, все-таки залезла в кабину.
День стоял великолепный, солнечный, и я постарался оторваться от земли мягко и не без изящества. Подарить крылья тому, кого любишь, — эта радость ни с чем не сравнится, и я в тот день насладился ею сполна. Меня переполняла гордость за то, что я так удачно все устроил. Я то и дело искоса поглядывал на твою дочь: она держалась уверенно, радовалась и удивлялась своему первому полету и ничуть не боялась неба. Что ж, Констанца пошла в родителей — в тебя и в Рамиро. Пусть она никогда раньше не летала, зато родилась крылатой.
— А теперь, — сказал я ей, — посмотрим, что решит девочка.
Малышка проснулась и спокойно сидела на руках у матери. Та вопросительно посмотрела на меня.
— Давай договоримся. Если то, что я сейчас сделаю, не понравится девочке, тогда никаких музеев и воздушных такси. Но если ей это понравится — мы сделаем это. Идет? — и я протянул Констанце руку.
Она пожала ее.
— Идет.
— Тогда держись!
Я набрал скорость, уходя все дальше и дальше в синеву. Потом осторожно и плавно потянул штурвал на себя. Самолет вскинул нос: пестрая земля куда-то пропала, перед нами теперь было сплошное бескрайнее синее небо.
Пилот и пассажир ощущают волчок совершенно по-разному. В тот мой первый раз Кортес управлял машиной с невозмутимым спокойствием, а я кричал от восторга, от счастья жить на свете. Теперь я сам сидел за штурвалом, уверенно управляя самолетом; больше всего меня сейчас меня интересовало, как поведет себя твоя дочь, не испугается ли твоя внучка.
Когда самолет вертикально ушел вверх, Констанца вскрикнула, крепко прижимая к себе дочь. Не от страха, нет, — это был торжествующий крик, в нем слышались радость и осознание своей силы. Я расхохотался — так здорово было видеть ее ликующей. Мы оба посмотрели на девочку: та широко открыла глаза, но видно было, что она ни капельки не испугалась. На руках у матери она чувствовала себя в полной безопасности. Когда нас перевернуло вниз головой, она стала оглядываться по сторонам, видно, удивляясь тому, что мир вокруг стал таким странным и неузнаваемым. Есть в волчке такое мгновение, когда самолет вновь выходит на горизонтальную линию, — тогда даже самому опытному летчику нестерпимо хочется сбросить напряжение в крике. Закричал и я, и Констанца подхватила мой крик. Малышка вытянула перед собой руки, будто пытаясь затормозить, и мы с Констанцей не смогли удержаться от смеха. Маленькая Констанца заразилась нашим весельем и тоже засмеялась, возвращая нам нашу радость — еще больше радости, безоглядной радости.
Все это долгое мгновение мы с твоей дочерью были счастливы и не скрывали этого. И, наверно, малышка почувствовала то же самое.
Мне удалось поверить, что мы — семья, что мы были родными друг другу с самого начала и будем всегда. После тех минут полного счастья все, что было потом, кажется одним нескончаемым днем, который постепенно клонится к закату и тихо растворяется в сумерках. До чего же она короткая, наша жизнь, Констанца, особенно когда оглядываешься на нее, стоя у последнего порога. С каким тревожным нетерпением я жду поры, когда отправлюсь в свое последнее путешествие; осталось недолго, вот только допишу до конца — и в путь. Выше неба, как говорил Кортес…
Открытие «Авиеток Аточа» состоялось в начале семьдесят четвертого. Успешным наше предприятие никогда не было. Твоя дочь вела бухгалтерию и довольно скоро заметила неладное, но мне удалось провести ее: бизнес еще наладится, уверял я, это вопрос времени, а пока моих денег хватит, чтобы покрыть все издержки. Я лгал ей. Бизнесмен из меня вышел никудышный, не то что из Кортеса, и убыточное предприятие давно съело весь мой более чем скромный капитал. Отчего же я пытался любой ценой удержать возле себя их обеих — Констанцу-большую и Констанцу-маленькую? Хотел защитить их? Хранил верность призраку своей любви? Или просто боялся остаться один?
Как бы там ни было, эта иллюзия семейной жизни не могла длиться вечно. И через несколько лет твоя дочь, как я и боялся, встретила другого мужчину. Инерция природы срабатывает безошибочно.
Отношения их развивались весьма успешно, и вскоре они решили попробовать жить вместе, под одной крышей, — правда, с зароками вечной любви торопиться не стали. Квартиру они себе подыскали где-то у черта на куличках, в новом районе Сан-Хосе-де-Вальдерас. Констанце, скорее всего, просто хотелось уехать подальше от печальных воспоминаний, которыми все было пропитано в ее прежнем жилище, но я не мог отделаться от мысли, что она бежит и от меня, от непонятных наших отношений. И впрямь непонятно, кто я ей — не то родственник, не то поклонник, не то друг; а если разобраться — ни то, ни другое, ни третье. Конечно, фирму мы закрыли.
Итак, нашим формальным отношениям пришел конец; правда, я тайком переписал на имя третьей Констанцы свой маленький аэродром, который с этих пор стал для меня убежищем и вторым домом.
Долгими часами я возился со своими самолетами, такими же одинокими стариками, как я. Иногда я по нескольку дней не появлялся дома. В конце концов я поставил кровать у себя в кабинете, перенес туда кое-какие вещи и стал проводить почти все свое время с самолетами, что, конечно, укрепило мою репутацию чокнутого среди пилотов и механиков. Иногда я выводил свои старые самолеты на прогулку по взлетной полосе, но в последний момент так и не решался оторваться от земли. Сидя за штурвалом «фиата», я вспоминал Кортеса, пытался представить себе, о чем он мечтал в этой кабине, еще до того, как все непоправимо сломалось, а за штурвалом «чато» я воображал себя Рамиро — мужчиной, которому посчастливилось завоевать твою любовь.
Однажды утром мне пришло в голову: а что если устроить праздник и попробовать поднять в воздух оба самолета? Публику могло заинтересовать подобное зрелище — реконструкция военных действий, с настоящими боевыми самолетами, вроде представлений, которые устраивают теперь в той деревушке в Альмерии [14]. Но я тут же отказался от этой идеи. Я чувствовал себя одиноким, усталым, побежденным.
Так я и жил потихоньку. Меня стали одолевать хвори — а ведь я всегда отличался отменным здоровьем. Я ощутил дыхание старости. Она заглянула ко мне, да так и поселилась. Уже в восьмидесятые я сильно сдал. Потом настал новый век, и я собрался медленно угасать.
Твоя дочь всегда прекрасно ко мне относилась и была благодарна за все, что я для нее сделал. Пожалуй, она искренне привязалась ко мне. И знаешь, в последние годы она была очень добра ко мне. Если бы она исчезла с моего горизонта, я бы понял ее и не обиделся, но она этого не сделала. Время от времени она заходила ко мне в гости. Меня ее приход всегда выбивал из колеи, ведь с нею я изведал то, что с тобой мне было не дано: на моих глазах она становилась зрелой женщиной. Видя, как стареет твоя дочь, я чувствовал, что вижу тебя. Как если бы жизнь вернула украденное когда-то время. Ты ведь так и не узнала, как увядает твое лицо, как седеют волосы…
Констанца Сане, твоя дочь, умерла от инсульта шестнадцатого августа две тысячи второго года. Твоя внучка, третья Констанца, сообщила мне об этом по телефону. Мой номер значился в записной книжке ее матери, и девочка была так добра, что решила меня известить. Тогда я и узнал, что человек, с которым жила ее мать, давно бросил их и с тех пор они жили вдвоем. Почему же Констанца ничего мне не сказала? Мы могли бы вернуться к прежней жизни, могли бы жить вместе, могли бы… Могли бы что?… Она сама поняла (да и я, в сущности, понимал, хоть и не хотел признавать), что у нашей странной семьи нет будущего. Констанца Сане предпочла бороться в одиночку. Всю жизнь она мыла полы и вытирала пыль в чужих домах, чтобы поставить на ноги дочь.
На ее похоронах я словно снова встретился с проклятым черным призраком войны, которая разрушила мечты одного поколения и запретила мечтать следующему. Сильно взволнованный, я наблюдал за церемонией с благоразумного расстояния. Кроме священника там было еще шесть-семь человек — соседи, знакомые. А у самой могилы, спиной ко мне, стояла с опущенной головой маленькая женская фигурка; это была ее дочь и твоя внучка. Констанца.
Судьба (или кто-то еще — уж не знаю, как назвать эту силу) в третий раз привела тебя в мою жизнь. Означает ли это, что твоему призраку суждено всегда возвращаться ко мне? Может, в этом и заключается моя расплата, моя мука?…
Один за другим соседи подходили к девушке, бормотали слова соболезнования. Потом они все ушли. Потом кладбищенские рабочие закопали могилу. Третья Констанца осталась одна, в двадцати шагах от меня. Я подошел к ней, положил руку ей на плечо, она обернулась. Может, и правда, все на свете повторяется, и любое рождение — просто новое воплощение. Я почувствовал головокружение, как за много лет до этого в баре Фермина, когда увидел ее мать. Констанца-младшая была совсем как она! Совсем как ты! Ты снова стояла передо мной, такая молодая и красивая — и такая одинокая и беззащитная. И снова вся жизнь была у тебя впереди.
Интересно, что она подумала, когда какой-то дряхлый старик (то есть я) сказал ей, что он бывший компаньон ее матери и что она как наследница должна вступить во владение, на паях с ним, маленьким авиатранспортным предприятием. Девочка оказалась очень вежливой — несколько секунд ничего не говорила, не выказывала сомнений в моем умственном здоровье. Просто смотрела на меня в растерянности. Потом двинулась к выходу с кладбища, то и дело оглядываясь на меня.
У выхода она остановилась. Похоже, всю дорогу от могилы она обдумывала, что сказать.
— Когда я была совсем маленькой, меня один раз прокатили на самолете. Мама мне об этом часто рассказывала. За штурвалом был ее друг, она его очень любила и уважала. И вместо того чтобы реветь от страха, я смеялась. Я ужасно радовалась, говорила мама.
Мне нелегко оказалось скрыть, как потрясли меня ее слова. Будто молодость вернулась ко мне. Я молчал.
— А сейчас появляетесь вы и говорите мне это. Скажите, вы что-то знаете об этой истории? Вы… вы и есть тот летчик?
Сказать ей правду? За этой правдой тут же хлынула бы целая река слов, фраз, запутанных сюжетов. Слишком о многом пришлось бы рассказать, слишком много боли принесло бы это нам обоим.
— Нет, — ответил я и, чтобы она ничего не заподозрила, небрежно добавил: — Это был один из тех летчиков, что у нас работали. В то время дела у нас шли хорошо, могли себе позволить и людей нанять… Но то, что ты мне сейчас рассказала, — добрый знак. Обычно маленькие дети плачут в самолетах. Если ты рассмеялась, значит, ты родилась для этого.
— Послушайте, вы меня разыгрываете? Вся эта история с наследством — это ведь розыгрыш, да?
— Нет, не розыгрыш, — серьезно сказал я. — И сейчас я тебе это докажу. Скажи, у тебя есть работа?
Она скорчила гримаску.
— Есть, в одной фирме. Продажа товаров по телефону.
— Я научу тебя водить самолет. Если ты не против, начнем прямо завтра. Идет?
Я протянул ей руку. Когда-то я вот так же протянул руку тебе, а потом твоей дочери; теперь настал черед твоей внучки.
— Водить самолет? — недоверчиво переспросила она. И не удержалась, улыбнулась.
— Ну не самолет — авиетку. Такой маленький самолетик.
— Хм… А что, я не против!
И она пожала мою руку. Твоя рука, воскресшая из небытия, твои пальцы.
Я научил твою внучку летать. Она была способной, очень способной. Нет, что я говорю: она очень способная. О ней ведь можно в настоящем времени, не то что о нас с тобой. И она уже налетала много часов.
Я предложил ей устроить торжественное открытие фирмы седьмого ноября — в день рождения ее матери, как дань ее памяти. Она не знает, что на самом деле с этой датой все обстоит намного сложнее, не знает, в каком далеком прошлом началась эта долгая история. Я не говорил с ней ни о тебе, ни о войне; не знаю, что рассказала ей мать, о чем умолчала. Я всегда делал вид, что далеко не все знаю о прошлом их семьи.
Эту историю я начал писать в тот самый день, когда состоялся наш первый урок. Я хочу, чтобы когда-нибудь она обо всем узнала — кто она, откуда и благодаря чему или, вернее, кому ее судьба, ее призвание — летать.
Мой план к тому времени уже сложился. Я продал мансарду сыну Кортеса. Он строитель и уже давно на нее заглядывался. Теперь наконец-то он сможет все в доме переделать — и ваши с Рамиро комнаты, и комнаты дона Мануэля — и оборудовать там новые современные квартиры. Деньги, вырученные за мансарду, я положу на имя твоей внучки; она узнает об этом лишь тогда, когда меня не станет. Ей понадобится этот капитал, чтобы встать на ноги, и это лучшее применение, которое я могу найти для своего достояния.
Я уверен в том, что делаю, — и все же иногда колеблюсь. Хотя навстречу смерти я иду совершенно сознательно, иногда меня одолевает безотчетный страх перед нею. Вот я пишу эти строки, и каждое написанное слово приближает меня к концу.
Однажды ночью я засомневался. А может, сделать иначе? Может, просто отдать эту рукопись твоей внучке, пусть прочитает, а самому сесть рядом и дожидаться, что она скажет? И тут снова, уже во второй раз, чудесным образом вмешался телевизор.
Несколько дней тому назад, сообщили в новостях, где-то в Африке представителями местных вооруженных формирований был убит старый испанский священник по имени Хавьер Альварес. По словам диктора, двадцать лет тому назад, после поездки в Латинскую Америку, которая перевернула его сознание, священник этот отказался от блестящей церковной карьеры, чтобы отправиться, как он выразился, «на передовую». Показали его фотографию. Худой, лысый, с белой бородой, улыбающийся. Я, моя настоящая судьба? Я рассмеялся — впервые за долгое время. Потом налил себе вина и выпил вместе с ним, с Хавьером Альваресом. Рассказывал ли он кому-нибудь когда-нибудь о том, что настоящее его имя — Хоакин Дечен?
Ну что ж, видно, тем двум мальчикам, которые обменялись документами в автобусе неподалеку от Авилы летом тридцать шестого года, суждено было умереть именно сейчас, в ноябре две тысячи четвертого. Жаль, что мне не удалось поддержать Хавьера в его смертный час, как он сейчас поддерживает меня.
Прощай, падре Хавьер, и счастливого пути. Удачи тебе в этом твоем последнем путешествии!
Вскоре и я в последний раз сяду за штурвал самолета. Не волнуйся, я не стану разбивать какой-то из самолетов твоей внучки — они теперь уже ее собственность. Я воспользуюсь для этого дела чьей-нибудь авиеткой — выберу такую, что застрахована на приличную сумму. Этому я научился у тебя: никогда не причинять вреда другим.
Прощай, Констанца! Или нет, не так: до встречи! Мне придает мужества мысль, что скоро я полечу навстречу к тебе.
— Спасибо.
Слово спокойно прозвучало в темноте.
Я открыл глаза; свет заливал мансарду. Оказывается, я заснул. И наступил день. Утро седьмого ноября.
Констанца, улыбаясь, стояла передо мной и легонько трясла меня за плечо.
— Спасибо, — повторила она. — Я хотела поблагодарить вас, перед тем как уйти.
Я глубоко вздохнул, снова закрыл глаза, потянулся, прогоняя сон. Когда ночью я дочитал рукопись, Констанца была еще погружена в свою зеленую книгу. Я долго наблюдал за тем, как она читает, лежа на боку на кровати. Смотрел, смотрел, да так и заснул прямо в кресле…
Она придвинула ко мне чашку с кофе. Свою она держала в руке. Чашки были разномастные — типичная картина для квартиры закоренелого холостяка вроде Дечена или меня. Мне досталась большая кружка с ручкой, скорее всего для супа, розовато-бежевого цвета, ей — пластмассовая чашка, больше похожая на крышку от термоса. Зато кофе был отличный — горячий и крепкий. И до чего же это было здорово — вот так сидеть с Констанцей, сжимая кружку в руке. Я вспомнил слова Дечена из его книги: Констанца умеет останавливать время. С ее внучкой, похоже, та же история.
Констанца-младшая придвинула поближе свой стул, уселась напротив. Поежилась, отпила глоток. Казалось, она раздумывает о чем-то — может, о только что прочитанном, — ну а то, что я оказался свидетелем ее раздумий, нисколько ее не волнует.
И тут случилось нечто невероятное, волшебное, удивительное: мы с Констанцей начали говорить молча, настроившись на одну невидимую волну. Звучит, конечно, неправдоподобно, но так было. Мы с ней глядели друг на друга, и каждый видел в глазах собеседника всю историю Дечена целиком, словно на бумаге… Прочитанная книга накрепко связала нас, и теперь мы понимали друг друга без слов, словно у нас были одни на двоих порывы и помыслы.
Мы не спеша выпили кофе. Молчание не вызывало у нас чувства неловкости, наоборот, мы радовались ему. Такое испытываешь в редкие мгновения, когда ты в ладу с собой и временное одиночество тебе не в тягость. С нами была горькая судьба Дечена и долгие блуждания Констанцы по лабиринту вплоть до седьмого ноября — дня, когда замкнулся круг. «Констанца, 7.11.36»… Если бы не эти слова на стене, я бы никогда не встретил свою Констанцу — ту, что сидела сейчас передо мной, и ничего бы не узнал о двух других — тех, что прошли долгий путь, чтобы привести ее сюда, где ей предстоит сделать важный шаг — может, самый важный в ее жизни.
Констанца допила свой кофе и встала. Это был знак. Я допил последний глоток. По пути к двери мы поставили в мойку посуду — мою большую кружку и ее пластмассовый колпачок.
В руках Констанца держала книгу и видеокассету. У меня в кармане лежал пакетик с подарком. Мы спустились по лестнице, вышли на улицу, на Пасео-де-лас-Делисьяс сели в такси.
— Куатро-Вьентос, — сказал я.
Констанца наклонилась вперед и назвала таксисту точный адрес аэродрома. Больше за всю дорогу она не проронила ни слова. Молчал и я. Честно говоря, я и сам толком не знал, почему поехал с ней. Только от поездки этой я бы не отказался ни за что на свете.
Пока мы ехали, Констанца несколько раз открывала зеленую книгу и перечитывала какие-то места, словно школьница, листающая учебник перед экзаменом. Иногда глаза у нее становились совсем несчастные. Но сейчас надо было не грустить, а действовать. У нее еще будет время оплакать Дечена. Да и Дечена не порадовали бы ее слезы.
Мы вышли из машины. Я расплатился с таксистом — честно говоря, на это ушли почти все деньги, которые были у меня при себе.
Констанца открыла дверь «Авиеток Аточа» своим ключом. Мы поднялись по лестнице на второй этаж, разделенный чем-то вроде стойки: по одну сторону — офис, по другую — зал для посетителей, украшенный макетами самолетов и фотографиями летчиков. На самом видном месте в рамочке висела ветхая, пожелтевшая газетная вырезка — та самая фотография «Плюс Ультра», единственная вещь, которую Дечен взял с собой семь десятилетий назад, отправляясь из приюта в новую жизнь.
Одно из окон выходило на ангар. Там стояли авиетки, которые предстояло сдавать напрокат, а дальше, под слоем брезента, угадывались очертания двух самолетов. Наверняка это были они — «фиат» Кортеса и «чато» — такой, как тот, на котором разбился Рамиро.
Констанца вздохнула и сказала решительно:
— Я приведу в порядок эти старые самолеты. И устрою представление, которое задумал Хоакин. Как в той деревне в Альмерии…
Она вытащила из шкафа афишу, в которой сообщалось об открытии «Авиеток Аточа». Цены, расписание работы и все такое. Седьмого ноября — открытие. Вышла на улицу. Я пошел за ней и помог ей повесить афишу рядом с дверью.
Мы отошли на несколько метров — посмотреть на афишу издали. Мне показалось, что самое время отдать ей пакетик с подарком. Она взяла его в руки, глаза ее заблестели. Это был тот самый подарок, который Дечен приготовил для нее собственноручно. Бережно держа в руках пакетик, Констанца осмотрела его со всех сторон. Затем открыла. Внутри оказалась маленькая баночка из прозрачного стекла — к моему изумлению, совершенно пустая.
Констанца улыбнулась моей реакции. Потом посмотрела на небо.
— Воздух. Воздух летчика, — объяснила она. — Он рассказал мне про этот обычай на первом уроке, когда позволил мне взять в руки штурвал. Во времена его юности у летчиков было принято дарить девушкам «воздух летчика» вместо цветов. В большинстве самолетов кабины ведь были открытыми, и набрать в баночку немного небесного воздуха не составляло труда. Мне тогда показалось это забавным и немного старомодным…
Она бережно спрятала баночку в карман. Любопытно, что Дечен постеснялся рассказать в книге, что именно дарит. Я представил, как он собирает вот такой вот небесный воздух для первой Констанцы, для второй Констанцы, но подарить не осмеливается…
Констанца сделала несколько шагов вдоль взлетной полосы и остановилась спиной ко мне. «Воздух летчика», похоже, растрогал ее, хоть она не подала виду. Я смотрел, как она неподвижно стоит там одна, на ветру; теперь она казалась мне совсем маленькой и хрупкой. И еще очень-очень храброй. До чего ж я ею восхищался!
Я направился к ней, по дороге пересчитывая монетки — все, что осталось у меня после разорительной поездки на такси. Подошел поближе, осторожно откашлялся. Она обернулась.
— Скажите, это здесь можно взять напрокат самолет? Я хотел бы совершить небольшую прогулку по воздуху. Дело в том, что я собрался писать книгу о летчиках, о битве за Мадрид… и мне, знаете, хочется понять, что именно человек ощущает в небе, что это такое — летать…
Я помялся, изображая неловкость и растерянность. Она рассмеялась.
— Шестьдесят евро за полчаса.
— Видите ли… у меня осталось только три евро.
Она взяла мои монетки.
— Идет, пусть будет три евро за полчаса. А шефу я ничего не скажу.
Продолжая игру, мы зашагали к самолету. Но когда мы забрались в кабину, лицо Констанцы вновь стало серьезным. Это был ее первый полет на собственном самолете, первый полет в ее новой жизни.
Она повернула ключ зажигания и уже собиралась завести двигатель, когда мы увидели самолет. Констанца следила за ним не отрывая глаз, я тоже. Самолетик летел строго горизонтально; очутившись перед нами, словно все было рассчитано заранее, он вдруг выпустил шлейф белого дыма. Мы вздрогнули. Наверно, оба представили себе одно и то же: вот сейчас самолетик закрутит волчок, вот сейчас начнет выводить на небе, буква за буквой, «Констанца»… Может, Дечену удалось ненадолго отлучиться из своего смертного далека, чтобы подбодрить Констанцу, а может, Рамиро и Кортес, освободившись в бесконечном покое небытия от груза вины и обид, были сейчас рядом с ним в кабине…
Самолетик пролетел мимо нас и исчез из виду. Белый дымный хвост долго тянулся за ним по воздуху и наконец растаял.
— Это сельскохозяйственная авиация, они вредителей с воздуха чем-то опыляют. Пробный полет, наверное, — сказала Констанца.
Я знал: она чувствует то же, что и я.
Она завела мотор.
— А здорово было бы пролететь сейчас над площадью Аточа, — сказал я. — Над мансардой.
— Чтобы летать над Мадридом, нужно специальное разрешение.
— Все равно, свою книгу я закончу именно так. Как тебе такая мысль? Ты и я. Над мансардой на площади Аточа.
Место, где погибла первая Констанца. И Рамиро, и дон Мануэль. Место, где прожил всю жизнь Дечен — жертва своей болезненной верности, ставшей его жизнью и его вечной мукой. Зато благодаря этой самой верности Констанца сейчас взлетит навстречу своей мечте о небе, которая пришла к ней из далекого прошлого. «Авиетки Аточа», мечта первой Констанцы, и второй тоже. Но только третьей Констанце суждено было увидеть, как мечта сбывается.
Я уже твердо решил, что сделаю из истории Дечена книгу, настоящий роман. А начну я его вот этими странными словами, которые давно уже дожидались своего часа в ящике моего стола: «Сны и мечты — они как вода. Плаваешь в них, но ухватиться за них не можешь».
Да, решено, я расскажу историю Хоакина Дечена — вопреки тому, что сны — они как вода… А может, именно поэтому.
Только вот как же ее закончить?
В романе ведь можно позволить себе пренебречь реальными препятствиями? Ну тогда в конце мы с ней отправимся в полет над Мадридом. Увидим с воздуха мансарду Дечена, крышу, на которую он выбирался ночами в тридцать шестом, чтобы отправлять донесения Кортесу, влюбленному Кортесу, а тот ждал от него новостей, кружа в небе над площадью, как и мы сейчас. Представим себе, что души Констанцы, Рамиро, дона Мануэля до сих пор где-то здесь, что слова, нацарапанные на стене, — «Констанца, 7.11.1936» — так и останутся там навсегда.
Пока я обдумывал все эти варианты, Констанца вывела самолет на взлетную полосу. Я увидел ее решимость, ее загадочную улыбку, ее взгляд, устремленный прямо перед собой, руки, сжимающие штурвал крепко и в то же время нежно — точь-в-точь как учил ее Дечен. Увидел — и сразу понял, каким будет конец моей книги.
Констанца, внучка Констанцы и дочь Констанцы, отправляется в полет. Еще немного, и она взлетит высоко-высоко — наконец-то свободная, наконец-то хозяйка своей судьбы; взлетит, чтобы оттуда, сверху, взглянуть на мир, оставшийся далеко внизу. На то, что ниже неба.

Знаменитый трансатлантический перелет «Плюс Ультра» из Испании в Аргентину в январе 1926 года.

Приземление в Буэнос-Айресе.

Рамон Франко, ставший после этого перелета национальным героем Испании

Рамон Франко с пилотом Руисом де Альда.

Площадь Пуэрта-дель-Соль: здесь был вход в метра.

Итальянский бомбардировщик «Савойя Маркетти» SM.81 в сопровождении истребителей «Фиат» CR.32 бомбит Мадрид. Осень 1936 года.

Мадрид после бомбежки в декабре 1936-го.



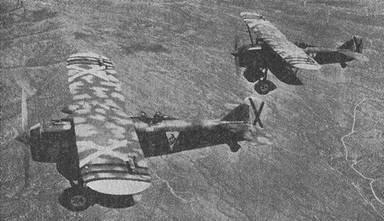
Истребитель «Фиат» CR.32, получивший прозвище «чирри» («сверчок»), был основным самолетом франкистских летчиков и самым массовым типом самолета в гражданскую войну в Испании.


Первые И-16 на аэродроме под Мадридом. Ноябрь 1936 года.


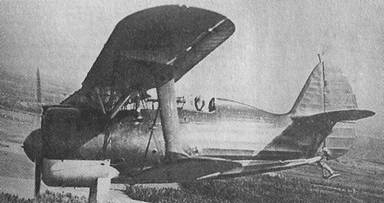
Легендарные «чато» («курносые») — советские истребители-бипланы И-15, сражавшиеся на стороне республиканцев.
[1] Национальный флаг Испании представляет собой две красные полосы и желтую между ними. В 1931 году был введен новый республиканский триколор из красной, желтой и фиолетовой полос. Во время гражданской войны на контролируемых франкистами территориях он был заменен прежним. В 1939 году, после падения Республики, флаг снова официально стал красно-желтым.
(обратно)[2] Альпаргаты — традиционная обувь испанских крестьян с полотняным верхом и подошвой, сплетенной из пеньки или дрока.
(обратно)[3] Имеется в виду «мертвая петля»
(обратно)[4] Центральная улица Мадрида.
(обратно)[5] Пуэрта-дель-Соль по-испански — ворота солнца.
(обратно)[6] Красный Барон — Манфред фон Рихтгофен (1892–1918), немецкий военный летчик, считавшийся лучшим асом Первой мировой войны. Получил свое прозвище из-за того, что летал на боевые задания на ярко-красном истребителе.
(обратно)[7] Энрике Листер (1907–1994) — республиканский военачальник, организовавший в Мадриде народное ополчение, командир легендарного Пятого полка. После поражения Республики эмигрировал в Советский Союз, воевал в рядах Красной Армии, с 1946 года жил в Югославии, в 1990-м вернулся в Испанию.
(обратно)[8] Хосе Миаха (1878–1958) — генерал, участник гражданской войны. После эвакуации правительства из Мадрида был назначен главой Совета обороны. Когда Республика пала, эмигрировал; умер в Мексике.
(обратно)[9] Висенте Рохо (1894-19661 — генерал, преподаватель Высшей военной школы при генштабе Вооруженных сил Испании, участник гражданской войны. Воспитывался в сиротском приюте. Во время военного мятежа 1936 года остался верен Республике, возглавил генштаб республиканских войск. После поражения республиканской армии эмигрировал, жил в Аргентине и Боливии, в 1957 году вернулся на родину.
(обратно)[10] Речь идет о советских одномоторных истребителях И-15, созданных в 30-х годах.
(обратно)[11] Бульвар, на котором находится музей Прадо.
(обратно)[12] Луис Даоис (1767–1808) — капитан испанской армии. 2 мая 1808 года в Мадриде произошло восстание горожан против наполеоновских войск. Даоис раздал восставшим оружие и возглавил сопротивление французским войскам в районе дворца Монтелеон. Погиб в бою.
(обратно)[13] Комплекс военных и гражданских аэродромов в Мадриде.
(обратно)[14] Альмерия — провинция в Андалусии с колоритным горно-пустынным ландшафтом, напоминающим американский Запад поэтому здесь традиционно устраиваются исторические воздушные представления, снимаются вестерны и т. п.
(обратно)