Василий III (1505–1533) — первый правитель Московской Руси, которому мы можем взглянуть в лицо. Существующие изображения всех его предшественников — от Даниила Московского (1276–1303) и Ивана Калиты (1325–1340) до Ивана III (1462–1505) недостоверны. Они или стилизованы под шаблоны древнерусских миниатюр, или являются плодом фантазии немецких граверов раннего Нового времени (выдумавших облик Ивана III, который сегодня растиражирован во всех учебниках). Даже внешность сына Василия III, Ивана Грозного (1533–1584), известна нам не по современным ему портретам, которые столь же стилизованы. Мы знаем, как выглядел первый русский царь, благодаря скульптурной реконструкции, выполненной в 1965 году по черепу монарха скульптором-антропологом Михаилом Михайловичем Герасимовым.
А вот герой нашей книги — великий князь и «един правый государь всея Руси», как он себя называл, Василий III — глядит на нас со своего портрета, древнейшей русской парсуны, достоверного лицевого изображения. Мы видим умное (даже скорее хитрое), волевое лицо человека. Оно покрыто глубокими морщинами, что свидетельствует: великий князь много повидал на своем веку и принимал неприятные решения. В то же время в его глазах застыли решительность и твердость, уверенность в своем праве и своей правоте. Это человек с идеалами и принципами — недаром он с благоговением взирает на изображенного на той же парсуне своего небесного покровителя, святого Василия Великого.
Изображение Василия III уникально, а история его появления загадочна. В нем слишком много необычного. Бросается в глаза удивительное портретное сходство Василия III со скульптурными портретами его матери — Софьи Палеолог, и сына — Ивана Грозного. У всех трех присутствует фамильный, очень характерный крючковатый «палеологовский» нос. Таким образом, портрет писался человеком, который помнил внешний облик Василия III. Ученые убеждены, что данное сходство неопровержимо развенчивает домыслы, будто Василий III не являлся настоящим отцом Ивана IV, «прозванного за свою жестокость Васильевичем», как утверждал словарь «Ля рус».
Подробнее об этих дерзких домыслах речь пойдет в предпоследней главе книги. Здесь же только заметим, что икона — не фотография. Ее датировки различны, от 1560-х годов до XVII века[1]. Кому-то при Иване Грозном (по его приказу?) или даже позже понадобилось написать такой портрет Василия III, чтобы при взгляде на него ни у кого не возникало сомнения, что перед нами — отец Грозного. Но портрет создавался художником по памяти — тогда надо предположить, что автор многие годы хранил в памяти четкий до мелочей облик Василия III.
Или же образ отца писался, глядя на сына? И зачем тогда это делалось? Не для того ли, чтобы выставить этот портрет — напомним, беспрецедентный, первый в русской истории портрет великого князя Московского — в Архангельском соборе Московского Кремля, чтобы при взгляде на него и на Ивана Грозного ни у кого не возникало бы сомнения, кто чей сын?
Однако все, что мы знаем о Грозном, позволяет утверждать, что он чувствовал себя абсолютно уверенно и вряд ли нуждался в подобной мистификации для самоутверждения. Способы доказательства своей правоты у Ивана IV были дешевые и сердитые, при этом весьма доходчивые, а не столь изощренные, как хитроумная операция под названием «портрет моего отца».
Необычность парсуны этой загадкой не исчерпывается. Напомним, что перед нами — икона. Бывало, что светских правителей писали вместе с их небесными патронами. Но весь вопрос в масштабах фигур. Обычно мы видим большую фигуру небесного покровителя и ничтожно малую, у его ног, фигурку правителя. Здесь же Василий III равен по масштабу изображения с Василием Великим, что позволяет согласиться с недавней гипотезой московской исследовательницы Т. Е. Самойловой, что Иван Грозный готовил церковное прославление своего отца как святого[2]. Беспрецедентность подобного шага тоже очевидна: в XVI веке были канонизированы Александр Невский (1547) и Михаил Тверской (1549) — но как далекие предки. Никто до Ивана Грозного в Московской Руси еще не додумался объявить святым своего отца всего через несколько лет после его смерти. Для попытки создания подобного культа должны быть более веские причины, чем сыно?вья любовь, тем более что осиротевший в трехлетнем возрасте мальчик-государь Иван Васильевич вряд ли хорошо помнил своего отца…
Мы специально подробно остановились на интригующей истории этой картины, ныне хранящейся в Государственном историческом музее в Москве. Столь же загадочна и таинственна эпоха Василия III. В ней тоже немало вопросов, до сих пор остающихся без ответа.
Почему Василий III не стал первым русским царем? Ведь еще в 1498 году с участием Дмитрия Ивановича, внука Ивана III и племянника самого Василия, был совершен первый обряд коронации по византийскому образцу. Именно при Василии III создаются главные памятники русской политической мысли, идеологии царской власти — Послание Спиридона-Савы и «Сказание о князьях владимирских». Василия III называли «царем» дипломаты иностранных держав. И тем не менее — всю жизнь он оставался «великим князем и государем», царский титул принял только его сын, Иван IV. Что же помешало?
Когда в России формируется приказная система центральной власти? Первые упоминания о «приказе» относятся как раз к эпохе Василия III. Но что означал данный термин в то время? Часть историков считает, что приказная система возникла в своих принципиальных чертах еще при Иване III, так как при нем мы впервые фиксируем сложившуюся систему дьяческого (приказного) делопроизводства, которая будет практически неизменной вплоть до конца XVII века[3]. О приказах нет упоминаний, но несомненно существование делопроизводства, аналогичного приказному, — следовательно, до нас просто не дошли эти упоминания.
Другие же исследователи выражают недоумение, как документы могли полвека не упоминать целую систему государственных ведомств (хотя при этом из данных ведомств и исходили). Они относят возникновение приказов к правлению Ивана Грозного, когда они как особые учреждения четко фиксируются в источниках[4]. Эпоха Василия III — как раз посредине между этими двумя крайними точками зрения. Как же выглядел аппарат центральной власти при этом государе?
Не менее сложна ситуация с местной властью. Долгое время считалось, что реформы по созданию органов местного самоуправления — губная и земская — были проведены позже, в 1530-х и 1550-х годах соответственно. Последние исследования позволяют предположить, что первые шаги к губной реформе были сделаны как раз правительством Василия III[5], а выдача губных грамот началась сразу после его смерти, в 1534–1539 годах. Почему же о них долгое время не было известно, почему столь важная реформа, менявшая образ жизни в регионах, оказалась столь «незнаменитой»?
Существовал ли Судебник Василия III? Если нет, то что из себя представляло некое «уложение», на которое ссылаются правовые акты того времени? Если это условное название Судебника Ивана III 1497 года, то почему от эпохи Василия III не сохранилось ни одного его списка (а только пересказ части статей послом Священной Римской империи Сигизмундом Герберштейном)? Обстоятельство совершенно непонятное, учитывая, что несомненно применявшийся Судебник Ивана Грозного 1550 года известен в нескольких десятках списков…
При Василии III очень непростыми были отношения верховной власти и церкви. Власть постепенно набирает силу, при поддержке церковников-«государственников» в ней растет тенденция подминать под себя религиозные структуры, прямо ставить их себе на службу. В полной мере это проявится при Иване Грозном, но ростки, несомненно, появились при Василии III с его процессами над православными духовными лидерами Максимом Греком и Вассианом Патрикеевым (1525 и 1531 годы). Тогда их отдали под суд за несогласие с властями. Но вслух сказать об этом было нельзя, и на суде зазвучали надуманные обвинения, столь нам знакомые по инсценированным процессам XX века: шпионаж в пользу иностранных держав, покушение на устои, ересь, то есть отклонение от генеральной линии…
С другой стороны, именно первая треть XVI века — время необычайного духовного напряжения, борьбы в православной церкви двух течений — нестяжателей и иосифлян. В литературе их противостояние нередко сводят к спорам о церковном землевладении: уместно ли церкви владеть богатствами и имуществом? Это не совсем верно — духовная материя, вокруг которой шла полемика, была гораздо тоньше. И именно верховная власть в лице Василия III выступала в данном противостоянии арбитром. Чего здесь было больше: политики, личных интриг или духовных исканий и искушений?
Именно при Василии III наступает коренной перелом в отношениях России с Западом. До первой трети XVI века Европа, точнее Священная Римская империя, рассматривала Россию как свой колониальный проект. Православные, хоть и считались схизматиками, в глазах католиков до 1520-х годов были вовсе не безнадежными — во всяком случае, Ватикан еще верил в возможность заключения с русскими католической унии, в их переход в лоно Западной церкви. Однако к концу правления Василия III даже самому твердолобому папскому легату стало ясно, что «московиты» католичества не хотят, а разговоры об унии поддерживают исключительно из политических соображений.
Это вызвало в Европе страшное разочарование в России. Если в начале XVI века она воспринималась как экзотическое, не очень правильное, но могучее и перспективное, способное к перерождению варварское государство, то к середине XVI века Россия для европейских мыслителей — однозначно «антиевропа», враждебная варварская тирания недохристиан-схизматиков[6]. Пройдет еще немного времени, и в европейских университетах начнут защищать диссертации на тему «Христиане ли русские?». России было категорически отказано в принадлежности к «христианскому миру», под которым тогда понимались европейские монархии во главе со Священной Римской империей.
Уронив свой цивилизационный имидж в глазах Запада (в чем, впрочем, как будет показано ниже, Россия не была виновата), Московское государство при Василии III зато громко заявляет о себе как крупный политический и военный игрок на европейской арене. Она активно теснит Великое княжество Литовское, отнимает от него территорию за территорией и явно выигрывает спор за историческое наследство Киевской Руси — русские земли Восточной Европы. Проигрывая одну за одной войны с русскими, Великое княжество Литовское вступило на тот скользкий путь, который спустя некоторое время приведет его к утрате собственной государственности и слиянию с Королевством Польским в единую страну — Речь Посполитую (по Люблинской унии 1569 года). Военное давление России было столь велико, что этот акт, видимо, был единственным способом спасти Литву. Начало этого процесса было положено территориальными захватами Ивана III и Василия III.
При Василии III меняются отношения России с Немецким рыцарским орденом. Причем меняются настолько, что русские заключают с вековечным врагом — крестоносцами — военный союз (!) и финансируют войну ордена с Королевством Польским. Союзничек, правда, оказался хлипким, никакого успеха рыцари не добились. Но этот эпизод наглядно показывает, насколько изменились политические роли и ордена, и России.
Сложнее при Василии III развивались отношения с мусульманским Востоком — здесь, как раз наоборот, вместо успехов был откат назад. При Иване III Россия свергла татарское иго (1480), взяла Казань и приняла ее под протекторат (1487), заключила союз с крымским ханом. Василий III утратил практически все эти достижения. После ряда военных переворотов был фактически потерян контроль над Казанью. Крымский хан из друга превратился в отъявленного врага. Разве что иго не восстановилось… Хотя в 1521 году был эпизод, когда Василий III в панике выдал крымскому хану кабальную грамоту, согласно которой Русь покоряется Крыму, как некогда Орде. И лишь героизм и находчивость рязанского воеводы Ивана Хабара помогли уничтожить этот документ.
Эти и другие сюжеты истории правления Василия III будут в центре внимания настоящей книги. Хотелось бы надеяться, что в результате облик государя станет читателям понятнее и мы сможем не только взглянуть в глаза его изображению на портрете, но и представить, что же скрыто за этой парсуной, за сухими строчками летописи, за взволнованными словами дипломатических донесений.
В заключение не могу не выразить благодарность всем тем, кто помогал мне при написании этой книги. Без настойчивости Вадима Викторовича Эрлихмана она никогда не увидела бы свет. Многими советами и рекомендациями я обязан М. М. Крому, А. Н. Лобину, В. В. Шапошнику и другим. Балтийские штудии, вошедшие в данную книгу (шестая глава), разрабатывались в рамках российско-эстонского проекта «Борьба за Прибалтику в XV–XVI веках глазами современников и потомков» (грант РГНФ № 09-01-95105 а / Э). За помощь и советы огромная благодарность Анти Селарту и Карстену Брюгеманну.
Толмачево — Санкт-Петербург, 2009–2010
Василий родился в ночь с 25 на 26 марта 1479 года. Крещен он был 4 апреля в Троице-Сергиевом монастыре знаменитым ростовским архиепископом Вассианом Рыло и троицким игуменом Паисием. Он был наречен в честь Василия Исповедника, епископа Парийской епархии в Малой Азии, подвергшегося в 728 году гонениям со стороны иконоборцев. Его память отмечается 12 апреля.
В Шумиловский список Никоновской летописи позже была внесена легенда о чудесном знамении, сопровождавшем рождение княжича. Легенда эта была сочинена уже после смерти Василия III митрополитом Иоасафом, занимавшим кафедру в 1539–1542 годах. В ней присутствуют сказочные элементы: жена Ивана III, Софья Палеолог, была сильно удручена тем, что у нее родилось уже три дочери, а сына — наследника престола — все нет и нет. Княгиня поехала на богомолье в Троице-Сергиев монастырь молиться преподобному Сергию Радонежскому о сыне. Между монастырским селом Клементьевом и монастырем ей было видение: инок со священным обликом держал в руке мальчика и «его же верже в недра великой княгине и абие невидим бысть». Софья в испуге «вострепетала и начала изнемогати и к земле преклоняться». Упавшую в обморок государыню подхватили придворные. Она в беспамятстве шарила руками за пазухой, пытаясь найти «вверженного в нее отрока». Придя в себя, княгиня осознала, что ее посетило видение, скорее доброе, чем сулящее беду, и вознесла молитвы у гробницы преподобного Сергия[7]. А вскоре родила сына Василия, который, таким образом, был благословлен на рождение самим преподобным Сергием, покровителем князей-Калитичей московского дома.
Легенды — легендами, но уже в момент рождения Василия Ивановича было очевидно, что княжича ждет непростая судьба и ему потребуются немалое мужество, гибкий ум и элементарное везение, чтобы не пасть жертвой придворных интриг и сесть на великокняжеский престол. Случай, выражаясь современным языком, был сложный. Слишком непростые родители были у ребенка. С одной стороны, Василий был первым в Московской Руси представителем великокняжеской династии, который происходил от императоров великой Византийской империи, знаменитой династии Палеологов. С другой — он не был первенцем у своего отца, и тот долгое время не рассматривал его в качестве наследника престола. Василию пришлось буквально прорываться к власти, убирая конкурентов, и в этом ему очень сильно помогла мать, бывшая византийская принцесса.
Огромное честолюбие и энергия, с которыми Василий добивался верховной власти, во многом вытекали не из гордыни, а из подсознательного страха, которым была с детства объята душа каждого из младших князей-Рюриковичей. Быть младшим княжичем оказывалось смертельно опасным — старшие братья, опасаясь юных соперников, всячески их притесняли, ограничивали в правах, не гнушались и карательными акциями, вплоть до убийства и тюремного заключения.
Судьба младших была незавидной и раньше, но особенно эта проблема обострилась как раз при отце Василия, Иване III. Он строил единую страну и, не стесняясь в средствах, подминал под себя княжеские фамилии, ломал и калечил жизни князей, бывших «братьями молодшими» по отношению к «брату старейшему». Урок был жесток и нагляден. Относительно спокойно чувствовали себя только те, кто избрал тихую жизненную стратегию, в стиле «мышь под веником»: не жалеть о потерянных землях, «переборе людишек», бесперспективности политической судьбы. Да и эта «тихость», даже активно демонстрируемая, не спасала от возможности стать просто разменной картой в чужих играх.
Поэтому князь, не желавший быть «мышью под веником», должен был бороться за свой высокий статус, карабкаться на вершину властной пирамиды. Перед глазами Василия были два примера, как это надо делать: отец, Иван III, успешный и сильный политик, создавший из лоскутьев удельных княжеств и земель единую могучую державу. И мать, Софья Палеолог, искусная в политических интригах, сумевшая стать из бедной и несчастной принцессы издохшей Византийской империи правительницей одного из крупнейших государств Европы — государства всея Руси.
В чем же родители Василия III могли послужить примером своему сыну?
Зоя (Софья) Палеолог была дочерью Фомы Палеолога, деспота Морей — маленького обломка Византийской империи, занимавшего юго-запад греческого полуострова Пелопоннес. Дата ее рождения точно неизвестна, исследователи называют разные годы — от 1443-го до 1450-го (ближе все-таки к последней дате).
В середине XV века некогда всемогущие Палеологи стали «царями без царства». Византия пала в 1453 году под ударом турецкого султана Мехмеда II Фатиха, и ее последний император Константин Палеолог погиб при штурме столицы. В 1461 году турецкие войска захватили Морею. Фома вместе с детьми, Зоей, Андреем и Мануилом, бежал на итальянский остров Корфу. Главным сокровищем, которое он сумел прихватить с собой, была голова апостола Андрея Первозванного. Фома сумел выгодно вложить этот «святой капитал»: за спасение христианской реликвии он был принят самим папой Павлом II и получил ежемесячный пансион в 500 дукатов. Теперь семье Палеологов, некогда правивших Восточной Римской империей, занимавшей половину известного европейцам обитаемого мира, было на что жить…
После смерти Фомы в 1465 году его детей привезли в Рим. Их стал опекать кардинал Виссарион, бывший архиепископ Никеи, назначенный в 1463 году патриархом Константинопольским. Он был ревностным сторонником Флорентийской унии 1439 года, объединившей православную и католическую церкви. Как известно, Константинополь рассматривал унию как последнюю надежду на спасение, гарантию помощи Запада в войне с турками — надежду несбывшуюся. Европа бросила Византию в войне с мусульманским Востоком на произвол судьбы. Россия же с ее крупнейшей в мире православной митрополией Флорентийскую унию отвергла.
Виссарион считал своим прямым долгом взять под опеку последних Палеологов и воспитать их в католической культуре, тем самым окончательно закрепив латинско-римский выбор Константинополя (пусть и павшего). Вдруг Восточная Римская империя когда-нибудь возродится, тогда на ее престол можно будет посадить императора, выращенного в проримском духе. Наследником византийской короны считался брат Зои Андрей, который носился с идеей поднять на борьбу с турками итальянские города-государства и восстановить Византию.
Однако, как это часто бывает, высокие лозунги в общественной жизни сочетались с неразборчивостью в личной. Наследник прав на Византийскую империю внезапно женился на служанке, чем низко пал в глазах итальянской аристократии. Никто больше не хотел и слышать о его великих планах. Кончилось тем, что Андрей стал торговать единственным капиталом, который у него был, — правами на византийский престол. В 1494 году он продал их французскому королю Карлу VIII (опять-таки, всего лишь за пансион!), а в 1502 году завещал уже испанским правителям — Фердинанду и Изабелле. В том же году он умер в нищете в Риме.
Младший брат Зои, Мануил, покатился по наклонной плоскости еще стремительнее. В 1476 году он решил уехать к врагам, погубившим его государство и его династию, — туркам. Мануил принял ислам, жил в Константинополе, ставшем Истамбулом. Представитель императорской династии закончил свои дни привратником, обслуживая постояльцев в одном из домов.
Дочерям Фомы Палеолога повезло больше. У них было еще одно достоинство, помимо принадлежности к последней династии погибшей империи, — красота и женская стать. Проще говоря, у них был шанс успешно выйти замуж. Правда, в выборе мужей от них мало что зависело, они становились заложницами политики своих римских покровителей. Зато они пользовались определенным спросом на международном монархическом брачном рынке.
Судьба старшей сестры Зои, Елены, сложилась тихо и печально — она вышла замуж за сербского короля Лазаря III Бранковича. Сербия также страдала от турок, как и ее родная Морея. После смерти мужа Елена уехала в Рим и постриглась в монахини. Умерла она в 1473 году.
Оставалась Зоя — изумительно белокожая, с пышными телесными формами, чувственным ртом, темными искрящимися глазами. Она была среднего роста — около 160 сантиметров. Южное происхождение и гормональные нарушения вызвали наличие небольших усиков на верхней губе, но они придавали девушке особое очарование. Впрочем, европейцы, далекие от проблем принцессы-бесприданницы, судили о ней весьма недобро. Как пример можно привести «плутовской отчет» флорентийца Луинжи Пульчи 1472 года, написанный им для Лоренцо Медичи по впечатлениям от заочного бракосочетания Софьи с послом Ивана III. Луинжи на этой церемонии сопровождал жену Лоренцо, Клариче Орсини. Иначе как уничтожающим и издевательским этот текст назвать нельзя:
«Мы вошли в комнату, где на высоком помосте сидела в кресле раскрашенная кукла. На груди у нее были две огромные турецкие жемчужины, подбородок двойной, щеки толстые, все лицо блестело от жира, глаза распахнуты, как плошки, а вокруг глаз такие грады жира и мяса, словно высокие дамбы на По. Ноги тоже далеко не худенькие, таковы же и все прочие части тела — я никогда не видел такой смешной и отвратительной особы, как эта ярмарочная шутиха. Целый день она беспрерывно болтала через переводчика — на сей раз им был ее братец, такая же толстоногая дубина». Заметим, однако, что Клариче совсем иначе оценила внешность Зои. «Твоя жена, будто заколдованная, увидела в этом чудище в женском обличье красавицу, а речи переводчика явно доставляли ей удовольствие, — продолжает Луинжи. — Один из наших спутников даже залюбовался накрашенными губами этой куклы и счел, что она изумительно изящно плюется. Целый день, до самого вечера, она болтала по-гречески, но есть и пить нам не давали ни по-гречески, ни по-латыни, ни по-итальянски. Впрочем, ей как-то удалось объяснить донне Клариче, что на ней узкое и дурное платье, хотя платье это было из богатого шелка и скроено по меньшей мере из шести кусков материи, так что ими можно было накрыть купол Санта-Мария Ротонда. С тех пор мне каждую ночь снятся горы масла, жира, сала, тряпок и прочая подобная гадость»[8].
Устройством ее брака занимался сам кардинал Виссарион. В 1466 году возник проект выдать ее замуж за короля Кипра — но он провалился.
В 1469 году при участии Виссариона, папы Павла II и политиков Венеции созрел новый план — женить на Зое правителя далекой и могущественной Московии, Ивана III. Великий князь овдовел в 1467 году. Путем женитьбы Рим рассчитывал соблазнить русского государя византийским наследством — пусть он и отвоевывает Византию от турок! Идея вовлечь Россию в антитурецкую лигу в качестве главной военной силы активно витала в головах европейских политиков. А там и до католической унии, подчинения православия Риму и папе, возможно, будет недалеко…
Виссарион в 1469 году обратился к Ивану III с письмом, в котором предлагался данный брачный союз. Однако переговоры затянулись до 1472 года. Резко против «латинянки» выступил московский митрополит Филипп. Не помогло и именование в посольских грамотах от папы Павла II Зои Палеолог на православный манер — Софьей Ветхословец. Русская церковь усматривала в проекте этого брака — и, надо заметить, совершенно справедливо — намерение Рима распространить свое влияние на великокняжескую семью и использовать Россию в интересах католического мира.
Однако Иван III не боялся, что жена сможет внушить ему прокатолические взгляды. 25 мая 1472 года пред очами нового папы, Сикста VI, предстало русское посольство. Оно привезло согласие правителя России на брак. 1 июня 1472 года Софья обручилась в Риме в церкви Святого Петра с Иваном III, которого представлял посол Иван Фрязин (Джан Батиста дела Вольпе). Получив наставления лично от папы Сикста VI в ходе прогулки в садах Ватикана, Софья 24 июня отбыла в далекую Московию. Путь лежал через всю Европу — Флоренцию, Болонью, Триент, Инсбрук, Аугсбург, Нюрнберг, Брауншвейг, Люнебург и Любек. Отсюда морем 10 сентября невеста отправилась в Ливонию и 21 сентября, претерпев шторма осеннего Балтийского моря, прибыла в Ревель (Таллин). Дальше уже все было просто. 11 октября 1472 года византийскую принцессу торжественно встретил Псков — первый русский город на ее пути.
Мы лишь гипотетически можем представить себе чувства и эмоции, которые обуревали Софью в тот момент. Но их можно предположительно вывести из ее дальнейших поступков. Эта была молодая женщина, лет в десять-одиннадцать потерявшая родину и вынужденная жить при чужих домах, на чужие деньги, принимать чужое покровительство и воспитание. Родители не смогли вырастить ее под своей лаской — ее мать, Екатерина, умерла в 1462 году, когда Зое было около двенадцати лет, три года спустя умер и отец. С юных лет девушка ощущала: ее воспитывают для каких-то своих целей чужие люди, которые рано или поздно предъявят счет за все благодеяния и потребуют расплаты. При этом она — представительница древнего и славного рода Палеологов, правителей некогда огромной и могущественной империи. И теперь византийская принцесса — во всем зависимая содержанка и «товар» на брачном рынке, инструмент в политических игрищах! Самое ужасное было в том, что и возмутиться было нельзя — отказ от участия в этих играх автоматически означал бы путь вниз, скорее всего в монастырь…
В подобных испытаниях человек или впадает в ничтожество, или необычайно закаляет характер. Софья стоически выдержала известие, что ее отдают замуж за чуть ли не варвара из неведомой Московии — очевидно, что в рейтинге царственных женихов правитель-схизматик из далекой страны, о существовании которой в Европе в то время нетвердо знали, стоял куда ниже европейских королей. Однако в этом браке было несколько несомненных плюсов: православная страна, явно весьма не бедная и могущественная, и к тому же очень далекая от Рима.
Мне кажется, что Софья, с умной улыбкой кивая на все инструкции со стороны Виссариона и Сикста VI, с самого начала понимала, что она не будет агентом Рима и ревностной сторонницей его планов. У человека с таким детством, как у нее, на первом плане стоит страстное желание устроить свою собственную судьбу, а вовсе не намерение пожертвовать собой в борьбе за чужие идеи. То, что в России симпатизировать католичеству и Риму опасно для здоровья и жизни, с пронзительной ясностью продемонстрировал прием посольства Софьи под Москвой в начале ноября 1472 года. Сопровождавший невесту папский легат Антонио Бонумбре, расценивавший этот брак как триумф политики Рима, ехал во главе процессии и торжественно вез рядом с собой «крыж» — большой католический крест, использовавшийся в процессиях. Подобная демонстрация вызвала в Москве некоторое замешательство. Митрополит Филипп заявил, что если «крыж» внесут в одни ворота столицы, то он, глава Русской церкви и «богомолец великого князя», выйдет через другие. Назревал грандиозный скандал, который Иван III погасил решительно и сердито: навстречу дорогим гостям был послан боярин Федор Хромой, который встретил посольство в 15 верстах от Москвы. Софья могла своими глазами видеть, что в ее новой стране бывает с теми, кто доставляет проблемы русскому государю: боярин «крыж» отобрал, а допустившего подобное безобразие посла Фрязина «поймал да пограбил». Впечатление от такого «теплого» приема было столь сильным, что все мысли об «агенте Рима» тут же вылетели у Софьи из головы. Благо, Рим далеко, и оттуда никак нельзя было проконтролировать, как она выполняет полученные инструкции. Московский государев двор всегда был для иностранцев очень закрытой структурой.
Конечно, попав в Москву, Софья испытала своего рода культурный шок. Для принцессы, выросшей в каменных городах Морей и Италии, было дикостью видеть кругом сплошные деревянные строения. Даже с новым мужем ее венчали не в каменном храме, а во временной деревянной церкви, стоявшей на месте разобранного Успенского кремлевского собора XIV века! Каково это было — после грандиозных римских соборов? Каково после каменных твердынь итальянских городов видеть обветшавший белокаменный Кремль, построенный еще при Дмитрии Донском, почти столетие назад? После итальянских библиотек и утонченных образованных людей, после восторженного приема в Германии «последней византийской принцессы» общаться с персонажами вроде боярина Федора Хромого?
Недаром Софья так дорожила малейшими следами итальянской культуры и всячески старалась культивировать их на Москве. При ней на Русь приезжают итальянские архитекторы, возводится новый Кремль, новые каменные соборы. При Софье был особый двор, в который вошли оставшиеся с ней в Москве представители аристократических итальянских фамилий. Она усердно создавала вокруг себя свою среду обитания, хоть немного похожую на привычную Италию. Столь усердно, что это породило даже легенды, главная из которых — миф о библиотеке византийских императоров, якобы вывезенной Софьей на Русь в качестве приданого. И хотя исследователями доказано, что это не более чем выдумка, люди до сих пор ищут таинственную «библиотеку Ивана Грозного», восходящую к мифической библиотеке Софьи Палеолог…
Софья была твердо намерена устроить свою судьбу. Для этого требовалось быть хорошей женой великому князю и нарожать ему много детей. Чтобы он не вспоминал, что перед ним иностранка, получившая католическое воспитание и тоскующая о культуре далекой Италии. Чтобы не слушал церковников, шептавших в уши великому государю о «латинской угрозе», исходящей прямо из его супружеской постели. Требовалось терпение — о, за сиротские годы при римском дворе Софья научилась терпеть.
Примечательно, что ни Иван III, ни сама Софья не муссировали идею, что в результате этого брака Россия теперь обретает какие-то права на Византию. В какой-то степени это было связано с тем, что наследником имперского престола считался Андрей Палеолог, а не его сестра. Но все равно, родство с Палеологами могло дать свои преимущества на международной арене. Тем не менее оно не акцентировалось. Вообще, похоже, что связь Калитичей с Палеологами больше интриговала историков XIX–XX веков, чем самого Ивана III. Софья же держалась подчеркнуто скромно. Лишь в 1499 году, когда она устранит всех своих соперников и расчистит для сына Василия путь к трону, у нее прорвется тщательно скрываемое честолюбие и в шитой пелене, даре государыни в Троице-Сергиев монастырь, на вышитой вкладной надписи Софья назовет себя «царевной царьгородской».
За 20 лет Софья родила Ивану III 12 детей: Елену (род. 1474), Феодосию (1475–1501), Елену (1476–1513), Василия (1479–1533), Юрия (1480–1536), Дмитрия (1481–1521), Евдокию (род. 1483), Ивана (род. 1485), Симеона (1487–1518), Андрея (1490–1536), Евдокию (1492–1513) и Бориса (ум. 1503). В этом плане брак, несомненно, удался.
Но была одна проблема: Софья была хоть и любимой, хоть и плодовитой, но — второй женой… Ее дети находились, конечно, в лучшем положении, чем дочь деспота Морей в Риме, но — они были вторыми. Софья, за время своего пребывания при московском дворе имевшая возможность лицезреть, что на Руси бывает с младшими представителями княжеских родов, положила свою жизнь на то, чтобы ее дети из вторых стали первыми и никогда не узнали бы ужасов сиротства при неласковых дворах других правителей. Ей это удалось, ее старший сын будет править Россией — в день ее смерти, 7 апреля 1503 года, это уже было очевидно. Как она смогла это сделать — об этом речь пойдет в нашей книге.
Софья была похоронена в Вознесенском соборе кремлевского Вознесенского монастыря, в 1929 году ее останки были перенесены в Архангельский собор. В 1994 году скульптор и эксперт в области судебной медицины С. А. Никитин воссоздал по черепу ее скульптурный портрет, и мы теперь знаем, как выглядела Софья незадолго до смерти, примерно в пятидесятилетнем возрасте. Перед нами лицо властной, уверенной в себе женщины с правильными чертами, которые слегка портит крючковатый нос. Да и губы немного полноваты, и нижняя выдается перед верхней, демонстрируя скрытую в душе гордыню. Такой облик бывает у людей, добившихся в жизни того, чего они хотели, — и эта характеристика вполне приложима к бедной дочери ничтожного деспота несчастной Морей, ставшей великой государыней всея Руси.
Иван Васильевич, будущий великий князь и государь всея Руси, родился 22 января 1440 года, в самый разгар войны за великое княжение между его отцом Василием II Васильевичем Московским и сыном Юрия Дмитриевича Звенигородского (ум. 1434) Дмитрием Шемякой. Как раз в том же 1440 году скончался брат Шемяки — Дмитрий Красный, и претендентов на власть осталось всего двое.
Через несколько лет, в 1446 году, отец Ивана Василий II будет схвачен своим врагом, ослеплен, после чего получит прозвище Темный. Однако он не смирится с поражением и начнет создавать антишемякинскую коалицию. И хотя мальчик рос в княжеском тереме, вдали от этих потрясений и передряг, кто знает, как он улавливал тревоги и страхи взрослых, как осмыслял случайно услышанные разговоры и как переживал ослепление отца?
В 1447 году семилетний Иван Васильевич впервые почувствует себя пешкой в большой политической игре: в этом году его обручили с дочерью тверского князя Марией Борисовной, тем самым заручившись если не поддержкой, то по крайней мере нейтралитетом могучей Твери. Свадьба состоится позже, в 1452 году, когда жениху исполнится 12 лет (невеста была еще младше).
В этом отношении судьбы Софьи и будущего Ивана III были немного схожи: оба с младых лет узнали, что представители императорского и великокняжеского родов — не хозяева своей жизни и их судьбы — не более чем разменная монета в планах сильных мира сего. Может быть, поэтому оба потом с такой силой и стремились стать этими самыми «сильными мира сего», творцами своего будущего?
Ранний брак не пошел на пользу Марии Тверской. В 1467 году она умерла. От нее остался всего один сын, Иван, родившийся 15 февраля 1458 года. Именно Иван Молодой считался наследником престола и опорой Ивана III. Его мы видим рядом с государем во многих политических акциях начиная с конца 1470-х годов.
В последующих строках вряд ли возможно описать все деяния Ивана III, взошедшего на московский престол 28 марта 1462 года. Об этом написаны многие тома. Но эскизно сказать о них все-таки надо, чтобы стала более понятной та историческая атмосфера, в которой подрастал будущий Василий III. По завещанию Василия II Иван III получил больше половины территории страны, в том числе такие крупные центры, как Москву, Владимир, Нижний Новгород, Суздаль и др. Остальные владения были распределены между четырьмя его братьями: Юрием, Андреем Большим, Борисом и Андреем Меньшим. Таким образом, борец за централизацию государства — Василий II Темный — своей последней волей фактически возродил удельную систему.
В этом Иван III видел угрозу новой междоусобной войны. Поэтому он принял решение покорить как можно больше княжеств и земель Руси своей власти. Первоначально механизм собирания территорий представлял собой поглощение более сильным Московским княжеством более слабых. То есть Иван III как бы строил свою огромную личную вотчину. Однако изменения политического строя, сопровождавшие этот процесс, оказались столь серьезными, что в их ходе возникло принципиально новое образование — единое Русское государство.
Масштаб и скорость собирания земель впечатляют. Около 1464 года было присоединено Ярославское княжество, в 1471–1478 годах — Великий Новгород, в 1472-м — Пермь, в 1474-м — Ростов, в 1485-м — Тверь, в 1489-м — Вятка, в 1500-м — Югорская земля (район Печоры — Урала, населенный ханты, манси, ненцами и самоедами). В 1503 году, после победы в русско-литовской войне, к России отошли Северские земли. Всего во время правления Ивана III подвластная ему территория выросла более чем в шесть раз (с 430 тысяч квадратных километров до 2800 тысяч).
Необходимо обратить внимание на две особенности процесса объединения русских земель под властью Москвы. Во-первых, он был в значительной степени насильственным. Очереди из земель, желающих добровольно войти в состав государства всея Руси, не наблюдалось. Политика центра была жесткой, недаром о московской династии Калитичей Рогожский летописец применительно к более ранним событиям XIV века писал: московские князья, «…надеясь на свою великую силу, князей русских начали приводить в свою волю, а которые не повиновались их воле, на тех начали посягать злобою»[9].
Но эта злоба в большинстве случаев касалась элит. От присоединения к Москве страдали местные княжеские роды и связанная с ними региональная служилая аристократия, которой надо было искать свое место уже в новой, общерусской иерархии. Во избежание сопротивления Москва широко практиковала «вывод», то есть принудительное переселение представителей местной элиты с семьями на другое место. Тем самым разрушались корпоративные и служилые связи и аристократия становилась неопасна.
Рядовое же население — крестьян, посадских людей и мелкий служилый люд — эти перемены в большинстве случаев затрагивали мало (если они не попадали под карательные акции устрашения, которых, впрочем, было немного). Менялись сборщики податей и военные командиры, но жизнь и занятия оставались прежними. Поэтому объединительная политика Москвы не встречала серьезного сопротивления: локальные элиты не смогли поднять свое население на борьбу с «агрессией».
На этом фоне резко выделяется только одна акция, сопровождавшаяся серьезным конфликтом с населением, — присоединение Великого Новгорода (1471–1478). Здесь ярко проявилась вторая особенность объединительного процесса. Ее можно охарактеризовать как трагедию непонимания. Историческая правда — создание единой Руси, сильного государства, способного защитить свободу русского народа перед лицом любых врагов, — была за Москвой. Но кирпичами в величественное здание «Всея Руси» должны были лечь региональные культуры, земли, народы с их свободами. И там, где политическое сознание населения было более развито, — как, например, в Новгородской республике с ее вечевыми традициями, — «к Москве не хотели», не понимали, зачем надо поступаться своим частным, новгородским, во имя торжества целого — но чужого, московского.
Взаимоотношения Москвы и Новгорода в XV веке с каждым годом становятся все более непримиримыми. Показательна летописная оценка похода 1456 года великого князя Василия II на Новгород. Воеводы великого князя Московского, оказавшиеся перед лицом превосходящих сил новгородцев, говорят себе: «…помрем с ними за правду своего государя, а за их измену». То есть противопоставляются понятия «правды» (она за Москвой) и «измены» интересам Москвы (ее совершают новгородцы).
Понятно, что в городе на Волхове на ситуацию смотрели диаметрально противоположно, с точки зрения защиты своих прав и свобод — но в этом и заключалась трагедия непонимания, что оценки были противоположенными и непримиримыми и консенсус был возможен только путем истребления или по крайней мере покорения одной из сторон. Московский летописец, описывая поражение Новгорода, изображает его жителей сокрушающимися о том, что они наказаны «за свою измену к великому князю»[10]. То есть новгородские свободолюбивые мотивы в Москве просто не рассматривались и не воспринимались: какая там борьба за свободу? — это дьявол их попутал, и только поражение заставило протрезветь и раскаяться.
Показательны оценки и подбор фактов, которые приводятся о событиях 1471 года в московской летописи. Сторонников новгородской независимости московский летописец называет «…наученными дьяволом изменниками, прельстителями хуже бесов». Он обращает внимание на приезд в Новгород литовского князя Михаила Олельковича, сына киевского князя Александра Владимировича, потомка знаменитого Ольгерда, — вот он, несомненный признак готовящейся измены! Столкновения в ноябре 1470 года на новгородском вече «промосковской» и «пролитовской» «партий» летописец изображает как торжество коварства предателей: победили «литовцы», нанявшие специальных людей, в давке коловших своих противников шилами — «шильников». Люди в давке кричали от боли, а другие думали, что они криком голосуют за нужные предателям решения.
6 июня 1471 года начался поход московских войск под командованием Д. Д. Холмского и Ф. Д. Хромого против мятежного Новгорода. Вскоре выступили еще две группировки — под началом Стриги-Оболенского и самого Ивана III. Против Новгорода двинулись и силы Тверского княжества. Была взята и сожжена Русса, разгромлена судовая рать новгородцев на озере Ильмень. Пленным новгородцам воеводы велели «носы, уши и губы резати».
Данный жестокий акт, если он в самом деле имел место, показывает, в каком смысловом контексте оценивали москвичи поведение новгородцев. В Библии сказано: «Так говорит Господь Бог: вот, Я возбужу против тебя любовников твоих, от которых отвратилась душа твоя, и приведу их против тебя со всех сторон… красивых юношей, областеначальников и градоправителей, сановных и именитых, всех искусных наездников. И придут на тебя с оружием, с конями и колесницами и с множеством народа, и обступят тебя кругом в латах, со щитами и в шлемах, и отдам им тебя на суд, и будут судить тебя своим судом. И обращу ревность Мою против тебя, и поступят с тобою яростно: отрежут у тебя нос и уши, а остальное твое от меча падет; возьмут сыновей твоих и дочерей твоих, а остальное твое огнем будет пожрано; и снимут с тебя одежды твои, возьмут наряды твои. И положу конец распутству твоему и блужению твоему… Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я предаю тебя в руки тех, которых ты возненавидела, в руки тех, от которых отвратилась душа твоя. И поступят с тобою жестоко, и возьмут у тебя все, нажитое трудами… Это будет сделано с тобою за блудодейство твое с народами, которых идолами ты осквернила себя» (Иез. 23:22–30).
Пророк Иезекиль говорил здесь о Иерусалиме, который за свои грехи, прежде всего грех неверности Богу, был низвергнут и подвергся нашествию иноплеменных. То есть в глазах Москвы Новгород был «изменником веры», который просто обязан за свой грех, за осквернение контактами с католической Литвой чистоты православия быть подверженным позорному насилию и разграблению. Москвичи, совершая на берегах реки Шелони страшный обряд и отрезая новгородцам носы и уши, чувствовали себя исполнителями Божьего суда. О том, что чувствовали и думали новгородцы, мы не знаем, но вряд ли они ощущали себя и свой город библейской блудницей, заслуживавшей Небесной кары… Московский летописец далее пишет, что в знак презрения к изменникам москвичи не брали себе их доспехи, как того требовала средневековая традиция, а метали оскверненное оружие в воду. Новгородцы, вышедшие на берега Шелони отстаивать свою вольность, воспринимались как носители грязи, греха.
Трагедия непонимания — иными словами трудно это назвать. И такими трагедиями эпоха отца Василия, Ивана III, была пропитана. Наверное, иначе было невозможно — великие государства всегда строятся железом и кровью. Государство всея Руси Ивана III — еще сравнительно мягкий вариант по сравнению с кровавыми сценариями объединения Англии в Войну Алой и Белой розы или Бургундскими войнами во Франции{1}. Но новгородцам (да и другим) от этого было не легче.
Территориальный рост сопровождался созданием общерусского аппарата управления, общерусского Судебника (1497), государственной символики (двуглавый орел, первое упоминание — 1497 год). Успешной была и внешняя политика: Россия в 1480 году свергла татарское иго, выиграла две войны с Литвой (1487–1494 и 1500–1503), одну войну с Ливонским орденом (1500–1503). В 1487 году под протекторат России попала Казань. Именно при Иване III налаживаются постоянные дипломатические отношения России как единого суверенного государства с европейскими державами: в 1491 году — со Священной Римской империей, в 1493-м — с Данией, в 1496-м — с Турцией и т. д.
Причем великий князь использовал как политический инструмент и династические браки: в 1483 году Иван Молодой женился на Елене Волошанке, дочери молдавского господаря Стефана. Тем самым между Россией и Молдавией был заключен политический союз, к которому примкнула Венгрия. То есть Иван III вышел на международную арену как создатель и участник европейских военно-политических коалиций.
Каковы были черты характера, особенности личности этого человека? Среди главных я бы назвал ум и способность быстро принимать решения, ориентируясь по ситуации. Иван III вовсе не был храбрецом — по некоторым источникам, в 1480 году при известии о приближении татарского войска хана Ахмата он хотел бежать из Москвы, но бояре, горожане и церковь доходчиво объяснили ему, что сражаться придется, пути назад уже нет. Иван III осознал, что позволить себе струсить будет куда хуже, чем рискнуть и выступить против татар с оружием в руках — в 1480 году у бежавшего от врага московского князя просто не было бы будущего. Иван III смог это понять, превозмочь свой страх, отринуть лукавые советы «сребролюбцев», шептавших князю, что татар невозможно победить, — выступил и победил. Данный эпизод очень четко характеризует Ивана Васильевича и дает ответ на вопрос, почему же он смог стать «государем всея Руси». Потому что в критических ситуациях был способен быстро принять верное решение и поступиться личными чувствами и эмоциями во имя общегосударственных задач.
Политиком Иван III был весьма жестким — недаром прозвище «Грозный» впервые зафиксировано как относящееся именно к этому правителю. Он мог проявлять твердость характера и даже злопамятность (так и не простил митрополита Филиппа за его неприязнь к Софье Палеолог). Отличался широким кругозором, проницательностью и дальновидностью, гордостью и в то же время гибкостью. Однако не был чужд и эмоциям — в конце жизни заработал инсульт из-за припадка гнева в ходе обсуждения с монахами пустячного земельного спора. Болезнь он воспринял как знак свыше, стал каяться в грехах, прощать опальных (чем осложнил политическую ситуацию в стране и вызвал немалую досаду сына, великого князя Василия III).
Мы не знаем подробностей семейной жизни Ивана III. Ясно лишь, что она была непростой и в очень значительной мере подчинялась принципу политической целесообразности. Жертвой этого принципа сначала стали братья Ивана III, чьи удельные права и земельные владения были сильно урезаны. В 1486 году братья официально признали Ивана III своим господином и государем всея Руси. Это им помогло мало: в 1491 году был арестован Андрей Большой, через два года скончавшийся в тюрьме в оковах. Не безоблачными были и отношения с Софьей Палеолог: известен случай, когда великий князь наложил на нее опалу, а приближенных к ней «баб» приказал утопить в Москве-реке (подробнее об этом речь пойдет ниже). Но самой большой проблемой в конце жизни, когда отношения с братьями были более-менее урегулированы (в основном в результате смерти последних), для Ивана III стала следующая: что же делать с собственными детьми?
К 1490-м годам при московском великокняжеском дворе сложились две группировки. Большинство поддерживало законного наследника престола, обласканного Иваном III Ивана Молодого, старшего среди великокняжеских детей. Над созданием второй группировки работала Софья Палеолог, твердо решившая передать престол не сыну Марии Тверской, а своему отпрыску — будущему Василию III. В момент, когда мать начала расчищать юному княжичу путь к власти, ему было всего десять лет.
Иван Молодой в 32 года сумел заработать болезнь, редкую для такого возраста, — тромбофлебит. Сама по себе не смертельная, она доставляла много неудобств, особенно для юного князя, который по определению должен проводить много времени в седле, участвовать в боях и походах и т. д. Софья вызвалась помочь страдальцу и в 1490 году выписала из Венеции лекаря, «маэстро Леона». Врач был с большим апломбом, гарантировал излечение, в противном случае предложил в залог собственную жизнь. Неизвестно, от чего Иван Молодой больше настрадался — от своей болезни или от лечения. Заморский эскулап пичкал его какими-то микстурами, прижигал тело «скляницами» (ставил банки?). Лечение быстро принесло результат, но совсем не тот, который ожидали: 7 марта 1490 года Иван Молодой не выдержал медицинских мучений и скончался.
Иван III поймал «маэстро Леона» на слове и, как только по несчастному княжичу справили сороковины, приказал казнить незадачливого врача. Естественно, поползли слухи, что в смерти Ивана Молодого виновна Софья — ведь именно она подослала лекаря-убийцу! У нее имелся мотив, да и результат ее полностью устраивал: теперь старшим наследником стал ее сын, Василий! Но доказательств причастности Софьи к организации убийства пасынка нет, да и чудовищный уровень медицины конца XV века сомнений не вызывает.
Залечил «маэстро Леон» княжича Ивана сознательно или нечаянно — мы уже никогда не узнаем. Казалось, что теперь осталось только подождать, когда десятилетний мальчик войдет в дееспособный возраст и будет приобщен к делам управления. Однако Иван III оказался упрямым. Он отверг старинный принцип наследования, когда корона отходила старшему в роду, и захотел передать престол не сыну от Софьи Палеолог, а внуку, сыну Ивана Молодого и Елены Волошанки Дмитрию, родившемуся 10 сентября 1483 года.
Пока Василий и Дмитрий были маленькими, их мало занимала разворачивавшаяся за их спинами придворная борьба, главные партии в которой разыгрывали родители. Перипетии этой борьбы нам известны плохо, и мы можем ее отслеживать только по косвенным следам. Историк С. М. Каштанов увидел в подтверждении жалованной грамоты Троице-Сергиеву монастырю 1454 года, датируемом временем до 1486 года и сделанном от имени Василия Ивановича, свидетельство того, что «в 80-х годах за Василием были признаны какие-то суверенные великокняжеские права в отношении Костромы»[11]. Ученый утверждает, что к Василию перешли некоторые территории, ранее бывшие за старшим сыном Ивана III Иваном Ивановичем, и это было результатом «давления» на государя всея Руси его жены Софьи, начавшей борьбу за будущее вокняжение своего сына.
Понятно, что ребенок не мог сам выдавать никаких привилегий, это делалось от его имени. Но, возможно, исследователь прав в том, что происходила своеобразная «примерка» будущего удела Василия Ивановича — если такой ему придется выделять. Для вывода же о том, что мальчик с семи-восьми лет стал инструментом для политических интриг Ивана III и Софьи, на мой взгляд, у нас недостаточно данных. В 1480-е годы вопрос о наследнике престола еще остро не стоял, еще жив был государев первенец Иван Молодой, и вряд ли выдача привилегий монастырю от имени юного княжича Василия должна рассматриваться как знак подковерных политических игр.
Исследователи предполагают, что в октябре 1490 года одиннадцатилетний Василий получил какие-то формальные управленческие полномочия в Тверской земле. От его имени была выдана кормленая грамота на половину города Зубцова. Это, по мнению историка А. А. Зимина, может указывать на возвышение княжича (с Твери в свое время начинал и Иван Молодой, в 1485 году поставленный «на великом княжении на Тверском»)[12]. Однако оно длилось недолго. Уже в 1491–1492 годах Василий лишился Тверского княжения и получил в управление первоначально предназначавшиеся для него костромские территории. В 1493–1494 годах он, возможно, получил часть управленческих полномочий в отношении Ростова[13].
В летописи Василий как самостоятельное политическое лицо упоминается в октябре 1495 года, когда ему было 16 лет: во время поездки Ивана III в Великий Новгород он был оставлен с управленческими полномочиями на Москве «у великие княгини Софии… с меншею братьею». Зато Дмитрий-внук тогда же поехал в Новгород в свите своего деда. За 1490–1498 годы известно десять грамот, выданных от имени Василия и содержащих различные распоряжения юридического характера и льготы некоторым лицам и монастырям[14].
Расклад сил в последующие годы нам неясен, но, по-видимому, чаша весов продолжала клониться в пользу Дмитрия-внука. В окружении Василия решились на крайние меры — заговор, который был раскрыт в декабре 1497 года. Подоплека событий и роль в них самого княжича Василия устанавливаются не без затруднений. В так называемом «Отрывке летописи по Воскресенскому списку» 1500 года и Новгородском летописном своде 1539 года о них сказано так:
«В лето 7006 декабря положил опалу князь великий Иван Васильевич всеа Русии на сына своего, на князя Василия, и посади его за приставы на его же дворе того ради, что он, сведав от дьяка своего, от Федора Стромилова, то, что отец его, князь великий, хочет пожаловать великим княжением Владимирским и Московским внука своего, князя Дмитрия Ивановича»[15]. Летописец называет имена заговорщиков: Афанасий Аропчонок (Яропкин), Федор Стромилов, Поярок Руно, Владимир Гусев, Иван Палецкий-Хруль, Щевья Скрыбин-Стравин и другие дети боярские. Заговор успел приобрести реальные черты: его члены принесли на кресте клятву верности друг другу. Предполагалось, что Василий III воспользуется старинным правом отъезда и бежит в Великое княжество Литовское. В Воскресенской летописи об этих же событиях говорится более глухо: «…по дьявольскому наваждению и лихих людей совету наложил опалу князь великий Иван Васильевич на сына своего князя Василия да и на жену свою на великую княгиню Софью». 27 декабря по этому делу были казнены на льду Москвы-реки Владимир Елизарьевич Гусев, князь Иван Палецкий Хруль, Поярко Рунов, Щавий Травинов, Афанасий Еропкин и введенный дьяк Федор Стромилов[16].
Здесь надо остановиться на том, что такое отъезд, почему это считалось формой мятежа и почему в эпоху Ивана III это слово звучало как крамола и страшное обвинение. Феодальные отношения между господином (сюзереном) и вассалом, по принятой в науке западноевропейской терминологии, включали в себя оммаж и клятву верности (hominium, или hjma gium, и fidelitas) и акт инвеституры, то есть введения во владение пожалованным за службу имением. Оммаж являлся признанием себя человеком своего сеньора (homo), которое скреплялось торжественной клятвой (на Руси — крестоцелованием).
Особенностью данных отношений в период средневековья было то, что вассал мог официально сложить с себя клятву верности и оставить службу у сеньора, заранее предупредив его об этом. Такое отречение от оммажа называлось на Западе defi или desavue, на Руси ему точно соответствуют термин «отказ» или выражение: «отложить крестное целование». По справедливому замечанию Н. П. Павлова-Сильванского, «изменником считался только тот вассал, который оставлял своего сеньора, не заявив ему открыто о своем отречении от договора, о своем отказе (desavue). Вольность вассала, как и дружинника, состояла именно в этом праве открыто взять назад свою клятву верности»[17].
В литературе подобные действия обычно называют «правом отъезда». Так, по удачному выражению Б. А. Романова, нарушение феодальной верности вошло в политический быт[18]. В XIV–XV веках в договорные грамоты князей обязательно вводилась статья: «А боярам и слугам между нами вольным воля: кто поедет от нас к тебе… или от тебе к нам, нелюбья не держати»[19], то есть легитимизировалось право выбирать себе господина по своему разумению.
Право отъезда гарантировало личные права представителей феодалитета, но подрывало политические силы княжеств и земель: не было никаких гарантий, что в самый ответственный момент бояре и служилые люди не покинут своего господина и на совершенно законных основаниях не присоединятся к его врагам. Поэтому довольно рано начинаются попытки ограничения самовольства «отъездчиков». Одно из первых свидетельств этого — установление в 1368 году Новгородом Великим правила конфискации земель отъехавших бояр. К этому времени относятся и попытки князей запретить права перехода для служилых людей, получавших свои земли за обязанность пожизненной военной службы. Осуждению отъездчики подвергались и со стороны церкви, прямо связывающей поступки перебежчиков с изменой: «Если кто от своего князя отъедет, а достойную честь получил от него, то подобен Иуде, которого любил Господь, а он умыслил его продать князьям жидовским» (Поучение ко всем крестьянам, XIV–XV века)[20].
Во второй половине XV века, в условиях складывания единого Русского государства, ситуация меняется. Теперь отъезд от государя расценивается не в качестве обыденной перемены господина, но как измена. В связи с этим Иваном III вводится практика взимания с «отъездчиков» клятвы на верность верховному правителю. Одна из первых подобных присяг была взята 8 марта 1474 года с князя Данилы Дмитриевича Холмского, эмигрировавшего из Литвы на Русь.
Подобный документ назывался «укрепленой грамотой». В нем кратко излагалась история проступка (неудачная попытка эмиграции в соседнее государство), приносилась на кресте клятва никуда не отъезжать, служить государю и его наследникам до конца жизни («до своего живота»). Приносящий присягу обязывался сообщать обо всех услышанных им «помыслах» «добра» или «лиха» на великого князя. При нарушении он подвергался церковному проклятию и «казни» от светских властей. Поручителями, от имени которых возбуждалось принесение клятвы, выступали митрополит и освященный собор (собрание высших церковных иерархов страны).
Одновременно с укрепленой грамотой взималась поручная запись (она называлась «поручная кабала») с представителей аристократии, которые ручались своими деньгами, что их конфидент не сбежит. Например, за Д. Д. Холмского дали такие записи восемь человек. Их доверие было оценено в две тысячи рублей.
Таким образом, обвинение Василия в намерении отъезда грозило серьезными неприятностями. Для самих же отъездчиков в конце XV века данный акт не имел уже практического значения — на Руси было бы глупо искать более могущественного господина, чем Иван III. Мелкие недобитые удельные князьки были не в счет. Бежать можно было только за границу, в Литву, что автоматически лишало отъездчика шансов на княжение в России. Подобные побеги были скорее демонстрацией неподчинения, недовольства верховной властью.
Остальные участники заговора, согласно летописи, должны были устроить погромы на Вологде и Белоозере и отказаться подчиняться Дмитрию-внуку. Всех их постигла суровая судьба: 27 декабря шестеро лидеров мятежников были казнены через четвертование или отрубание головы, а рядовых детей боярских посадили в разные тюрьмы.
Этот странный неслучившийся бунт, известный под названием «заговор Владимира Гусева» 1497 года, долгое время вызывал споры историков. Неясно, за что боролись стороны, кто в самом деле скрывался за спинами мятежников. Так, считалось, что в основе заговора лежали корпоративные интересы разных групп феодалитета: князья и бояре поддержали Елену Стефановну и Дмитрия-внука, а на стороне Софьи и Василия оказались более худородные дети боярские и дьяки. Другие ученые выворачивали эту схему наизнанку и видели лидерами родовитой аристократии и боярства как раз Софью и Василия, а их противников — опиравшимися на рядовое дворянство. А. А. Зимин уточнил социальную базу заговорщиков: они искали опору в «удельном княжье и новгородском окружении архиепископа Геннадия», а Дмитрия поддерживала тверская группировка придворной знати[21].
Думается, что недостаток сведений вряд ли позволяет делать столь далекоидущие выводы о заговорщиках как выразителях интересов целой социальной корпорации. Да и противопоставлять княжеско-боярскую аристократию детям боярским тоже вряд ли стоит столь категорично: конечно, это были разные корпорации «служилых землевладельцев» (по определению С. Б. Веселовского), с разной корпоративной культурой и устремлениями. В вопросе о том, кто будет наследником Ивана III, речь скорее шла о личных и придворных связях и симпатиях, чем о том, что Василий III и Дмитрий-внук воплощали в себе некие разные социально-политические программы. Нет никаких оснований видеть в источниках борьбу социальных идеалов, а не личностный конфликт из-за престола государства Российского.
Мы можем уверенно сказать только одно: осенью 1497 года (по С. М. Каштанову, в августе) Иван III наложил на своего сына опалу по обвинению в связях с заговорщиками. Однако то ли доказательства были слишком шаткими, то ли сам заговор выеденного яйца не стоил, но столь крутой в других случаях Иван III вместо радикальных мер занялся каким-то невнятным выяснением отношений, в частности в октябре — ноябре 1497 года обличал Василия в причастности к заговору перед собором церковных иерархов и митрополитом. В декабре, как уже было сказано, казнили шестерых детей боярских и еще какое-то количество дворян оказалось под замком. По всей видимости, тогда же под домашний арест был посажен и княжич Василий. Он сохранил княжескую роль, по выражению С. М. Каштанова, «на какой-то очень узкой территории в одной из Замосковских волостей» (волость Шерна-городок)[22].
Хуже всего пришлось Софье Палеолог — в ходе разбирательств было установлено, что она общалась с ворожеями и колдуньями: «…к ней приходили бабы с зельем; проведя расследование против тех баб лихих, князь великий велел их казнить, потопить в Москве-реке ночью, а с нею с тех мест начал жить в бережении»[23].
Какое отношение к заговору имел сам восемнадцатилетний Василий — можно только догадываться. Но бросается в глаза невысокий социальный статус репрессированных (дьяк, дети боярские, «лихие бабы») и примитивизм плана (отъездом в Литву и грабежом на Белоозере великокняжеский венец не добудешь). Если эти сведения верны, то «заговор Владимира Гусева» не имел шансов на успех. Ни Софья, ни в дальнейшем повзрослевший Василий не были склонны к безнадежным предприятиям, а напротив, проявляли в придворных интригах осторожность и мудрость. Да и отъезд — это чисто русская модель мятежа, вряд ли понятная для «грекини» Софьи. Так что были ли мать и сын организаторами заговорщиков? Возможно, они знали о настроениях мятежников, возможно, им было приятно слушать разговоры о неподчинении ненавистному сыну Ивана Молодого… О большем трудно судить.
Зато Дмитрию-внуку и его сторонникам этот заговор оказался настолько на руку, что ученые даже высказывали предположение об инсценировке, клевете и «раздутом деле» с целью убрать с политической арены Василия. У нас нет доказательств провокации или ложного доноса, но если придерживаться принципа юристов Древнего Рима qui bono («кому выгодно?»), то очевидно, что заговор в таком составе и с такой концепцией был совершенно невыгоден Василию и Софье, зато очень полезен Дмитрию и Елене. Акции последних резко пошли в гору.
4 февраля 1498 года в Успенском соборе Московского Кремля Дмитрий-внук впервые в русской истории был в ходе торжественного церемониала, заимствованного у византийских императоров, коронован великокняжеским венцом. Ни Софьи Палеолог, ни опального Василия на коронации не было. Преисполненного чувством собственной значимости четырнадцатилетнего Дмитрия-внука осыпал золотыми и серебряными монетами его брат, Юрий Иванович…
Казалось бы, что все решено — Дмитрий-внук официально венчан на великое княжение, то есть провозглашен наследником престола. Однако Ивану III фатально не повезло ни с сыном, Иваном Молодым, ни с внуком Дмитрием. Видимо, принципиальной ошибкой было назначать наследника еще при собственной жизни — преемник начинал переживать, мучиться и не скрывать нетерпения занять место зажившегося родителя. А «доброжелатели» не упускали шанса внести свои коррективы в судьбу преемника, в случае с Иваном Молодым, возможно, даже фатальные.
От самого Дмитрия, который был еще подростком, вряд ли стоило ожидать осмысленного поведения, но у него было активное, политически подкованное окружение (некоторыми учеными именно с кругом Дмитрия и его матери Елены Волошанки связывается составление Судебника 1497 года)[24]. И это окружение начало действовать и сделало что-то не так. Что — мы не знаем, но уже в середине 1499 года, хотя Дмитрий формально продолжал считаться соправителем Ивана III, его власть была фактически дезавуирована.
Как и в предыдущем случае, это было связано с разоблачением заговора — на этот раз сторонников Дмитрия, князей Ивана Юрьевича Патрикеева и Семена Ивановича Ряполовского. 5 февраля 1499 года Ряполовскому отрубили голову, а Патрикеева «простили», отменили смертную казнь и «позволили» постричься в монахи в Троице-Сергиевом монастыре. Согласно Вологодско-Пермской летописи, пострижение состоялось в Москве, причем во время обряда несчастный князь был в кандалах…
О причинах опалы мы не имеем точных сведений. Мнения ученых разделились. Одни (Я. С. Лурье, Л. В. Черепнин, А. Л. Хорошкевич)[25] видят ее в неудачной дипломатической деятельности, ссылаясь на фразу из грамоты Ивана III русским послам от мая 1503 года: «…вы бы во всем себя берегли, а не так бы есте чинили, как князь Семен Ряполовский высокоумничал с князем Василием (Патрикеевым. — А. Ф.)». Ученые объявляли опальных князей чуть ли не изменниками — «сторонниками русско-литовского сближения», «убежденными сторонниками примирения и сближения с Литвой» и т. д.
Другие исследователи указывают, что опала последовала только в 1499 году, в то время как в грамоте Ивана III имеется в виду посольство Ряполовского и Патрикеева в Литву в 1494–1495 годах. Государь мог быть недоволен их дипломатической деятельностью, но если его гнев достиг критической отметки, вряд ли бы он копил злобу четыре года. Да и результаты посольства Ряполовского — Патрикеева были вполне успешны. Они подписали мирный договор, который считается первым «вечным миром» между Россией и Литвой (правда, «вечность» продлилась всего четыре года — уже в 1500 году вспыхнула новая война, но уж послы в этом не были виноваты). Была достигнута договоренность о браке дочери Ивана III Елены с Александром Ягеллончиком, великим князем Литовским. И первое, и второе было несомненным дипломатическим успехом. А. Л. Хорошкевич, правда, считает, что на самом деле это была неудача, так как послы не смогли зафиксировать в грамоте условие, согласно которому Елена в браке оставалась бы в православии, а также титул Ивана III «государь всея Руси», который литовская сторона отвергла. Но даже если и так, вряд ли Ивану III потребовалось терпеть четыре года, чтобы отрубить за такой проступок голову бывшему послу Ряполовскому. Задним числом он мог обвинить князей в чем угодно, но в 1495 году их деятельность явно считалась успешной, в том числе и самим великим князем.
Ряполовский и Патрикеев вместе с дьяками Федором Курицыным и Андреем Майко действительно в январе 1494 году проводили переговоры с литовскими послами и готовили комплекс документов по мирному договору и браку Елены. Официальный текст посольской книги, в которой сохранились протоколы переговоров, не позволяет найти ни малейшей зацепки, ничего, в чем провинились бы переговорщики и за что их могли подвергнуть опале[26]. В чем проявилось «высокоумье» Ряполовского, непонятно.
Единственный конфликт, который возник во время пребывания русской делегации в Вильно, — литовцы добавили строку в уже согласованный текст грамоты о гарантиях непринуждения обращения Елены в католичество: согласно этому добавлению, она могла принять его добровольно, если захотела бы сама (в русском варианте «свобода выбора» для жены Казимира Ягеллончика не предусматривалась). Бояре отказались взять такой исправленный документ. Однако здесь они действовали в интересах Ивана III, согласно полученным инструкциям, и упрекнуть их не в чем.
Мнение ученых, что Ряполовский и Патрикеев держались пролитовской ориентации, поскольку заключили мир с Литвой, не соответствует действительности — заключить мир и выдать замуж дочь приказал сам Иван III, никакой самодеятельности здесь не было. Возможно, что-то произошло «за кулисами» переговоров, но, увы, официальные документы следов этого не сохранили.
Некоторые исследователи (Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев, И. И. Смирнов, Н. А. Казакова) связали опалу Ряполовского и Патрикеева с провалом деятельности группировки Елены Волошанки и великого князя Дмитрия Ивановича, реабилитацией и возвышением Василия и Софьи. Эта версия появилась впервые в середине XVI века на страницах грандиозного исторического сочинения, памятника государственной идеологии — «Степенной книги царского родословия». Казнь Ряполовского и насильственное пострижение Патрикеева были «уступкой», «данью», «отражением» превращения Василия во второе лицо в государстве. А. А. Зимин обратил внимание, что в 1498 году влияние группировки Патрикеевых было определяющим — к ней принадлежали пять бояр из двенадцати членов Боярской думы[27]. События 1499 года как раз знаменовали конец этого влияния.
Это верно, но здесь в трудах ученых действует логический принцип: «после того — значит, вследствие того». После опалы Ряполовского и Патрикеева произошло возвышение Василия — значит, его возвышение и было причиной их опалы. Получается замкнутый круг. На самом деле мы не знаем обстоятельств тайной придворной борьбы в московских правящих кругах в конце правления Ивана III. Разгром думской группировки Патрикеевых, конечно, способствовал поражению Дмитрия-внука, но вот что было его настоящей причиной, кто смог добиться низвержения столь влиятельных аристократов — на этот счет мы можем только строить предположения. Исходя из принципа qui bono, выгодно это было Василию. Но воспользовался ли он случаем или был инициатором интриги — источники хранят молчание…
Так или иначе, черная полоса для Василия и Софьи кончилась. В 1499 году Иван III начал переговоры с Данией о возможной женитьбе Василия на дочери датского короля, принцессе Елизавете. Между мартом и августом 1499 года Василий выдал жалованную грамоту Владимирскому Рождественскому монастырю. 21 марта 1499 года он был провозглашен государем и великим князем Новгородским и Псковским, и на Руси оказалось три великих князя одновременно: Иван III, Дмитрий-внук и Василий. Правда, Псков отнесся к этому назначению в высшей степени отрицательно, справедливо усмотрев в нем угрозу своего подчинения старому конкуренту Новгороду. Псковичи прислали челобитье к Ивану III «и внуку ево Дмитрию Ивановичю, чтобы держали отчину свою в старине». Иван III уступил. Василий лишился Псковского княжения, не успев приступить к своим полномочиям и даже не доехав до Пскова.
По всей видимости, такая внезапная отзывчивость на челобитье горожан была связана с тем, что Иван III решил более не возвышать никого из наследников, а держать их в подвешенном состоянии, обеспечивая неустойчивый баланс сил. Летом 1499 года возник проект наделения уделами младших сыновей Ивана III — Юрия (Дмитровом) и Дмитрия (Угличем). Тем самым государь напоминал, что Василий — не единственный его сын и в качестве преемника ему вполне можно подобрать замену.
Третий эпизод трудного пути Василия к власти датируется весной 1500 года и еще более загадочен, чем заговор Владимира Гусева и низвержение Ряполовского — Патрикеева. Дословно известие Погодинского летописца звучит так:
«Князь Василий, сын великого князя Ивана, хотя великого княжения, и хотев его истравити на поле на Свинском, у Самьсова бору, и сам побежа в Вязьму с воими и советники. А князь великий нача думати со княгинею Софиею, и возвратиша его, и даша ему великое княжение под собою, а князя Дмитрея поимаша, и с матерью княгинею Еленою».
Мы приводим оригинал, а не перевод, потому что текст явно испорчен и точный перевод затруднителен. Из этих слов следует, что Василий как-то проявил свое желание стать великим князем, после чего кто-то хотел его погубить, травил, как зайца, на Свинском поле (поле это находилось в Дорогобужском уезде, у речки Рословки, недалеко от города Рославля). Князь бежал в Вязьму, при нем были советники и, возможно, какие-то войска (все зависит от того, как читать текст: «побежа в Вязьму с воими и советники» или «побежа в Вязьму своимии советники»). Узнав об этом, Иван III, посоветовавшись с Софьей Палеолог, наложил опалу на Дмитрия-внука и его мать, а Василия возвысил.
От кого убегал Василий? Ученые высказывали самые неожиданные предположения. Так, по мнению С. М. Каштанова, речь идет о попытке побега сына Софьи в Литву; причиной же якобы стало ущемление его прерогатив в Новгороде. При этом на Свинском поле будто бы состоялось боевое столкновение войск Василия — поддержавших его литовцев — с московскими войсками, верными Ивану III. Целью мятежного сына было… нанести поражение («истравити») отцу, государю всея Руси! Василий был разбит и «в качестве пленного» увезен в Москву[28].
Из вышеописанной детективной истории совершенно непонятно, почему же Иван III за все эти злодейские планы и проступки возвысил Василия и наградил его искомым великим княжением? Да и к каким результатам могла бы привести победа Василия III над одним из отрядов московской армии? Вряд ли Иван III вернул бы ему за это права на Новгород…
А. А. Зимин мягко назвал построения С. М. Каштанова «неясностями» и предположил, что по Свинскому полю князя Василия гнали вражеские литовские войска. От них он и бежал в Вязьму[29]. В этой гипотезе нет столь явных натяжек, как в предыдущей, но все равно непонятно, почему за бегство с поля боя Иван III жалует сына великим княжением.
Представляется, что можно высказать еще одно предположение, основанное на обращении к концовке данного летописного текста. Избавление Василия от злоключений прямо связывается с опалой на Дмитрия-внука и Елену Волошанку. В таком случае, не их ли люди «хотев его истравити на поле на Свинском»? В условиях русско-литовской войны и перемещений войск к линии фронта и обратно было очень просто подослать отряд лихих людей, а гибель конкурента списать потом на литовцев или неизвестных разбойников-мародеров. Наличие в свите Василия «советников» объясняет, почему он бежал: с ним был его двор, но не серьезный военный отряд. Из этой гипотезы становится ясно, почему Ивану III потребовался совет с Софьей, лидером антидмитриевской группировки при дворе, и почему вслед за возвращением Василия из Вязьмы последовала опала на его политических противников.
Остается, правда, открытым вопрос: почему о покушении, если оно имело место, в летописи не было сказано прямо? Но, с другой стороны, мы уже могли убедиться, что тайные стороны придворной борьбы за власть отражались в источниках в весьма искаженном и неполном виде. Летопись — это не полицейский протокол, и от нее нельзя ожидать исчерпывающей полноты и информативности.
В любом случае, события 1500 года на Свинском поле подняли Василия на новую ступень власти и, наоборот, вызвали закат группировки Дмитрия-внука. Последний, формально оставаясь венчанным на великое княжение соправителем Ивана III, со второй половины 1500 года перестал фигурировать в правительственных документах. Василий же, напротив, с 1500 года именуется «великим князем всея Руси», получает руководство судебными делами на Белоозере (1501), выдает жалованные грамоты в Новгороде (1500) и Твери (1501).
Софья между тем старалась максимально использовать свое восстановившееся влияние на мужа. На этот раз Иван III послушал жену. 11 апреля 1502 года он официально «положил опалу на внука своего, великого князя Дмитрея Ивановича, и на его матерь, великую княгиню Елену, за малое их прегрешение, с очей сослал и в крепости посади и до их смерти». Их имена запретили поминать на церковных службах, Дмитрия больше не именовали «великим князем». «Того же месяца апреля 14… пожаловал своего сына Василья, благословил и посадил на великое княжение Володимерьское и Московское и учинил его всеа Русии самодержцем»[30].
Игра была сыграна. Почти. Потому что как у высокопоставленных родителей возникают проблемы с детьми, так и у дорвавшихся до власти сановных детей бывают неожиданные неприятности со старящимися родителями, которые на закате жизни вдруг впадают в неуместное покаяние и некстати пытаются исправить былые грехи…
Кстати, о грехах. Борьба за великокняжеский престол в конце XV — начале XVI века проходила на фоне серьезных духовных подвижек в церковной сфере. Сторонники будущего Василия III сумели успешно разыграть религиозную карту, обвинив своих политических оппонентов в ереси. Страшнее этого обвинения на Руси ничего нельзя было придумать. Главной жертвой этого инквизиционного процесса пала мать Дмитрия-внука, Елена Волошанка, убитая надзирателями в тюрьме 18 января 1505 года. Гонения на еретиков, которым она покровительствовала, ослабили политические позиции Дмитрия-внука и помогли прийти к власти Василию.
Поэтому возникает вопрос: что это была за ересь, справедливы ли были возводимые на Елену Волошанку и ее «кружок» обвинения? Чего в этой истории больше: искренней борьбы за чистоту веры или интриг и политической конъюнктуры?
Русская православная церковь в средневековье была нетерпима к любому вольнодумству и реагировала на него в высшей степени остро, что вело к радикальному уничтожению малейших ростков ересей в самом зародыше. Английский историк Яна Ховлетт справедливо заметила: «В христианской традиции ересь — это haeresis: выбор христианином мнения, отличающегося от церковной догмы. „Отступление“ является переводом слова apostasis, т. е. отказ от христианской веры и переход в веру другую. Но в русской церковной практике понятие отступления используется одновременно и для понятия apostasies, и для понятия haeresis. В этом одна из причин проблематичности ереси в России»[31]. Иными словами, малейшее сомнение, свое мнение сразу расценивались как измена вере, покушение на самое святое. Раз и навсегда усвоив христианский канон, Русская православная церковь отказывалась его пересматривать. Этот радикализм не давал развиться мнениям и сомнениям в серьезные еретические течения. Недаром те немногие случаи ересей, которые нам известны, связаны с иностранным влиянием или воздействием чужой, придуманной не на Руси религии или духовного течения (арианство, иудаизм). Своих, доморощенных ересей Россия в средневековье просто не знала. Известные нам случаи «отклонения от веры» в ранний период единичны и к тому же сомнительны («скопец» Андреян в 1004 году, «еретик» Дмитрий в 1123-м). Позже их число все равно оставалось незначительным, причем важно то, что они почти не касались догматики, а были связаны в основном с вопросами церковной дисциплины, аскетики, обрядовой стороны православия. Фигурально выражаясь, своего Ария средневековая Русь не породила. И такое положение сохранялось, по крайней мере, до конца XV–XVI века.
Поэтому люди русского средневековья не ощущали исходящей «изнутри», от своих соплеменников угрозы чистоты веры. Зато религиозный соблазн мог прийти извне: раз усвоив определенную христианскую парадигму, Русь оказалась маловосприимчивой к восточным и западноевропейским попыткам ее интерпретации. Она считала все это ересями — «иудейской», «латинской» и т. д. Данное обстоятельство порождало несколько очень важных идеологических установок. Проблема «чистоты веры», с которой в Библии прежде всего связывались категории измены — верности, имела, если можно так выразиться, в основном охранительную «внешнюю» трактовку. Здесь была питательная среда для ксенофобии, неприятия на подсознательном уровне чужих, иноземцев, приверженцев других конфессий. Поэтому даже сами контакты с ними требовали осторожности, а отъездчик за границу уже казался потенциальным изменником (неважно, переменил ли он веру: он все равно не способен сохранить ее целостность в окружении еретиков).
Из-за этого проблематика измены — верности на Руси очень быстро приобрела не столько религиозный, сколько «иноземный» характер. Если для мышления, основанного на буквальном восприятии изменного дискурса Священного Писания, характерна цепочка: «впал в ересь (то есть изменил, усомнился в вере) — стал предателем», то для Руси более характерно: «совершил неблаговидные поступки, стакнулся с чужаками, служит им — он, должно быть, еще и еретик».
Седьмой Вселенский собор постановил, что православный человек должен всячески избегать соприкосновения с «иным», то есть не прикасаться к еретическим книгам, не разделять с еретиком трапезу, кров и даже одно пространство — от еретика надо физически находиться как можно дальше. Иначе ересью можно заразиться. Представление о том, что невозможно соблюсти чистоту веры, если даже просто какое-то время постоять рядом с еретиком, иногда принимало совершенно фантастические формы. Так, в России XVII века перекрещивали православных, приехавших из Украины и русских земель Речи Посполитой. Считалось, что они не настоящие православные, раз в землях, где они живут, есть еще униаты, католики, протестанты и т. д. Им невозможно остаться истинными православными, если по соседству с чисто ортодоксальным приходом стоит униатская церковь.
На Руси жизнь еретиков осложнялась еще и особой позицией государства по религиозным вопросам. Как показала Яна Ховлетт, на Западе понятие измены — crimen laesae majestatis — появилось в римском гражданском праве и потом было привлечено инквизицией для определения ереси как измены Господу. Но изначально понятие ереси относилось к каноническому праву, а измена — гражданскому. В России же процесс носил обратный характер: понятие измены возникает как «измена вере», и потом государство начинает применять это изначально чисто церковное понятие к отступникам от государства[32]. Переход на сторону врага, предательство изначально обозначались на Руси термином «перевет», а словом «измена» первоначально называлось исключительно отречение от своей веры.
Первое употребление этого термина летописцем содержится в рассказе об убиении Михаила Черниговского в Орде в 1246 году. Михаил наотрез отказался участвовать в языческих обрядах, которым подвергали в Орде русских князей: поклонении идолам, кусту и прохождении между зажженными кострами. Черниговский князь заявил, что не желает «именем хрестьян зватися, а дела поганых творити». По его словам, какая польза в обладании всем миром при погублении своей души, «что даст человек измену на души своей»[33]. В данном случае перефразирован стих из Псалтыри: «Брат не избавит, избавит ли человек? Не даст Богу измены за ся, и цену избавления души своея» (Пс. 48:8–9).
В XIV–XV веках, по мере перехода термина «измена» в юридический лексикон, сохранилось представление об изменнике, предателе как одновременно непременном еретике. Измена человеку почти всегда есть измена Богу, потому что все равно нарушается клятва верности — крестоцелование. И, напротив, любой даже по мелочи усомнившийся в догматах веры — еретик и одновременно преступник, предатель православного государства.
В этом идеологическом контексте и возникли ереси конца XV века. Их появление стало возможно в контексте ожидания Конца света в 1492 году от Рождества Христова, то есть 7000-м от Сотворения мира. Об этом говорили многие пророчества, и недавно подтвердилось самое страшное из них — Мефодий Патарский утверждал, что накануне Конца света погибнет Константинополь. В 1453 году Константинополь был взят турками, что было воспринято как несомненное свидетельство близкого Последнего дня. Даже Пасхалии — дни Пасхи — были рассчитаны только до 1492 года. Далее, считалось, они не понадобятся. На полях одной из рукописей против даты 1492 было написано: «Зде страх! Зде скорбь!»[34]
Историк А. Л. Юрганов красочно описывает психологическое напряжение конца XV века: «В 1492 году Второго Пришествия ждали особенно трепетно. И в разное время. Некоторые были уверены, что оно последует в марте. Ведь в марте месяце был создан Адам, иудеи освободились от египетского плена, произошли Благовещение и смерть Спасителя. Значит, в марте будет и кончина мира. Тяжелой была ночь с 25 марта 1492 года. Люди ждали, что вот-вот раздастся всемирный звук трубы архангелов Михаила и Гавриила…»[35]
Страх Второго пришествия порождал как религиозный фанатизм, так и нетвердость в вере. В 1487 году в Новгороде была обнаружена ересь. Несмотря на борьбу с ней, она ширилась. Масла в огонь подлил конфуз официальной церкви, когда в 1492 году Конца света все же не случилось. Еретики пользовались поддержкой при дворе, где им покровительствовала Елена Волошанка. Поскольку в 1490-х годах ее сын Дмитрий рассматривался как наиболее вероятная кандидатура наследника престола, это была существенная поддержка.
Против еретиков боролись церковные иерархи, прежде всего новгородский архиепископ Геннадий и тогда еще маловлиятельный игумен Иосифо-Волоколамского монастыря Иосиф Санин. В 1490 году состоялся первый суд над группой еретиков, а в 1504 году, во многом по инициативе Иосифа, удалось добиться разрешения у Ивана III на сожжение лидеров еретиков в срубах на льду Москвы-реки. Таким образом с помощью государства церковь победила зародившуюся еретическую заразу, физически истребив ее носителей. В тюрьме, как уже говорилось, оказалась и Елена Волошанка, по обвинениям, в которых за тайными политическими мотивами скрывались церковные, и наоборот.
Будущий Василий III не известен как активный борец с еретиками, но развитие ситуации, бесспорно, было ему на руку. Ненавистный конкурент в борьбе за престол, Дмитрий-внук, оказывался так или иначе замазанным в связях с ересью. Лучшего способа очернить соперника нельзя было и придумать. Что в доносах на еретиков, явных и мнимых, было первично — искреннее радение за чистоту веры (у Геннадия и Иосифа Санина) или желание свести личные счеты, скрыть за идеологической конъюнктурой тайные политические мотивы — мы, наверное, вряд ли когда узнаем. Но, исходя из принципа qui bono («кому выгодно?»), мы, несомненно, можем записать Василия III в число деятелей, наиболее выигравших от победы над еретиками.
Канул в Лету принесший много смут и потрясений XV век, и Россия тихо вступила в век XVI. Эпоха уходила вместе с ее творцами. 17 апреля 1503 года умерла Софья Палеолог. Вскоре тяжело заболел Иван III. Во время традиционной осенней поездки в Троице-Сергиев монастырь он повздорил с игуменом Серапионом из-за какой-то деревеньки. Изношенные сосуды головного мозга не выдержали бурных эмоций, грянул инсульт. У Ивана III парализовало руку и ногу, великий князь ослеп на один глаз. Современники говорили, что это «посещение от Бога», что Господь карает великого князя за все предыдущие грехи, что на пороге близкой смерти ему надлежит покаяться[36].
Пора было думать о завещании. Что оставить детям? И вот здесь Иван III, создатель единого Русского государства, борец с удельной системой, дал первую слабину. Ну не мог он ничего не оставить младшим детям! И пусть львиную долю наследства получал старший — Василий, все равно своей последней волей Иван III, завещав младшим сыновьям ряд уделов, фактически возродил удельную систему, которую выкорчевывал всю свою жизнь. Тем самым завещание Ивана III определило врага Василия III на все его правление: удельная знать, «княжье», родовитая аристократия. В борьбе с ней недостаточно было заручиться поддержкой одних князей против других. Нужна была некая социальная опора, корпорация, поддерживавшая центральную власть.
Но как добиться такой поддержки? Ее покупка путем щедрых земельных раздач служилым людям или церкви толкала на скользкий путь. Во-первых, у удельных князей тоже есть земли, которые они могут жаловать, и в стране начнется вакханалия передела земельной собственности. Во-вторых, эта ситуация будет необычайно располагать служилый люд или церковников к измене — кто даст больше, за того и будем воевать или молиться. Необходим был некий жест, громкий символический акт, который продемонстрировал бы социальные симпатии Василия III — причем такой, какой бы не смогли повторить удельные князья…
И Василий решил использовать свою запланированную женитьбу (на престол должен взойти женатый, солидный человек) в политических целях. Причем впервые в московской истории правящий монарх брал в жены не иностранную принцессу, не русскую княжну, а невесту из семьи служилых людей, пусть и из высшего слоя — старомосковского боярства. Это был смелый и нетрадиционный поступок. Князю положено жениться на девушке из родовитой, княжеской аристократии. Бояре, несмотря на все их богатство и влиятельность, к ней не принадлежали.
Именно при отце Василия, Иване III, окончательно оформляется социально-политическая система, когда по сравнению с великим князем и государем всея Руси все остальные подданные считались холопами, подчиненными людьми. В Московском государстве не действовала европейская система вассалитета, то есть феодальной иерархии, когда каждый барон, граф, рыцарь занимал свою ступеньку на социальной лестнице и точно знал свои права и обязанности. В России же было что-то очень похожее на министериалитет[37], то есть систему, когда власть верховного правителя над подданными абсолютна. Князья, бояре, служилые люди, купцы имели разный социальный статус по отношению друг к другу, но по отношению к верховной власти они бесправны и покорны одинаково.
Ученые связывают появление на Руси этой системы отношений как раз с эпохой Ивана III и переносом на Русь некоторых элементов золотоордынской политической системы. Ведь ханы первоначально раздавали ярлыки на княжение, мало считаясь с иерархией внутри дома Рюриковичей. Получение ярлыка зависело от размера взятки и отношений с татарским правителем. Позже, в XIV–XV веках, кандидатуры на получение ярлыка выдвигались уже самими князьями.
Образно выражаясь, это система, когда есть один первый, главный, но нет вторых, третьих и т. д. По отношению к власти они все — последние. Первый — государь, а все остальные подданные — его холопы. Недаром уже при Василии III, как показала А. Л. Хорошкевич, в придворный этикет входит, казалось бы, абсурдная формула: с 1516 года бояре, официально обращаясь к Василию III, используют выражение: «Аз, холоп твой, челом бьет…»[38]
И вот на такой девице из «некнязей» решил жениться Василий. В августе 1505 года был устроен смотр невест — в Москву привезли более пятисот девушек. Свадебного дела Василия III не сохранилось, но от аналогичного дела его сына — Ивана Грозного — осталась некоторая документация за 1546–1547 годы[39]. Вряд ли царь Иван был здесь новатором, скорее он копировал обряд, введенный его отцом.
Вариантов отбора невест было два. Согласно первому, по уездам посылались специальные команды, которые заезжали в дворянские имения (возможно, также посещали зажиточных купцов и горожан) и просили предъявить девушек, годных к бракосочетанию. По второму варианту родители сами привозили дочерей в Москву, где их осматривала специальная комиссия. Условия отбора невест были следующими. Учитывались возраст, форма лица, носа, цвет глаз и волос, телосложение («дородность»), состояние здоровья (и невест, и их родителей), происхождение. Члены комиссии составляли подробные отчеты, в которых описывали все эти критерии («телом ровна, ни тонка, ни толста»). Тщательно изучались все родственные и брачные связи, состояние здоровья как потенциальной невесты, так и ее родителей и родственников.
Процедура особенного энтузиазма у дворян не вызывала. Их смущало нарушение традиционной морали, по которой грешно «прежде дела дочерей показывать». О грядущей свадьбе договаривались свахи, родители, а молодые могли друг друга и не видеть до обручения. А тут — посторонние люди, унизительные осмотры, уколы самолюбию (а вдруг дочь признают «недостойной»), копание в грязном белье родственников — а взамен один шанс из пятисот, что твоя дочь станет государыней. Мысль о возможности породниться с великокняжеской фамилией для неродовитых была слишком необычной и скорее пугала, чем соблазняла.
Тем не менее «смотр невест» состоялся, и Василий III выбрал Соломонию Юрьевну Сабурову. Сабуровы происходили из костромских бояр Зерновых, известных с XIV века. Основателем рода был Федор Сабур, живший в начале XV века. Дед Соломонии, Константин Федорович Сверчок-Сабуров, в 1496 году держал в кормлении половину города Зубцова. Отец Соломонии, Юрий, в 1495/96 году руководил переписью Обонежской пятины, в 1501 году был великокняжеским наместником в Кареле. У государевой невесты было четверо братьев: Иван, Андрей, Федор и Афанасий. Сабуровы владели землями в Костромском уезде и, видимо, какими-то поместьями в районе Торжка[40].
Относительно статуса Сабуровых среди других служилых родов мнения историков противоречивы. А. А. Зимин указал на их невысокое положение: «Сабуровы, несмотря на родство с великим князем, особенно высоких постов не занимали»[41]. Противоположную точку зрения отстаивал С. Б. Веселовский: он показал, что «Сабуровы в XV веке занимали в боярской среде очень видное положение: из шести сыновей Федора Сабурова пятеро были боярами».
Однако на рубеже XV–XVI столетий род действительно утратил свои позиции: с 1485 по 1506 год никто из Сабуровых не смог добиться думного чина. Свадьба Соломонии позволила им войти в Боярскую думу и приобрести другие выгодные родственные связи: сестра Соломонии, Мария, в том же 1505 году вышла замуж за князя Василия Семеновича Стародубского. Но этим дело и ограничилось: как удивленно заметил С. Б. Веселовский, в их дальнейшей судьбе есть что-то роковое. Представители рода либо умирали молодыми и бездетными, либо гибли в военных походах. В XVI веке Сабуровы, несмотря на родство с великокняжеским родом, оказались оттеснены во вторые и третьи ряды московского боярства[42].
Но это будет потом. А пока на государев двор пришла радость. Венчание Василия и Соломонии состоялось 4 сентября 1505 года в Успенском соборе Московского Кремля (впрочем, некоторые источники называют 8 сентября и даже 18 октября). Венчал молодых сам митрополит Симон. А. А. Зимин дал такую оценку этому событию: «Так впервые русский государь решил связать свою судьбу не со знатной женой, а с представительницей боярской фамилии, безоговорочно преданной московским великим князьям. Именно старомосковское боярство стало надолго основной опорой Василия Ивановича в его внутриполитической деятельности»[43]. Служилая знать оценила выбор Василия III. Конечно, одной женитьбой на долгое время вопрос о поддержке не решался. Но в 1505 году эта акция, несомненно, обеспечила определенный эмоциональный подъем и симпатии со стороны боярства.
А симпатии были нужны. Счастье первого месяца супружества для Василия III было очень скоро омрачено. В великокняжеские палаты прямо из тюрьмы в один из осенних дней 1505 года доставили Дмитрия-внука. Изнуренный болезнью Иван III, заметно подрастерявший твердость характера, приказал выпустить его из заточения.
О том, что в реальности происходило в великокняжеских покоях, можно только догадываться. Мы имеем рассказ об этом Сигизмунда Герберштейна, посла Священной Римской империи в России: «По настоянию жены (Софьи Палеолог. — А. Ф.) князь (Иван III. — А. Ф.) заключил Димитрия в тюрьму и держал его там. Только перед смертью (когда священники взывали к его совести) он призвал к себе Димитрия и сказал ему: „Дорогой внук, я согрешил перед Богом и тобою, заключив тебя в темницу и лишив законного наследства. Поэтому молю тебя, отпусти мне обиду, причиненную тебе, будь свободен и пользуйся своими правами“. Растроганный этой речью Димитрий охотно простил деду его вину. Но когда он вышел от него, то был схвачен по приказу дяди, Гавриила (Василия III. — А. Ф.), и брошен в темницу»[44].
Пафос речей, вкладываемых в уста Ивану III, и явная театральность всей сцены заставляют заподозрить в этом рассказе апокриф. Тем более что в латинской и немецкой редакциях текст различен: в немецкой добавлены священники, взывающие к совести монарха (текст в скобках). Значит, сюжет сочинялся, дописывался[45]. Но сомневаться в самой попытке реабилитации опального Дмитрия нет оснований. Как и в том, что реакция на это Василия III была очень нервной. «Будь свободен и пользуйся своими правами» — это какими такими правами?! Ведь государев внук официально коронован!
Из-за душевной слабости умирающего Ивана III, его ужаса перед загробным неведомым (рай или ад?) и острого желания успеть замолить все земные грехи Россия осенью 1505 года вновь оказалась на грани новой смуты и политического кризиса. Арест Дмитрия (русская летопись, в отличие от рассказа Герберштейна, относит его ко времени уже после смерти Ивана III) был наименьшим из зол. Альтернативой могла стать очередная война за власть. Судьба государева внука, вне всяких сомнений, трагична. Через несколько лет, 14 февраля 1509 года, он умрет в заточении: по одним данным, его убьют, задымив помещение, где он содержался; по другим — уморят голодом и холодом.
Доставившее столько нервов избавление от венчанного государевым венцом конкурента по времени совпало со смертью Ивана III. Наиболее достоверной датой его кончины считается 27 октября 1505 года, хотя источники называют и 26, и 28, и 29 октября, и даже 28 ноября. Так или иначе, в этот хмурый осенний день ушла в прошлое одна эпоха и началась другая. Россия вступила в XVI век, который у нас исторически начался не в 1501-м, а в 1505 году.
Завещание было составлено Иваном III между концом октября 1503-го и серединой января 1504 года[46]. Наследниками были названы пятеро сыновей: Василий, Юрий, Дмитрий, Семен, Андрей. Между ними выстраивалась четкая иерархия отношений. Иван III писал: «Приказываю детей своих меньших, Юрия с братьею, сыну своему Василию, а их брату старейшему. А вы, дети мои… держите моего сына Василия, а своего брата старейшего, в мое место, своего отца, и слушайте его во всем». Великое княжение названо «вотчиной» великого князя. Эта формулировка не допускала неоднозначных толкований и не давала простора для удельного сепаратизма: да, братья получили свою долю, но не более того. Сама политическая система, складывающаяся по воле государя, не давала простора для удельных правителей, хотя и признавала их права.
Василий III был первым великим князем, который целиком получил Москву (до этого существовало так называемое третное деление столицы между представителями правящего дома). Москва была религиозным, военным и культурным центром: здесь размещалась резиденция митрополита, московское боярство составляло костяк офицерского корпуса, а дворяне — наиболее боеспособные части армии. Но, главное, — Василий получил преимущественное право сбора с «Москвы с волостьми» всех налогов: «и с тамгою, и с пудом, и с померным{2}, и с торги, и с лавками, и с дворы с гостиными, и со всеми пошлинами» (братьям полагались лишь небольшие отчисления). С Москвой в прибыльности по взиманию налогов могли поспорить разве что Псков, Великий Новгород и Тверь, но они тоже оказались среди владений Василия III. Таким образом, в его руках были сосредоточены основные доходы страны, что позволяло разговаривать с братьями на уделах свысока. По завещанию отца Василий получил 66 городов (Владимир, Суздаль, Коломну, Ярославль, Воротынск, Боровск, Дорогобуж, Переславль, Белоозеро, Муром и т. д. — почти все главные городские центры Северо-Восточной Руси), в то время как четверо остальных братьев все вместе довольствовались тридцатью.
Юрий Иванович получил Дмитров, Звенигород, Рузу, Кашин, Серпейск, Брянск и др. Однако Дмитров, к примеру, достался ему без целого ряда богатых окрестных волостей, переданных Василию III. Дмитрий Иванович унаследовал Углич, Зубцов, Мезецк, половину Ржева. Еще двоим братьям уделы были назначены, но их выдача должна была состояться позже, когда Василий III сочтет, что «молодшие» князья достойны стать правителями на своих землях. Семену достались Калуга, Бежецкий Верх и Козельск, а Андрею — Старица, Верея, Алексин и Любутск.
Богатство владений Василий III сочетал с контролем над финансовой системой страны. Только великий князь мог чеканить монету — в Москве и Твери. Тем самым он определял размеры эмиссии и денежного обращения. Другая важная сфера, которая оказывалась в ведении великокняжеских наместников, — уголовный суд по тяжким преступлениям (убийство, разбой и т. д.). Целый ряд земель, формально принадлежавших удельным князьям, в вопросе о «душегубстве», как сказано в духовной грамоте, «тянул к Москве». В компетенции местных властей оставались сыск и суд по мелким преступлениям, что, несомненно, снижало их авторитет и повышало реальную власть центральной администрации.
Со времен татарского ига власть великого князя Владимирского традиционно состояла в том, что именно он имел право дипломатических контактов с Ордой и возил туда «выход» — печально знаменитую татарскую дань. Уже и ига не было — его тень развеялась в 1480 году под залпы русских пушек на берегах реки Угры. Пала и Орда — в 1502 году на реке Тихая Сосна крымский хан Менгли-Гирей, как сказано в русских летописях, «Орду взял» — разбил и пленил татар Большой Орды. Ее недобитые остатки ушли в Астрахань, где было основано самое ничтожное и незнаменитое из татарских ханств — Астраханское.
Но несмотря на то, что платить было уже некому и незачем, Василий III, как явствует из духовной Ивана III, все равно должен был собирать «выходы ордынские» — с уделов своих братьев. Их планировалось тратить на финансовое обеспечение приемов татарских послов и дипломатические платежи в Казань, Астрахань, Крым, Касимов. Денежные потери там были небольшие, скорее символические. Но сам факт, что великий князь собирал средства для «татарских проторов» с уделов, еще раз подчеркивал его власть над братьями.
Унизительным и роковым образом звучал для «молодших» князей следующий пункт завещания Ивана III: в случае отсутствия у братьев наследников мужского пола их выморочные уделы отходили к великому князю Московскому. Если же будут дочери — то государь обязан выдать их замуж, но удела они все равно лишаются. Княгиня-вдова могла владеть селами, отданными ей в личное владение, пожизненно — потом они также отходили правителю Москвы.
Данная система делала существование самих родовых ветвей «молодших» весьма уязвимым. Василий III этим и воспользовался: он запретил братьям жениться и заводить детей, пока у него самого не родится наследник престола. Мотивы великого князя были прозрачны, и против них было трудно что-либо возразить: он хотел, чтобы его сын оказался первенцем среди потенциальных наследников. Это страховало государство от будущих смут. Если бы его сын оказался младше отпрысков кого-либо из братьев, то возник бы традиционный для политической жизни средневековой Руси конфликт между старейшим в роду, умудренным опытом, всеми уважаемым дядей и молодым да ранним и нагловатым племянником. Это уже не раз случалось в русской истории, а в 1425 году даже привело к растянувшейся на четверть века феодальной войне между Василием II Темным, племянником Юрия Дмитриевича, князя Звенигородского, и сыновьями последнего — Василием Косым, Дмитрием Шемякой и Дмитрием Красным.
Новой смуты не хотел никто, даже сами удельные князья — слишком велик был риск сложить голову в междоусобной сваре. Поэтому они скрепя сердце согласились потерпеть без жен до рождения наследника у Василия III. Кто ж знал, что пребывание в безбрачии для них окажется пожизненным: детей у Василия III после свадьбы не было в течение двадцати пяти лет. Большинство братьев просто поумирало, так и не познав радостей семейной жизни. До собственной женитьбы дотянул только самый младший, Андрей Старицкий, которому разрешили жениться лишь в 1533 году!
Завещание Ивана III как юридический документ не оставляло удельным князьям никаких исторических перспектив. Санкции за непослушание и своевольство звучали очень пафосно: «А который мой сын не станет сына моего Василия слушаться во всем, или станет под ним подыскивать великого княжения или под его детьми, или будет пытаться от него отступиться, или станет ссылаться с кем-то тайно или явно, чтобы причинить зло великому князю, или кого-то против него начнет подбивать, или с кем-то будет объединяться против великого князя, то не будет на нем милости Божьей, и Пречистой Богоматери, и молитв святых чудотворцев, и родителей наших, и нашего благословения, и в сей век и в будущий».
Церковное проклятие и лишение родительского благословения обрекало мятежный княжеский род на угасание, а его представителей — на выпадение из политической колоды. Удельные князья могли только слушаться, покоряться, уступать. Если в них просыпались княжеские амбиции, то это расценивалось как преступление против Бога и миропорядка.
Тем не менее инерция мышления все же сказалась. Удельных князей всячески унизили и ограничили в правах, но на следующий шаг — ликвидацию удельной системы в принципе — не решился даже Иван III. Кроме вышеназванных уделов, сохранялось Волоцкое княжество Федора Борисовича, племянника Ивана III. Оставалось княжеское землевладение в Северских и Верховских землях, недавно отнятых у Великого княжества Литовского. Стародуб, Любеч и Гомель входили во владения Семена Ивановича Стародубского, а Новгород-Северский и Рыльск — Василия Шемячича. Здесь же располагались Трубецкое княжество и небольшие владения княжат Одоевских, Белевских, Воротынских и др.
Борьбе с князьями на уделах Василий III посвятит всю свою жизнь. Эти страницы истории России были трагическими — собственно, родовая аристократия не была ни в чем виновата. Князья родились князьями и в сохранении традиционного уклада видели правильный миропорядок. А будущее России требовало этот порядок искоренить вместе с его носителями — физически, под корень, чтобы и семени не осталось…
Будущее, прогресс и историческая правда были за Василием III. Увы, ко многим политикам, бывшим и действующим, применимы знаменитые слова поэта Наума Коржавина, когда-то сказанные им об Иване Калите:
Удивляться тут нечему. Политик — такая профессия. Наум Коржавин с сарказмом писал еще о вполне приличном и даже желанном для подданных варианте. Куда хуже — и бывает куда чаще, — когда подлость в сердце сочетается с умением исключительно разрушать, портить и опошлять все, к чему прикасаются руки власти — по известному выражению Осипа Мандельштама, «отвратительные, как руки брадобрея»…
Русская удельная знать оказалась перемолота жерновами истории, за что полвека спустя князь Андрей Курбский, первый русский диссидент, назовет род московских великих князей «кровопийственным». Горьким, но справедливым обвинением прозвучат слова беглого боярина: «Что стало с князьями Угличскими и Ярославскими и прочими их родичами? Как они всеми родами истреблены и погублены? Об этом и слышать тяжело, ужасно! Младенцы оторваны от материнской груди, князья были заключены в мрачных темницах и долгие годы погибали в заточении, как, например, Дмитрий-внук, несмотря на то, что он блаженный и боговенчанный!»[47] Но это была цена, которую Россия заплатила за единое государство.
Могло ли быть иначе? Можно ли было не травить князей дымом в тюремных камерах? Не надевать им на руки такие тяжелые кандалы, что они не могли подносить руки ко рту и умирали от голода в страшных муках, корчась, прикованные, возле миски с едой? Не сажать под «железную шапку» — под колокол, где человек просто задыхался, когда кончался воздух? Не подсылать убийц, не травить ядом, не убивать «случайно» при аресте, в драке с пьяными сокамерниками-простолюдинами? Не издеваться, наконец, запретив жениться и иметь детей, для того, чтобы род угас? Не сажать на всю жизнь в монастырский застенок?
Наверное, можно. Только вот тогда велик риск, что мы бы сегодня жили не в России, а в Новгородской демократической республике или в Независимой Московской республике, соседствующей с Суверенным Ярославским государством… И карта мира выглядела бы совсем по-другому. И уцелели бы на ней Новгород, Москва и Ярославль? И был бы, например, построен Санкт-Петербург? И… Кто знает!
Вопрос о цели, средствах и цене, которую история требует заплатить за прогресс, за будущее, — страшный вопрос. Однозначного ответа на него нет и быть не может. Если бы люди не решались добиваться своего жесткими средствами и платить любую цену, то мир выглядел бы иначе. Да и вообще — уцелел бы мир? Только вот иной раз средства настолько неприглядны, а цена столь высока, что история, глядя на эти безобразия, выносит стране и народу прямо противоположный их целям приговор… За примерами далеко ходить не надо. Если интересно — откройте любой учебник истории. А мы вернемся к Василию III.
В конце ноября 1505 года Василий III официально стал правителем Руси. Специального обряда возведения на престол, видимо, не было, или о нем не сохранилось никаких известий. В отличие от своего заклятого конкурента, Дмитрия-внука, и от сына, Ивана Грозного, Василий так и не венчался на великое княжение шапкой Мономаха. Наверное, это объяснялось тем, что до 1509 года Дмитрий-внук, официально венчанный на престол, сидел в тюрьме, и проведенный повторно церемониал мог вызвать у подданных ненужные мысли.
Да и как быть с двумя венчанными государями, в России еще плохо представляли. Ведь процедура, как и любое церковное венчание, была освящена Богом — и не во власти человека ее отменить. Пока Дмитрий жив — он оставался единственным, хотя и опальным и низложенным, хотя и заключенным, но все же правителем, получившим особое Небесное благословение через свершенный над ним специальный ритуал. А после его убийства в 1509 году венчаться на великое княжение уже было как-то нелепо. К этому времени Василий III был уже утвердившимся в своей власти монархом и ритуал, проведенный, так сказать, по кровавым следам убийства Дмитрия, мог всколыхнуть в подданных ненужные эмоции и значительно убавить тот авторитет, который Василий нажил за первые годы правления. Так что новоиспеченный монарх рассуждал здраво — обойдемся без ритуалов, главное, в чьих руках реальная власть.
Как называли русского монарха в начале XVI века? Обратимся к его титулу. Титул правителя в средневековье являлся главной формой декларации претензий государства на определенное место в мире. Он состоял из двух частей. Первую можно назвать статусной. В ней фиксировался статус правителя в международной политической иерархии (князь, король, император, царь и т. д.). Вторую часть титула следует определить как владетельную. В ней перечислялись названия подвластных территорий (например, царь Казанский, царь Астраханский, государь Псковский и т. д.).
Василий III унаследовал титул великого князя, который с Ивана Калиты (1325–1340) носили представители московской династии, обладатели выдаваемого татарами ярлыка на великое княжение Владимирское, с конца XII века считавшееся старшим на Руси. Кроме того, при Иване III происходит утверждение нового статусного титула правителя Московской Руси — государь. Установить его происхождение довольно сложно. Несомненна его близость с молдавским господарь, болгарским господар, сербохорватским господар, словенским gospodar, чешским hospodar, польским gospodarz. По мнению некоторых исследователей, данная титулатура является заимствованием. Одни ищут ее истоки в Юго-Восточной Европе, другие — в западнорусских землях соседнего Великого княжества Литовского[48]. Третьи же настаивают на русских корнях титула, обращая внимание на родство слов государь и господин[49].
Так или иначе, титул был принят при Иване III и звучал так: «Иоанн, Божьею милостью, един правый государь всей Руси отчич и дедич и иным многим землям от севера и до востока государь». Василий III унаследовал этот титул. В грамотах «государево имя» при нем писалось следующим образом: «Великий государь Божией милостию един правый государь всеа Русии и иным многим землям восточным и северным государь и великий князь».
Здесь нужно обратить особое внимание на выражение: «един правый государь». Оно указывает на сакрализацию своей власти московскими великими князьями. Этими словами они указывали на то, что несут особую уникальную миссию единственного праведного царя, правителя последнего в истории богоизбранного народа, «Нового Израиля», которым с конца XV века считали русский народ. Данное выражение восходило к библейским текстам. «Блаженным и единым сильным Царем Царствующих» в Новом Завете называли Христа (1 Тим. 6: 15). В эсхатологических пророчествах Книги Иезекиля говорилось о царе — объединителе народов: «Я сделаю их одним народом, и один Царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства» (Иез. 37:22).
Тема русского государя как «царя правды» активно разрабатывалась в русской политической мысли конца XV–XVI века. Аналогии выражению «правый царь», «царь правды» можно также найти в знаменитом «Послании на Угру» Вассиана Рыло (1480), в Чинах венчания на царство Дмитрия-внука 1498 года и Ивана Грозного 1547 года, в «Степенной книге» начала 1560-х годов. Таким образом, в использовании при Василии III титула един правый государь очевидно прослеживается желание отождествить русского верховного правителя с библейскими царями.
В некоторых документах Василий III также назван самодержцем. Это обращение в основном применяли иностранные дипломаты (главным образом, восточные), а также греческие иерархи, желавшие польстить московскому государю. «Благочестивым и христолюбивым и самодержным всей земли Великой Руси и прочим землям, иже под Московия», назван Василий III в грамоте из Афона в 1508 году. Термин «самодержец» был употреблен в 1514 году в послании служилого татарина Камая: «Всея Руси и иных самодержцу». «Избранным великим государем Василием, милостию Божией единым самодержавным правым государем всем землем Русским, восточным и северным» называл Василия III в грамоте от марта 1516 года игумен Пантелеймонова монастыря Паисий[50].
Однако сам Василий III себя самодержцем не называл. Как ни парадоксально, сильные государи XVI века, Василий III и даже Иван Грозный, официально самодержцами так и не стали — титул встречается в некоторых грамотах 1570-х годов, но системно не употреблялся. Зато официально самодержцем стал государь, которого вряд ли можно считать полноценным правителем, — слабоумный сын Ивана IV Федор Иванович (1584–1598).
Не менее загадочна ситуация с владетельным титулом Василия III. Он известен в двух редакциях, краткой и пространной, и в полном виде звучал так: «Владимирский, Московский, Ноугородский, Псковский, Смоленский, Тверский, Югорский, Пермский, Вяцкий, Болгарский и иных, государь и великий князь Новогорода Низовские земли, и Черниговский, и Рязанский, Волотский, Ржевский, Белевский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский и Кондинский». Причем можно говорить о целой реформе титула при Василии III — в нем появилось десять новых определений!
Ситуация выглядит в высшей степени странной: при Василии III не было особенного территориального роста. В 1510 году была ликвидирована и окончательно подчинена Москве Псковская республика, но определение «Псковский» фигурирует в титуле московских правителей еще с XV века. В 1514 году был взят Смоленск, в 1521 году окончательно подчинена Рязань. В 1513 году умер последний правитель Волоцкого удела князь Федор и его владения перешли к Василию III. Появление этих титулатур в «имени» Василия III очевидно. А остальных?
Ржевская земля оказалась в зависимости от Москвы еще в 1381–1382 годах. Нижний Новгород был присоединен к Москве в 1392 году. Ярославские князья подчинились московским Калитичам в 1463–1473 годах. Удорский край, населенный зырянами, расположенный в междуречье Мезени и Вашки, получивший имя по легендарному князю Удору, вошел в состав России при Иване III, в 1478 году. Белоозеро окончательно присоединено к московским великокняжеским владениям в 1485 году. Князь Федор Бельский выехал из Литвы в Москву в 1482 году, а собственно земли бельских князей в верховьях реки Оки вошли в состав России по итогам первой порубежной войны с Великим княжеством Литовским в 1494 году. Обдорская земля в низовьях реки Оби официально присоединена в 1499 году, как и земли по реке Конде на Северном Урале. Чернигов вместе с Северскими землями был включен в состав России после второй порубежной войны, в 1503 году.
То есть ситуация выглядит парадоксальной: Василий III спустя многие годы вдруг «вспомнил» о тех или иных землях, входящих в его государство, и решил включить их в свое «государево имя». При этом мотивы и принципы «подбора земель» совершенно таинственны. Речь вовсе не идет о «покрытии» задним числом всей территории страны — достаточно взглянуть на карту, чтобы увидеть, сколько земель и крупных городских центров остались «за флагом».
Перед нами одна из загадок русской истории. Ясно только одно: владетельная титулатура выступает в какой-то степени как «конструирование» страны, идеальный образ. Эта мысль уже не раз высказывалась в научной литературе. Еще В. О. Ключевский говорил, что изменения в великокняжеском титуле — «это целая политическая программа, характеризующая не столько действительное, сколько искомое положение»[51]. Правда, перед нами вырисовывается обратная картина: титулатура Василия III не опережает события, а наоборот, с большим опозданием фиксирует приобретение той или иной земли. При этом все равно не очень понятно, что это за идеальная модель, по каким принципам она построена, почему в нее включены или не включены те или иные земли.
Видимо, здесь налицо ситуация, характерная для изучения русского XVI века в целом. Исследуя предыдущие эпохи, историк часто даже не догадывается, до какой степени он не знает эту эпоху. Количество дошедших до нас документов, свидетельств современников мизерно. По подсчетам В. А. Кучкина, за период с XII до конца XV века, то есть за 400 лет русской истории, нам известно 2234 делопроизводственных документа, из них 2048 приходятся на последнее столетие[52]. Для сравнения: только один французский король Филипп IV Красивый (1285–1314) оставил после тридцати лет своего правления около 50 тысяч актов![53] За 30 лет французской средневековой истории их сохранилось в 23 раза больше (!), чем за 400 лет русской. Есть от чего отечественному историку впасть в депрессию…
Поэтому многие картины, которые на основе этих скудных данных рисуют историки древней и средневековой Руси (нередко с немалым апломбом и самоуверенностью), — не более чем фрагменты, эскизы огромного исторического полотна, бо?льшая часть которого от нас скрыта, затемнена. И боюсь, что навсегда.
С XVI веком ситуация немножко иная: документов много, хотя все равно недостаточно. Но, по крайней мере, мы знаем, до какой степени мы не знаем ту эпоху (да простит меня читатель за эту словесную эквилибристику). Мы способны выявить загадки, тайны, «темные места» (речь о них неоднократно пойдет в этой книге). Раскрыть их получается далеко не всегда. Но обозначить, поставить вопрос, указать их место в цепи событий, их расположение на вышеупомянутом гигантском затененном историческом полотне — возможно. Значит, есть надежда когда-нибудь найти и ответы.
Россию начала XVI века называют монархией. Властные полномочия «единого правого государя всея Руси» действительно были аналогичными императорским или королевским, то есть близкими к абсолютной власти. Тем не менее государь не мог во все вопросы вникать лично. Слишком большая территория, слишком много подданных, слишком сложная государственная структура… Поэтому неизбежна постановка вопроса: каков был механизм реализации власти, унаследованный Василием III, какие правительственные структуры были в его распоряжении?
Вторым по значению политическим институтом после великокняжеской власти считается Боярская дума. Это круг официальных советников государя, высокопоставленных аристократов, получивших высшие служилые чины — бояр и окольничих.
Как они работали, как функционировала дума? Этого мы точно не знаем. Документов, по которым можно было бы понять происходившее на заседаниях думы, просто не существует. Протоколы ее заседаний до нас не дошли, даже точно не известно, велись ли они. Описаний заседаний нет. Согласно образному выражению В. О. Ключевского, Боярская дума, через которую в той или иной форме проходило большинство законопроектов, была учреждением, закрытым «от общества государем сверху и дьяком снизу». По его словам, «перед нами только практические результаты ее законодательной работы… как вырабатывались эти приговоры, какие интересы и мнения боролись при этой работе, того почти никогда не видит исследователь, как в свое время не видело и общество»[54].
Тем не менее можно считать установленным, что в первой трети XVI века Боярская дума не имела четкого статуса органа власти, политического института, правительственных полномочий — впервые само слово «дума» упоминается в 1517 году, хотя боярский круг советников при государе, несомненно, существовал уже долгое время. В начале XVI века дума представляла собой еще не столько политический институт, сколько круг советников государя, высокопоставленных сановников. Бояре не имели права законодательной инициативы и не несли коллективной ответственности за принятые решения. Об этом свидетельствует тот факт, что их ни разу не разогнали — случаи роспуска думы по аналогии с правительствами новейшего времени неизвестны. При этом мы не знаем, насколько часто дума собиралась и обсуждала дела в полном составе — напротив, видимо, большинство вопросов решалось на заседаниях с небольшим составом собственно бояр, но зато с привлечением других чиновников — дворецких, казначеев, дьяков и т. д. В этом случае все равно считалось, что «государь с боярами приговорили».
В работе думы действовал архаичный принцип единогласия: все постановления принимались единогласно, а не большинством голосов. То есть, собственно, не было голосования — было единодушное одобрение или неодобрение. Только вот насколько обязательным было это «одобрение — неодобрение» для Василия III? Он советовался с боярами по традиции, идущей еще с древних времен, когда рядом с князем были «друзья» — дружинники, без одобрения и поддержки которых редкий князь отваживался на какие-либо действия? Или же перед нами — государственные деятели, чиновники, в руках у которых реальные бюрократические рычаги управления страной?
По всей видимости, более аргументирована точка зрения тех исследователей, которые считают Боярскую думу эпохи Василия III все еще кружком советников с неопределенными полномочиями. Государь мог их слушать, мог не слушать. Тут все определялось не статусом думы как политического института, а степенью личного влияния того или иного персонажа на государя. Недаром Василия III современники обвиняли в том, что он, уединившись с избранными людьми, все решает с узкой кучкой приближенных, а не советуется со всеми боярами.
Превращение думы в политический институт начнется только тогда, когда пойдет процесс ее бюрократизации, превращения в правящий бюрократический орган. А это случится через 30 лет, в 1530–1540-е годы, когда Василий III умрет и оставит страну в управление трехлетнему мальчику, будущему Ивану Грозному… На Руси почти 15 лет не будет действующего государя. И в этом безвременье Боярской думе волей-неволей придется брать на себя целый рад властных функций монарха, осуществлять которые она могла только с помощью бюрократических распоряжений, бюрократических механизмов. Тогда дума встанет на путь превращения в правящий политический институт — хотя этот процесс растянется на десятилетия[55]. Только в 1550 году в Судебник — главный закон страны — будет включена 98-я статья, по которой все государственные дела в России должны вершиться через определенную процедуру: описание ситуации и формулирование предлагаемых решений перед государем («государев доклад») и одобрение этих решений Боярской думой («всех бояр приговор»). На практике же при Иване Грозном эта статья либо вообще не применялась, либо носила чисто процедурный характер[56], а влияние бояр как политиков по-прежнему будет зависеть от близости к Ивану Грозному… В этом он был последовательным преемником Василия III.
На практике власть бояр проявлялась прежде всего в том, что они влияли на кадровые назначения на важнейшие воеводства, высшие командные посты в армии, различные «хлебные места» в аппарате управления. Пусть при этом их управленческие полномочия нигде не были записаны — этими назначениями они контролировали и определяли политику страны. Вообще термин «бояре» иной раз применялся в широком смысле — так современники называли служилых людей, необязательно членов Боярской думы, которые исполняли боярские функции: суд, дипломатические и административные поручения. Это делалось для повышения статуса порученца в глазах окружающих, особенно иностранных дипломатов: смотрите, вашим вопросом сам боярин занимается! Мелких служилых людей, которые исполняли различные служебные поручения, от роли судебных приставов до воинской службы, именовали «детьми боярскими». Но широта этого термина не должна вводить в заблуждение: действительными боярами, членами совета при государе, были только несколько человек, официально назначенных в думу.
Как аристократу можно было попасть в Боярскую думу? Ее малый состав (10–12 человек) свидетельствует, что это были места для избранных, что ни знатность, ни служебные заслуги, ни богатство автоматически не делали человека боярином. Членов думы по своей воле назначал государь. При этом он считался с традицией, по которой в думе должны быть представлены знатнейшие семьи. Однако ни официально, ни по негласному обычаю не существовало никакого порядка, очередности назначений. Когда благодаря татарской стреле или литовской сабле, а чаще — ужасающей средневековой медицине место в думе становилось вакантным, на него могли одновременно претендовать представители сразу нескольких фамилий. Это создавало для великого князя прекрасную возможность для маневра, для интриг и кадровой игры. Чем он и пользовался, по своей воле возвышая одних и принижая других… Циничная философия: «А своих подданных мы вольны казнить, а вольны и пожаловать», в свое время слишком прямолинейно сформулированная Иваном Грозным, на самом деле не являлась его изобретением, а была присуща всем Калитичам.
Кто же при Василии III входил в думу и был его советником? В 1505 году, в момент его прихода к власти, в думе было пять бояр (Ф. Д. Хромой, Д. В. Щеня Оболенский, П. В. Нагой Оболенский, Я. Захарьин, В. Д. Холмский) и семь окольничих (Г. Ф. Давыдов, П. Ф. Давыдов, Г. А. Мамон, С. Б. Брюхо Морозов, П. Г. Заболоцкий, К. Г. Заболоцкий, И. В. Шадра)[57]. Это были люди Ивана III — достаточно указать, что трое из пяти бояр (Щеня, Захарьин и Холмский) присутствовали при составлении им завещания, духовной грамоты.
Василию III было необходимо усилить думу своими сторонниками (хотя «кадры» Ивана III его противниками тоже не являлись). Для этого он пошел новаторским путем. Раньше между боярами и окольничими стояла стена, возвыситься до боярина окольничему было почти невозможно. В 1507 году Василий III дал боярство окольничему Г. Ф. Давыдову и в дальнейшем практиковал подобные назначения. Тем самым был намечен и утвержден карьерный путь, который в XVI веке станет обычным для многих представителей некняжеской знати, возвышенных до думных чинов: окольничество становится ступенькой на пути к высшему чину — боярству. Это вызвало симпатии к Василию III в московской высшей служилой среде.
Щедрая раздача должностей и постов — вообще испытанный метод для новоиспеченного начальника завоевать расположение элиты и ее благоволение. Настоящий бум пожалований в боярство и окольничество происходит в 1507–1509 годах, особенно ближе к последней дате. В списках упоминаются пять новых бояр (М. Ф. Телятевский, А. В. Ростовский, М. И. Булгаков, Ю. К. Сабуров, И. А. Челяднин) и девять новых окольничих (И. Г. Морозов, В. И. Ноздреватый, И. В. Хабар, А. В. Сабуров, П. В. Великий Шестунов, М. К. Беззубцев, Г. А. Мамон, В. В. Ромодановский, И. А. Жулебин)[58].
Это и были те люди, с которыми Василий III начал править Россией. Имена многих из них еще неоднократно встретятся на страницах этой книги.
Бояре и окольничие были советниками без определенных полномочий. Между тем немалые размеры, разнородная социальная и этническая структура, разнообразные задачи требовали наличия разветвленного аппарата управления бюрократического характера, который мог бы направлять и контролировать разные отрасли жизни страны.
По меньшей мере две подобные структуры Василий III унаследовал от эпохи Ивана III. Это система дворцов, сферой ответственности которой было прежде всего государево хозяйство: от непосредственного обеспечения быта великого князя и его семьи до управления принадлежавшими ему дворцовыми землями. Во главе системы стоял центральный Дворец (позже — Большой Дворец). Кроме того, существовала сеть региональных дворцов, которые управляли некогда независимыми землями, бывшими удельными княжествами, включенными в состав владений государя всея Руси: Новгородский дворец, Тверской дворец, Калужский дворец и т. д. Региональные дворцы могли создаваться на короткий срок, упраздняться, объединяться с другими и т. д., поэтому история этих учреждений известна нам весьма фрагментарно.
Дворецкие творили суд, занимались обменом и межеванием великокняжеских земель (то есть держали руку на рычаге земельных раздач), контролировали деятельность наместников и волостелей, которые получали земли в управление на принципах кормления.
Последний принцип весьма примечателен. Неплатежи зарплаты и коррупция на Руси были всегда. Власти понимали, что невозможно положить высокопоставленному сановнику такое жалованье, такую награду, чтобы он устоял перед соблазном запустить руку в государственную казну. Поэтому было решено, с одной стороны, жалованья не давать (все равно не угодишь), с другой — сделать поборы, которые чиновники собирали с населения, явлением официальным. Это и называлось кормлением — боярин или сын боярский получал назначение: принять в управление на какой-то срок определенную территорию. Он там представлял верховную власть, творил суд, собирал ополчение, контролировал сбор государственных податей и т. д. За это от государства он не получал ничего. Зато ему давалось право «кормиться» с подвластной территории, собирая в свою пользу дополнительные поборы и сборы. Их размер не регулировался, собирали «по силе», то есть сколько удастся выбить с населения.
Это было очень выгодным, получить кормления стремились все «бояре в широком смысле». Население жаловалось на произвол и беспредел кормленщиков, власти пытались контролировать их, но получалось плохо. Русские дворяне, которые в целом жили не слишком жирно (по сравнению с аристократами соседних стран), несли тяжелую обязанность государевой службы. Попав на пост, на котором можно было официально от имени государства поиметь с населения различные блага, они пускались во все тяжкие. Весь XVI век правительство будет думать, как ограничить кормления, ввести предельные сроки пребывания на них (чтобы не успели награбить слишком много), заменить на органы местного самоуправления — но другого способа вознаградить местного управленца, наместника или воеводу, просто не было. В XVII веке власти додумаются до того, что воеводское назначение можно было получить, только послужив в действующей армии, а еще лучше — получив ранение в ходе боевых действий. То есть право обирать население давалось как своеобразная награда за воинскую доблесть…
Но вернемся к дворцовой системе правления Василия III. Во дворцах служили лица, отвечавшие за ту или иную сторону жизни и деятельности государя. Конюший ведал государевыми конями (такой своеобразный «ответственный за транспорт» XVI века). Есть предположение, что первоначально конюший отвечал за сбор и материальное обеспечение дворянского поместного ополчения. Во всяком случае, это была очень высокая должность: конюший в XVI веке считался одним из главных лиц, исполнявших властные функции при отъезде государя из Москвы. Борис Годунов, знаменитый временщик конца XVI века, свой путь к трону начал с должности конюшего.
Возможно, при Василии III возникает чин оружничего (первое упоминание — 1511/12 год). Он ведал оружием монарха (как действующим, так и церемониальным, подарочным). Если конюший, по всей вероятности, надзирал за дворянским конным войском, то оружничий — за вооружением армии, организацией производства и ремонта вооружения, в том числе и огнестрельного (известно, что именно Пушечный двор в Москве был первой русской мануфактурой).
В компетенции постельничего была «постель», то есть спальня, личная частная великокняжеская канцелярия, обеспечение интимного быта монарха, и т. д. Особую группу составляли дворцовые чины, связанные с охотой, — ясельничие, сокольничие, ловчие и т. д. За столом государю прислуживали кравчие, чашничие, стряпчие, стольники. Названия данных чинов демонстрируют всю ментальную пропасть, которая зияла между русскими и европейскими дворянами. Для европейца прислуживать за столом, пусть даже более высокопоставленному лицу, — стыд, позор, бесчестье. Для московских дворян — карьера, великая честь, достойная служба…
Время появления тех или иных дворцовых чинов устанавливается не без затруднений. Понятно, что большинство из них своими корнями уходят еще в удельную эпоху. Однако разветвленная и стабильная система чинов дворца, видимо, формируется как раз в конце правления Ивана III и расцветает при Василии III.
Другим центральным государственным ведомством была Казна. Так называлась инстанция, ведавшая государевыми финансами, налогами и сборами, а также южным, татарским направлением внешней политики страны (в силу того, что оно традиционно больше других было связано с денежными выплатами — от дани-«выхода» в Орду до обильных подарков и взяток царькам, правившим ханствами — «обломками» некогда великой Орды в XV–XVI веках). Казначеи также ведали государственным архивом. Помощником казначея был печатник, отвечавший за государственную печать и, следовательно, за весь документооборот бумаг, на которых эта печать ставилась.
При этих ведомствах — дворцах и Казне — был довольно большой штат дьяков и подьячих — канцеляристов, ведавших оформлением бумаг, а также исполнявших особые поручения бояр. Это называлось — «быть у боярина имярек в приказе», то есть выполнять его распоряжения, приказы. Последнее слово породило большую путаницу. Дело в том, что бюрократические органы управления по отраслям и территориям — знаменитые приказы Московской Руси — в источниках фиксируются не ранее середины XVI века, а окончательно они оформились только в 1560–1570-е годы, во времена опричнины. При Василии III и тем более Иване III приказы как учреждения не упоминаются.
Однако особой профессиональной болезнью историков является патологическое желание все «удревнять». Почему-то принято думать, что «чем древнее, тем более гордо звучит». И приказы стали искать во временах Василия III и даже Ивана III! Трудно представить, что если бы приказная система действительно стала основой управления страной в те годы, она не оставила бы ни одного упоминания ни в одном деловом документе того времени! Это все равно, как если бы в наши дни — представим на минутку — из всех деловых бумаг, приходящих в регионы из федерального Центра, вдруг исчезли бы и прямые упоминания, и косвенные следы министерств, федеральных агентств и т. д. И в XXIV веке историки бы гадали, как же управлялась Россия в начале XXI столетия — имена президентов и премьеров известны, а вот через какие властные структуры они проводили в жизнь свои распоряжения?
Единственный более-менее весомый аргумент в пользу поиска приказов в конце XV — начале XVI века заключается в том, что именно в эти годы складываются принципы и основы дьяческого делопроизводства Московской Руси, известного как приказное делопроизводство[59]. Они сохранялись в почти неизменном виде на протяжении XV–XVII веков. И здесь возможна такая логика: если во второй половине XVI и в XVII веке в приказах использовался особый тип документов — то надо определить, когда появляются такие документы, и это будет указывать на время образования приказов.
В этом рассуждении есть существенный изъян: принципы делопроизводства были едины для всех органов управления, от Боярской думы до приказов. Речь должна идти прежде всего о дьяческом, а только потом уже приказном делопроизводстве. А дьяки при княжеском аппарате власти занимали соответствующие позиции уже с конца XIV века. В XV — начале XVI века их немалый штат был как раз при Дворце и Казне. Именно из этих дьяческих кадров, носителей культуры дворцовой системы, в середине — второй половине XVI века формируется аппарат приказов.
Сколько документов производил этот аппарат? Современного читателя размеры делопроизводства поразят своей мизерабельностью. В России начала XVI века, по подсчетам С. М. Каштанова, центральный аппарат в среднем выдавал не более ста актов в год. В той же Франции в первой половине XVI века в день выдавалось больше документов, чем в государстве Василия III за год! Французская королевская канцелярия в день выдавала до 150 документов и в год — до 60 тысяч. Это было прямо связано с мизерным количеством бюрократических кадров: по подсчетам А. А. Зимина, за все время правления Василия III известен 121 дьяк. Во Франции же в 1515 году в королевской канцелярии служили четыре тысячи чиновников, а к 1573 году их стало 20 тысяч![60] Комментарии, как говорится, излишни.
Низкий уровень делопроизводства был обусловлен общей деловой культурой. В России была слабо развита феодальная земельная собственность. Преобладала не собственность, а владение, то есть временное земельное держание, полученное за службу. Если человек получал его за конкретную службу на определенный срок — это называлось поместьем, если же земля давалась за службу представителям рода, фамилии на неопределенный срок и переходила по наследству — вотчиной. На практике, конечно, все было сложнее. И вотчины отнимались через короткий срок, и поместья фактически переходили от одного представителя рода к другому — служили-то все. Но в любом случае это была не собственность: вплоть до 1785 года(!) в России не существовало закона, охранявшего право собственности. Государство в любую секунду могло на совершенно законных основаниях конфисковать земли в свою пользу. Лишь в 1785 году в «Жалованной грамоте дворянству» Екатерины II будет сказано, что дворянская земельная собственность священна и может быть отнята только по решению суда, если дворянин совершил преступление против государства.
А раз так — то отношение к документам о земельных правах было соответствующим. Именно право собственности порождает большие бюрократические процессы и комплексы документов вокруг объектов собственности. Так было в Европе. В России же социально-правовая почва оказывалась иной. В условиях, когда все решает государева воля, в большом количестве документов просто не было нужды.
Можно ли говорить о дворянстве эпохи Василия III как о сословии? Принять это определение мешает то, что в начале XVI века в России не существовало выработанных юридических норм, законов, которые бы закрепляли сословные права и привилегии разных групп знати. Отдельные законодательные акты такого рода будут издаваться властью в течение всего XVI века, но юридическое оформление дворянства как сословия последует только в 1649 году, в знаменитом Соборном Уложении царя Алексея Михайловича.
Особенностью русского дворянства в эпоху Василия III было то, что сословность определялась принадлежностью к определенной семье, роду (что фиксировалось в специальных документах — родословных росписях), а также к служилой корпорации (что отражалось в различной документации — росписи воинских назначений — разрядах, списках служилых людей — боярских книгах, и т. д.). Однако при этом не существовало законов и правил установления дворянства, доказательств дворянского происхождения (эта процедура и перечень необходимых документов будут выработаны только во второй половине XVII века)[61]. То есть как полноценное сословие образца Нового времени русское дворянство при Василии III еще не состоялось.
Тем не менее в конце XV–XVI веке, при Иване III и Василии III, начинает формироваться сословно-корпоративное самосознание дворянства. Оно расценивало себя как сообщество воинов на службе государя. В силу этого феодалы имели право владеть холопами и собирать подати с крестьян и горожан, функция которых — обеспечивать нелегкий ратный труд «воинников». Помещики считали, что любой труд, кроме ратного или иной государевой службы (судебной, дипломатической и т. д.), — не для них. Экономикой и предпринимательством русское дворянство не интересовалось.
Принципиальное отличие самосознания русской и европейской знати было в том, что на Западе аристократы видели себя прежде всего независимыми земельными собственниками, а на Руси — «государевыми слугами». Тем самым феодалитет Московского государства обладал так называемым «службистским менталитетом». Смысл своего существования он видел только в исполнении воли монарха, в государевой службе. При этом главным правом и привилегией отечественной аристократии было «свои головы за государево имя класть». О других она и не помышляла… Если среди европейцев все большее распространение в XVI веке получает военное наемничество, «продажа шпаги», то на Руси это презиралось: убивать и умирать можно за государя и веру, но не за деньги. Если на Западе в XVI–XVII веках получают распространение дуэли как способ защиты личной чести и своеобразная инициация дворянина, атрибут его поведения, то в России дуэль расценивалась как зряшное, пустое убийство. Сражаться можно и нужно на войне, а друг с другом — это грех, драка, свара, но не честь.
Как у нормальных феодалов, главным признаком, отличавшим их от другого населения, было владение землей. Об ограничениях прав собственности, многочисленных условиях, которыми было обременено землевладение, уже говорилось. Тем не менее на практике все было не так страшно: то, что государство в любую секунду могло конфисковать вотчины и поместья, вовсе не значит, что оно постоянно это делало. Землевладение было более-менее стабильным — насколько оно в принципе могло быть стабильным в России, с нередкими превратностями дворянской судьбы. Способы приобретения земли были различны: пожалование от государя, покупка, обмен, дарение. Такие сделки нередко бывали устными и документально оформлялись уже задним числом, когда возникали спорные вопросы. Есть основания полагать, что долгое время землевладение внутри одной семьи было, можно сказать, почти что нераздельным: нередки случаи очень значительной взаимопомощи внутри дворянских фамилий[62]. Все это, опять-таки, затрудняло превращение института земельного владения в частную собственность образца нового времени.
Структура сословия феодалов в XV — первой половине XVI века была следующей:
• удельная княжеская знать — в рамках своих уделов она обладала определенным суверенитетом. Князья имели свою боярскую думу, свой двор, своих наместников в удельных городах. Однако аристократы были должны в своих вотчинах соблюдать общерусские законы, пользоваться единой монетной системой, участвовать в общегосударственных военных акциях. Права вести самостоятельную внешнюю политику князья были лишены;
• служилые князья («слуги») — князья пограничных земель, добровольно перешедшие в конце XV — начале XVI века в государство Ивана III и Василия III со своими уделами (князья Стародубские, Одоевские, Белевские, Воротынские и др.). Их прерогативы в вотчинах были меньше, чем у удельной знати. В случае отъезда к другому государю их земли конфисковывались в пользу короны. Долгое время слуг не включали в состав московской Боярской думы (только в 1530 году в нее первым вошел Д. Ф. Бельский);
• старомосковское боярство — неродовитая аристократия, достигшая своего высокого статуса благодаря службе московским великим князьям. Как правило, ее представители занимали воеводские должности, управленческие посты (дворецких, наместников) или были членами Боярской думы. В своем большинстве они были богатыми вотчинниками;
• служилое дворянство («дворяне» или «дети боярские») — основная масса средних и мелких феодалов. С конца XV века представители дворянских фамилий из верхних слоев были объединены в корпорацию, называвшуюся Государев двор. В него входили все думные чины (бояре и окольничие), представители правящего аппарата (дворецкие, казначеи и др.), дворяне московские, с определенного времени — выборные дворяне из регионов (городов и уездов, отбиравшиеся по территориально-родовому принципу). Именно двор был главным кадровым фондом для назначений на различные государственные службы и формирования аппарата управления в уездах, городах, регионах. В своем большинстве дворяне держали поместья, но постепенно обзаводились и вотчинами. Дети боярские составляли ядро русского войска — поместную конницу.
Таким образом, мы видим внутри феодальной корпорации определенную иерархию. Отношения в ней определялись принципом местничества. Положение представителей рода на служебной лестнице определялось карьерными высотами, которых достигли предки. Сын не мог допустить, чтобы его поставили на должность меньшую, чем занимали отец и дед (по сравнению с другими аристократами). Это было бы «порухой чести», и ладно бы только для обладателя слаборазвитого карьерного инстинкта, но и для всей фамилии — целый род мог быть отброшен назад в местнической иерархии. Поэтому дворяне и бояре шли на крайности, вплоть до риска собственной жизни, угрозы казни — лишь бы не допустить «порухи чести».
Мы мало знаем о ранней истории местничества, к которой относится эпоха Василия III. Первое дошедшее до нас подлинное местническое дело относится только к 1534 году, когда князь А. И. Стригин Оболенский отказался ехать в составе посольства в Крым, сочтя назначение «невместным»[63]. О более ранних случаях местничества есть только упоминания, без особых подробностей. Поэтому ученые спорят о сущности и особенностях местничества. Некоторые считают, что местничество было своеобразной формой ограничения власти монарха — мол, он во всем самовластен, а вот в служебных назначениях не мог своевольничать, а считался с обычаями и мнением знати и не мог переломить ее упрямство. Местничество было как бы формой самозащиты служилой знати от произвола сверху. В процессе этого героического сопротивления русские аристократы мужали и превращались в настоящий правящий класс.
Другие ученые видят в местничестве просто атавизм, гипертрофированное чувство принадлежности к роду, недобитый пережиток удельной эпохи. По выражению американского историка Р. Крамми, местничество было психологической компенсацией аристократии за новую для них обязанность пожизненной службы Московскому государству.
Наиболее экзотической выглядит концепция французского историка Андре Береловича. Он считал, что русские в течение всей своей истории страдали от обширности, бесконечности окружающего их мира — были ушиблены «огромным и пустынным» российским пространством. Поэтому они все время пытались упорядочить мир, внести в него некую иерархическую систему. По мнению Береловича, только мировосприятие человека, считавшего себя частью какой-то системы и иерархии, позволяло ему чувствовать себя в России уютно, как-то освоить бескрайнюю русскую ширь. Местничество и было одной из таких искусственных иерархий. Знать придумала себе особое богатство и смысл существования — «коллективный капитал престижа» дворянского рода, состоявший из заслуг как живых, так и умерших представителей дворянского клана. Прирастить этот капитал можно было только государевой службой, а она-то и носила иерархичный характер.
На все это заметим, что концепция Береловича, несомненно, очень интересна с позиций ученого XX века. Но вряд ли дети боярские времен Василия III могли бы воспроизвести подобное рассуждение для объяснения, почему они местничаются. Если поверить Береловичу, остается только предположить, что они сами не ведали, что творили — и так почти 200 лет, вплоть до ликвидации местничества в 1682 году…
Оставив высокие научные гипотезы, просто опишем, как выглядел местнический порядок. При назначении на ту или иную должность служилый человек получал грамоту об этом назначении — так называемые «списки». Грамота не носила персонального характера, это был документ о назначении всех должностных лиц, связанных с данной акцией (списки воеводских назначений в полки в планируемом походе, списки посольства и т. д.). Чаще всего это была выписка из разрядных книг (особых книг, содержавших перечни служебных назначений, которые составлялись в специальном ведомстве — Разряде, с середины XVI века — Разрядном приказе). Дворянин, таким образом, сразу же мог оценить, «выше» и «ниже» представителей каких родов он оказался и соответствует ли это положению его рода, нет ли «порухи чести». Среди воеводских назначений была своя иерархия. Выше всех стоял первый воевода большого полка. Второй воевода большого полка в местнической иерархии был равен первому воеводе полка правой руки или передового полка (в разных разрядах последовательность разная, и полку правой руки иной раз бывал равен передовой полк, а иногда их располагали последовательно). Воеводы сторожевого полка считались следующими по значению, но всячески пытались оспорить это положение, тем более что в походах передовой и сторожевой полки часто сливались. Ниже всех находились воеводы полка левой руки.
Если новоиспеченного воеводу устраивало назначение, он «брал списки» и отправлялся на войну. Если же нет — вот тут и начиналось самое интересное для дворян и самое неприятное для властей. Сын боярский не брал списков с назначением, отказывался исполнять порученную службу и просил возбудить дело и пересмотреть решение — «меньше такого-то мне быть невместно». Власти подобные иски терпеть не могли, называли «дурованием», но были вынуждены «давать счет», то есть рассматривать аргументы сторон, почему они не могут принять данного назначения (в основном это были перечисления служб предков, кто и когда был кого «больше»).
У нас нет подробных данных для эпохи Василия III, но нет оснований считать, что она чем-то принципиально отличалась от более позднего времени. По подсчетам американского историка Н. Коллманн, из 1076 местнических дел XVI–XVII веков истцы выиграли всего 14. Жалкий один процент! То есть государь практически никогда не менял решений. Лишь в 24 процентах случаев — и это, видимо, надо считать победой истца — объявлялось безместье или проблемы спорщиков решались как-то иначе (обещанием властей решить дело после службы, переподчинением истца непосредственно первому воеводе, отставкой, новыми назначениями и т. д.)[64]. Истец при этом нередко страдал лично, отставки сопровождались опалами, но зато он не допускал создания прецедента. Назначение на должность, влекущее «поруху чести» для всего рода, не состоялось — это было главным. До личной ли судьбы тут…
Но столь ничтожное количество победителей создает впечатление, что это была какая-то социальная игра с заранее известным сценарием и результатом. Неужели люди в здравом уме будут надеяться на шансы 1 к 99 и в течение двухсот лет с упорством, достойным лучшего применения, требовать «дать суд» в ситуациях, когда проигрыш суда был почти очевиден? Вероятнее, о местнических проблемах было важнее заявить, продекларировать их, зафиксировать свой протест, чем реально добиться перемены дела.
Власти, как уже говорилось, относились к местничающим дворянам без симпатии. Взыгравшие амбиции отдельных сановных индивидуумов могли спутать все карты, сорвать воинский поход (раз воеводы отказываются «брать списки», то кто будет командовать войском?). Поэтому довольно рано, как раз в конце правления Ивана III и при Василии III, возникает практика назначений «без мест». В отдельных случаях, когда возиться со взыгравшей воеводской гордыней было совсем неуместно и некогда, поход объявлялся «без мест», то есть данные служебные назначения делались без учета иерархии родов и в дальнейшем не считались в будущих местнических спорах как прецеденты. Первый известный нам поход «без мест» датируется 1495 годом (поход русской армии под Выборг). А первое употребление термина «безместно» датируется уже временем Василия III, 1506 годом, при назначениях в поход под Казань. Хотя основное развитие «безместные» назначения получили начиная с 1530-х годов.
Последний вопрос, который необходимо затронуть, — о количестве русской знати. Эта проблема непосредственно связана с оценками численности русского войска в начале XVI века (ядром которого была дворянская конница) и, соответственно, с определением военного потенциала России.
В трудах историков можно встретить разные цифры размеров дворянской конницы — от 50 до 300 тысяч. Большие цифры являются плодом фантазии современников, в основном европейских, изображавших русских как огромную дикую орду, берущую не воинским мастерством, а количеством. Они разоблачаются очень просто: даже если принять численность поместного войска в 75 тысяч человек, при этом считать, что детей боярских было 25 тысяч, а 50 тысяч — боевых холопов-послужильцев, которые должны были выставляться с каждых ста четей поместья, то в итоге получается семь с половиной миллионов четей — такого размера помещичьих хозяйств Россия, по словам историка А. Н. Лобина, попросту не имела. Гораздо более реальными выглядят оценки размеров русской армии в первой трети XVI века в 40–50 тысяч, при этом остается дискуссионным вопрос, сколько в этих тысячах было собственно дворян, а сколько — боевых холопов. Наиболее вероятно соотношение 1:1, то есть количество служивших в вооруженных силах дворян должно оцениваться в 20–25 тысяч человек. Эти люди (не считая молодых недорослей, старых и увечных, детей, женщин) и составляли при Василии III основу русского дворянства как социальной силы.
Сельских жителей с XV века все чаще именуют просто: «крестьяне», то есть «христиане». Это были просто «люди», «христианские люди», та паства из простолюдинов, о которой для ее идентификации можно сказать только то, что она поклоняется Христу. Увы, русское крестьянство этого времени абсолютно безлико. Крестьяне не оставили после себя никаких текстов, по которым можно было бы восстановить мир их личностей — да и был ли он, этот мир?
Считается, что средневековье не знало личностей. Даже наоборот — для русского крестьянства эпохи Василия III вполне приложимы слова французского историка Ж. Ле Гоффа, сказанные им о средневековом европейском обществе. Он писал, что оно было едино и боролось со всем, что может покуситься на это единство. Индивид растворялся в общности, главной из которых и было осознание себя как «христиан», как части «христианского мира». Недаром гордыня, индивидуализм являлись самыми страшными грехами. Люди верили, что спасение может быть достигнуто лишь в группе и через группу, а самолюбие есть грех и погибель. Ни в летописях, ни в житиях, ни на иконах не изображались частные свойства человека. Были физические и социальные типы, но не индивиды. Личность, по выражению Ле Гоффа, погребалась под «грудой общих мест»[65].
Крестьяне на Руси были: черносошные, жившие на государственных землях и несшие повинности в пользу великого князя (тягло), и владельческие, сидевшие на землях феодала, платившие ему оброк и несшие барщину. Последние, в свою очередь, разделялись на светских и монастырских, старожильцев, новоприходцев, наймитов, закупов, половников, третников и т. д. В их отношении действовала норма Судебника 1497 года о Юрьевом дне. В определенное время года — за неделю до и неделю после 26 ноября, «Юрьева дня осеннего», — сельские жители могли перейти от одного хозяина к другому, заплатив своему былому господину компенсацию — пожилое. Платеж не был неподъемным: в самых критических случаях он примерно равнялся годовому доходу крестьянского хозяйства. За несколько лет его вполне можно было накопить и обрести свободу перемены мест. Ограничение перехода только в Юрьев день являлось мерой не столько закрепостительной, сколько упорядочивавшей время переходов. Оно приходилось на конец сельскохозяйственного года, то есть когда урожай убран, налоги уплачены и т. д. Это была мера, страховавшая владельца от того, что он посреди весны или лета не оказался бы без работников, вздумавших искать лучшей доли, не более того.
Крестьяне жили в различных типах поселений:
• села — 20–30 дворов, центр церковного прихода. Как правило, село было центром вотчины;
• слобода — поселение крестьян, призванных на льготных условиях из других земель;
• деревня — 3–5 дворов. Название происходит от слова «дерть» — целина. Деревни обычно возникали в результате перехода крестьян на новые земли. Деревень среди типов поселений было большинство. Важно подчеркнуть, что деревня представляла собой самодостаточный хозяйственно-жилой комплекс, воспринимаемый как таковой и визуально (дворы, стоящие вместе). От села и слободы деревня отличалась сугубо сельскохозяйственной направленностью (а те могли быть и ремесленными, и торговыми), а от починка — большим размером, большим хозяйственным ареалом и устойчивостью[66];
• починок — 1–3 двора. Термин возник от слова «почну» — начать. Это маленькое поселение на свежевозделанной земле;
• пустоши, селища, печища — запустевшие, брошенные поселения. Они различались по степени опустошенности. Земля пустошей еще вносилась в земельные переписи как пригодная для сельскохозяйственного использования, а печище считалось совсем погибшим — от него оставались только сгоревшие остовы печей.
В центре России плотность расположения населенных пунктов была такова, что, по образному выражению современников, из одной деревни в другую можно было докричаться. Расстояние между ними составляло один — два километра. Для фиксации земель с конца XV века проводились их переписи — кадастры.
В жизни русских сел и деревень была велика роль общины как социальной организации. Она контролировала землепользование и распределение угодий (то есть пастбищ, лугов, лесов, водопоя). Общинная верхушка выступала посредниками между крестьянами и господской администрацией, ведала распределением повинностей между односельчанами «по их силе».
Полностью зависимым населением были холопы. К концу XV века сфера их деятельности расширяется. Они могли быть домашней прислугой (челядью), работать при дворе феодала (дворовые, дворня), обрабатывать барскую пашню (страдники), управлять разными отраслями хозяйства («приказные люди» — тиуны, ключники), вместе с господином ходить в походы (боевые холопы). Сроки похолопления были разными. Одни служили пожизненно, другие получали свободу после смерти хозяина, третьи отрабатывали «ряд» (договор), заключенный на какое-то время.
Из систем земледелия продолжали существовать перелог (поле засевается несколько лет подряд, затем отдыхает, потом снова распахивается и т. д.) и так называемая «пашня наездом» (крестьяне находят новую территорию, распахивают, потом приезжают для сбора урожая и затем забрасывают эту землю). Однако наиболее распространенным было трехполье, которое усовершенствовали так называемым ротационным циклом (участок делился на шесть полей, в которых и происходила последовательная смена культур).
Всего сеяли около тридцати разных видов растений. В сельском хозяйстве в конце XV–XVI веке увеличился объем посевов гречихи и технических культур, зато уменьшилась доля пшеницы, ячменя, проса. Наиболее распространенной являлась комбинация из ржи (озимые) и овса (яровые).
В скотоводстве на одно крестьянское хозяйство в среднем приходилось: одна-две лошади и одна-две коровы. Кроме того, держали мелкий скот (овец, коз), домашнюю птицу. Из-за прожорливости свиней их разведение было развито слабо.
В хозяйстве крестьян огромную роль играли промыслы, составлявшие в совокупном доходе двора до 20 процентов. Из них в первую очередь стоит отметить рыболовство (в том числе в специально вырытых и зарыбленных прудах), бортничество, изготовление деревянной и глиняной посуды, смолокурение, железоделание и т. д.
С крестьянского хозяйства взимались значительные налоги и повинности, которые составляли главный источник государственных доходов. Повинности делились на «государево тягло» и оброк, барщину, назначаемые помещиками. В тягло входили государственные повинности: посошная (крестьян набирали в своеобразные отряды «чернорабочих войны» — посоху — для уборки трупов, строительства укреплений и т. д.), ямская (предоставление подвод для государственных нужд), тамга (сбор пошлин с клеймения коней), постройная (участие в строительных работах), «пищальные деньги» (сборы на огнестрельное оружие), устройство рыбных прудов для государя. Владельческий оброк делился на издолье (взимался зерном, отдавался каждый четвертый или пятый сноп) и посп (всеми остальными продуктами). Также вносили денежные платежи.
В XV веке налоги платили «по силе», то есть кто сколько сможет. После составления писцовых книг (описаний земель) в конце XV–XVI веке (этот процесс был долгим и непростым) начали платить «по книгам». Единицей налогообложения выступали земельные площади. Они назывались на черносошных землях сохами, а во владельческих селах — вытями. Их размер различался по регионам. Барщина на Руси была развита слабо. Господские земли обрабатывали большей частью не крестьяне, а пашенные холопы.
Всего по различным повинностям крестьяне в XV — начале XVI века отдавали 20–30 процентов годового дохода. То есть налогообложение было весьма терпимым. Это позволило, по выражению историка В. Д. Назарова, селянам «поднакопить жирок», который потом сгонит с них сын Василия III, Иван Грозный. XV и начало XVI века исследователи нередко называют «золотым веком» русского крестьянства. Оно было лично свободным и имело возможность неплохо существовать за счет своего хозяйства. Хотя, наряду с зажиточными и середняками, конечно, были и разорившиеся. Философ первой половины XVI века Максим Грек так описывал жизнь бедняков: несчастные «только ржаной хлеб ели, даже без соли от последней нищеты».
Надо подчеркнуть, что русский город в XVI веке имел слабый урбанистический облик. Для него характерно наличие садов, огородов, даже пашен, выгонов скота, сельскохозяйственных угодий, заросших лесами берегов рек, озер, прудов и т. д. Уместно вспомнить название одной из центральных улиц Москвы — Остоженки: здесь, буквально в километре от Кремля, были сенокос, пастбище и стояли стога! Выражение «Москва — большая деревня», в наши дни употребляемое с уничижительным подтекстом, на самом деле исторически глубоко достоверно: Воздвиженка, Воробьево, Чертаново, Митино и т. д. — это все бывшие деревни, «сползшиеся» в единый город и постепенно поглощенные «большой деревней» Москвой.
Означает ли это, что в городском строительстве не было системы, что городская застройка воспроизводила в иных масштабах принципы деревенской? Вплоть до середины XVII века нет документов, фиксировавших нормы и правила городского строительства. В то же время есть свидетельства, что при застройке улицы по государевым грамотам специально «розмерялись» (например, в Новгороде в 1531 году).
Исследователи предполагают, что зодчим Московской Руси был известен закон, по которому при строительстве необходимо было соблюдать между домами «прозоры» на природу и памятные ориентиры (главным образом, храмы). То есть окна одной улицы должны были смотреть между домами другой. При этом планировка вписывалась в природный ландшафт, а церкви и монастыри ставились как архитектурные и планировочные доминанты. Нельзя было закрывать соседу вид на чтимые общественные сооружения. Сознательно создавались видовые точки на наиболее красивые панорамы. Сам город получался прозрачным, визуально просторным. Данная традиция восходила к глубокой древности, к византийским архитектурным школам, что неудивительно, если учесть, что первыми профессиональными архитекторами на Руси были именно греки[67].
Для русских городов не характерна теснота европейских. Это было во многом связано с тем, что западный город развивался внутри укрепленных стен и мог расти либо вверх, либо — за счет «уплотнительной застройки». Для борьбы с ней бюргерами применялся специальный всадник с копьем, положенным поперек седла. Он объезжал улицы, и если копье задевало стену — дом подлежал перестройке. В русских городах нужды в таких радикальных мерах не было, крепость составляла ядро поселения, а собственно городские районы — посад — росли вокруг него и не были ограничены в территориях.
Воздух русского города не делал человека свободным, как это было в Европе. Именно по облику городов Московской Руси наиболее отчетливо видно, насколько в XVI веке Россия была далека от Европы. Как известно, восточные границы Европы как цивилизации весьма размыты. Одни склонны проводить их по Одеру, отказывая в «европейскости» даже Польше, Литве, Украине. Другие же распространяют их до Урала, уверенно включая туда Россию. Более правильными, наверное, являются не географические, а культурные критерии. Одним из них считается так называемое магдебургское право — комплекс юридических норм, гарантирующих права горожан и их свободное самоуправление. Там, где в средние века и раннее новое время было магдебургское право, — была и Европа. А где ареал его распространения заканчивается, Европа заканчивалась тоже. В Восточной Европе эта линия проходит по городам Великого княжества Литовского: линия Полоцк — Орша — Гомель — Киев. Восточнее магдебургского права не было, и города Московской Руси сильно отличались от европейских — и по функциям, и по облику, и по социально-экономическому строю.
В первой трети XVI века в России насчитывалось около 160 городов. Их особенностью было развитое зонирование. В центре располагалась крепость (кремль), снаружи у ее стен был торг (структура европейского города иная: в центре рыночная площадь, ратуша, дома богатых горожан, и все это окружено крепостными стенами). В русской же крепости располагались административные здания (дом воеводы), храмы, склады и так называемые осадные дворы — пустые помещения, которые ставились внутри крепостных стен. В мирное время в них жили только особые люди — дворники, а при осаде здесь укрывались горожане с семьями и имуществом. Дворники — работники, обязанностью которых было сохранять чужие дворы на время отсутствия хозяина.
Собственно жилой дом с хозяйственными постройками, стоявший на посаде, во время масштабной осады города часто погибал. Посад нередко сжигали сами жители — чтобы у супостата не было возможности укрываться за строениями и ему нельзя было бы найти стройматериалы для постройки осадных укреплений, орудий и т. д. Эта печать судьбы накладывала серьезный отпечаток на менталитет русского горожанина — сколько раз за свою жизнь ему приходилось начинать все сначала и при этом благодарить Бога, что в осадном дворе спаслась семья, прихватив с собой самое необходимое барахлишко!
Отсюда, видимо, и особое отношение у русского народа к власти, к государству: любили ту власть, которая сумеет отвести беду, не допустить иноземного супостата до внутренних русских городов. И если она, власть, оказывалась способной на такое — все остальное ей прощалось. Этот ментальный синдром появился еще в средневековой Руси с ее мироощущением «осажденной крепости» и жизни «в кольце врагов». К XVI веку он окреп и стал важным элементом народной психологии. В нем парадоксально сочеталась щемящая душу мечта «лишь бы не было войны» с постоянной готовностью к этой войне, готовностью все потерять и погибнуть самому. И любой правитель, пусть самый кровавый тиран, спасавший от этого царившего в душах ужаса, побеждавший и прогонявший врагов, получал от народа духовную индульгенцию практически на любые деяния. Эта черта народной психологии знакома нам и по XIX веку, и по любви к Иосифу Сталину в XX («войну выиграл»)…
Посады тоже имели свою структуру. Если у маленьких городов они состояли из 100–200 дворов, стоявших весьма произвольно, то в крупных делились на слободы (территории, свободные от налогообложения, городского тягла, принадлежавшие монастырям или государевым служилым людям: городовым казакам, пушкарям и т. д.) и концы (территориально-обособленные районы посадского населения, «черных людей» (то есть несущих тягло), со своей общинной организацией). Концы, в свою очередь, дробились на улицы и сотни. Главной здесь была община соседей по стоявшим рядом домам, соседство: «живут на суседстве, и пьют и едят вместе». Горожан называли городчане, они делились на несколько категорий. Оброчные (тяглые) делились по материальному достатку на лучших и молодших. Владельцы частных земель назывались своеземцы.
«Суседи» вместе строили приходские храмы, общие бани, имели общие для нескольких посадских дворов осадные дворы внутри крепости, видимо, помогали друг другу при налогообложении или в голодное время. Это были настоящие неофициальные корпорации горожан, в которых понятия «сообща», «единство», «взаимовыручка» не были пустым звуком. Иначе было не выжить, не построить дом после разорительного татарского набега, не накормить в бескормицу голодных детей, не обустроить, в конце концов, по-христиански собственный быт.
Сколько народу жило в городах? Мы не имеем точных сведений о количестве населения и можем его рассчитать весьма приблизительно. По подсчетам ученых, в городах на тысячу мужчин приходилось 1633 женщины и 633 ребенка[68], при этом в ста дворах в среднем жило 120–180 мужчин и 190–280 женщин. Считается, что всего в городах жило до 300–350 тысяч человек. Крупнейшим центром являлась Москва (около 100 тысяч жителей), вторым по величине — Великий Новгород (около 26 тысяч)[69].
Города, как правило, управлялись княжескими наместниками или воеводами, которые пользовались уже упоминавшейся системой кормлений. Лишь при Василии III появляются первые известные нам выборные должностные лица — городовые приказчики (известны с 1511 года), исполнявшие функции военных комендантов. Обманываться словом «выборные» не стоит. «Выбор» того времени — когда собиралась группа людей (те же «суседи») и подавала за своими подписями воеводе челобитную, что они «выбрали» такого-то посадского человека на такую-то должность. Никакого пропорционального представительства от всех горожан, никаких правил всеобщего волеизъявления не существовало. Бывало, что воевода получал несколько таких челобитных от разных групп посадских и тогда отдавал предпочтение той, которая была более «весома»: которую подписало больше народу, более авторитетные горожане и т. д.
В городах, помимо посадских, жили служилые люди по прибору — особая категория горожан, служивших в местном гарнизоне пушкарями, воротниками, пищальниками и т. д. Они получали государево жалованье хлебом или деньгами. Но поскольку неплатежи на Руси были всегда, большинство из них все равно держали землю или лавки на посаде — и, как говорится, тем и были живы.
Основными занятиями посадских были, как и полагается горожанам, ремесло и торговля. Мастера объединялись в артели, дружины или «братчины». Как правило, их члены жили на одной улице или городском конце. Они имели свои приходские церкви и обладали особыми судебными привилегиями. В XVI веке все больше распространяется купеческая специализация. Она существовала двух видов: географическая (торговля с определенными странами: например, «сурожане» торговали с крымским городом Судак) и товарная (распространение особой продукции: например, «суконники» — торговцы сукном). Купцы объединялись в свои корпорации — «сотни», имели свои храмы. Они обладали в суде особыми правами. Звание богатого торговца с заграницей («гостя») стало наследственным. В начале XVI века купцы начинают играть большую роль в городской жизни. Именно тогда складываются первые крупные купеческие династии: Сырковы, Хозниковы, Таракановы, Строгановы.
Направление и состав грузопотоков в русской торговле в начале XVI века были традиционными. На восток — в Казань, Астрахань, Турцию вывозились продукты промыслов (пушнина, мед, воск) и изделия ремесла (конская упряжь, предметы быта, оружие, одежда). С востока на Русь ввозились ткани (хлопчатобумажные и шелковые), пряности, скот. На западе основными партнерами были Литва и Польша (доля Руси в торговом обороте этих стран достигала 30–50 процентов), Германия, Ливонский орден. Из России везли меха, пеньку, лен, воск, мед, кожу, то есть сырье. Из Европы импортировали изделия ремесла, а также металлы — свинец, олово, медь, серебро.
После обретения в 1448 году автокефалии (самостоятельности) от Константинопольского патриархата во главе Русской церкви стоял митрополит, резиденция которого располагалась в Москве. Ему подчинялось девять православных епархий — Новгородская, Вологодская, Рязанская, Тверская, Ростовская, Коломенская и др. Главы епархий, архимандриты и игумены крупнейших монастырей, вместе составляли Освященный собор, который созывался время от времени для решения важнейших вопросов. Великий князь нередко принимал участие в работе собора.
Поскольку независимость от Константинополя была установлена совсем недавно, в 1448 году, патриархат не мог с этим столь легко смириться. Отношения были испорчены и восстановлены только при Василии III, в 1515 году. В марте 1518-го — сентябре 1519 года в Москве побывало большое посольство: митрополит Зихны Григорий, патриарший диакон Дионисий, проигумен Пантелеймонова монастыря Савва и монахи афонских монастырей. Патриарх Феолипт в своем послании от июля 1516 года, которое привезла делегация, пытался восстановить прежние отношения церквей: называл Константинопольский патриархат «сущей матерью всех православных христиан», а русского митрополита Варлаама — одним из «ближних детей» этой матери, то есть подчиненным.
Эта позиция делегации на Руси была подвергнута обструкции. Митрополит Варлаам благословил гостей «через порог», торжественной встречи им не было. Написанное столь свысока благословение патриарха просто не приняли. Никаких отношений с Константинопольским патриархатом, кроме равноправных, Василий III и русская митрополия устанавливать не собирались. Восточная православная церковь сильно зависела от Москвы материально (присылаемые из России деньги и «рухлядь» составляли существенную часть бюджета Святой Горы), поэтому Василий III имел все основания разговаривать с ее представителями как богатый ктитор, каковым он и являлся.
Историки часто произносят ритуальную фразу о том, что в средневековье церковь определяла все стороны жизни человека, а религия была основой его мировоззрения. Правда, смысл сказанного осознается не всегда. Современному человеку трудно вообразить, насколько пронизывали вера и религиозный символизм все стороны человеческого бытия. Православие организовывало ви?дение мира, потому что делило его на своих и чужих. Специфика России как единственного сильного независимого православного государства порождала мессианские умонастроения: мы единственные, кто правильно верит, в окружении «латинян», «поганых» и мусульман (на подходе были еще и протестанты-«люторы»). И это в контексте эсхатологических ожиданий, близости Конца света, Второго пришествия Христа и Страшного суда!
Отсюда зародилось то пронзительное самоощущение высочайшей ответственности перед Богом и миром за судьбы людей, которое красной нитью будет проходить через всю русскую историю. Отсюда и автократия властей (и симпатия населения к автократии — если на кону такие ставки, то во имя них все позволено!). Отсюда — и постоянная готовность русского человека к самопожертвованию во имя высших целей, к мобилизации, к сверхусилиям, которые, в свою очередь, порождали апатию и равнодушие в промежутках между сверхусилиями, поскольку люди элементарно надрывались, не могли постоянно пребывать в таком духовном и эмоциональном напряжении. Отсюда и высокая планка русской духовности с ее очевидным приматом над умением производить материальные блага и пользоваться ими.
Все вышесказанное, конечно, относится к духовной элите и интеллектуалам — религиозную жизнь народа мы знаем в высшей степени приблизительно. Судя по несистематичным и фрагментарным сведениям, простонародье, как и везде в средние века, благочестием не отличалось — иначе в XVI веке не было бы столько церковных текстов против распутства (вплоть до скотоложества и гомосексуализма, «содомии»), проповедей против пьянства, обличений языческих обычаев и обрядов. За более поздние эпохи, когда число документов возросло, мы встречаемся порой с весьма критическими данными об уровне образования церковнослужителей, даже о степени их знакомства со Священным Писанием и с теми обрядами, которые они совершали, — очевидно, что на рубеже XV–XVI веков на уровне приходов, особенно на периферии, ситуация была по крайней мере не лучше. Недаром, когда Никон в XVII веке затеет унифицировать священные тексты и обряды по более аутентичным греческим образцам, это будет воспринято как нововведение, настолько отличающееся от повседневной практики (на самом деле куда менее каноничной), что возникнет знаменитый раскол.
Необходимо коснуться еще одной принципиальной вещи. Именно религия оказывала колоссальное влияние на формирование в глазах людей иерархичности отношений как Небес и Земли (сама конструкция рая и ада уже задает вертикальную иерархию), так и социальной вертикали общественного устройства. Французский историк Ж. Ле Гофф писал о мировоззрении средневековых европейцев: «Представление о небесной иерархии сковывало волю людей, мешало им касаться здания земного общества, не расшатывая одновременно общество небесное… человек корчился в когтях дьявола, запутывался среди трепыхания и биения миллионов крыл на земле и небе, и это превращало его жизнь в кошмар. Ведь реальностью для него было не только представление о том, что небесный мир столь же реален, как и земной, но и о том, что оба они составляют единое целое…»[70]
Отсюда вытекал очень важный момент — нельзя выступать против властей, не усомнившись в правильности Божественного миропорядка. И, наоборот, любой социальный смутьян автоматически оказывался на волосок от преступления против веры. «Вся власть от Бога» — Русь усвоила это очень твердо. Бунтовать, быть оппозиционером, даже просто противоречить власти — грех. На Западе эта доктрина была менее устойчивой в силу меньшей монолитности самой религии, с ее разными конфессиями, многочисленными ересями и критической теологией.
Василий III пришел к власти, использовав в свою пользу борьбу с ересью и ту смуту умов, которая из-за упоминавшейся выше «проблемы-7000» возникла в русской церковной среде на рубеже XV–XVI столетий. Увлечение вольномыслием и связи с еретиками матери Дмитрия, Елены Волошанки, оказались весьма кстати. Но с разгромом смутьянов «нестроение умов» не улеглось.
В конце XV — первой трети XVI века, то есть в течение всего правления Василия III, в Русской церкви шла борьба двух идейных течений, которые получили условные названия нестяжательского и иосифлянского. Движение нестяжателей (или «заволжских старцев») возникло в конце XV века. До 1508 года его духовным лидером был Нил Сорский. Идеи Нила и его сторонников базировались на византийском исихазме Григория Синаита. Это — мистико-аскетическое учение, зародившееся в XIV веке у греческих монахов на Афоне. Они утверждали, что существует вечный свет, который явился на горе Фавор во время Преображения Господня. Его могут узреть те, кто ведет праведную монашескую жизнь. Чтобы увидеть этот свет, греческие исихасты погружались в мистическое созерцание, полное сосредоточение на чем-нибудь до тех пор, пока им не начинало чудиться сияние вокруг него. Чтобы достичь такого совершенства, необходимы были строгий аскетизм, пренебрежение к собственной личности, полное смирение перед Божьей волей.
Как, согласно Нилу Сорскому, протекал процесс духовно-нравственного совершенствования? В сильно упрощенном виде он выглядел следующим образом. Сперва путем непрестанных молитв надо отрешиться от всех помыслов, не только от злых, но даже от добрых, и погрузиться в «мысленное безмолвие», которое и есть «исихия». Успокоив свой ум, человек, по учению нестяжателей, поднимался на более высокую ступень духа, которая называется «действом духовным». Его суть в постижении Бога, духовном единении с ним. В этом состоянии человек впадает в транс, не чувствует себя, не понимает, где он находится, никого не узнает, не ощущает своего тела. Он ощущает только неописуемое блаженство, сладость, разливающуюся в сердце. Когда верующий выйдет из такого состояния, устанет от «духовного делания», то может отдохнуть — почитать и попеть псалмы. Оптимальным режимом Нил Сорский считал следующий: час молитвы и «духовного делания», час чтения и час пения духовных стихов. После чего цикл начинается сначала.
Как достичь такого духовного идеала? Нестяжатели выдвигали следующие требования.
Необходимо соблюдать общехристианские добродетели — нестяжание, послушание, целомудрие.
Истинный подвижник не должен иметь личного имущества, особенно богатых одежд и украшений. Имущество отвлекает ум от духовной жизни и привязывает человека к земле, к миру.
Эти принципы распространяются не только на монахов лично, но и на монастыри в целом. Им не положено обладать богатствами, прежде всего — земельными. Монастырскую собственность необходимо секуляризировать.
Для светских властей в учении нестяжателей наиболее привлекательным был последний пункт. С его помощью князья надеялись провести в жизнь секуляризационную программу и прибрать к рукам земельные владения церкви. Отсюда — горячие симпатии к нестяжателям московских великих князей.
Движение оппонентов нестяжателей — иосифлян — зародилось в конце XV — начале XVI века и особое развитие получило в первой трети XVI столетия. Оно так называется по имени одного из главных своих идеологов, Иосифа Санина, игумена Иосифо-Волоколамского монастыря. Основателями течения в 1490-е годы были архиепископ Великого Новгорода Геннадий и ученый монах-католик (!) Вениамин (с именами которых, кстати, связан первый полный перевод на русский язык Библии — так называемая Геннадьевская Библия 1499 года). Около 1497 года они сочинили первый программный документ иосифлян — «Слово кратко противу тех, иже в вещи священныя… соборные церкви вступаются». Всех, кто покушается на владения церкви, в этом трактате называли «лихоимцами».
Однако учение иосифлян было гораздо шире, чем просто защита своих имущественных прав (в литературе их позицию нередко примитивизируют, сводя ее к скупердяйству, «стяжанию», борьбе за имущество церкви). Иосифляне сформулировали доктрину «воинствующей церкви». Согласно этой доктрине, священникам надлежит активно вмешиваться в мирские дела, направлять действия светских властей. При этом подданным «больше достойно повиноваться власти духовной, чем мирской», — писал Вениамин. Церковную деятельность иосифляне рассматривали как своеобразную религиозно-земскую службу, особое «Божье тягло».
Истинный христианин не должен погружаться в самосозерцание и отречение от мирского. Ему надлежит активно сражаться за веру и дела церкви. А поскольку любая война, любая власть требуют для своего обеспечения денег, то церкви положено быть богатой. Ей необходимо обладать материальной базой для успешного несения «Божьего тягла», управления мирскими делами и наставлением людей на истинный путь.
Позиции нестяжателей были чище, благороднее и ближе к евангельскому учению. Но исторически прогрессивнее в начале XVI века оказались иосифляне. Их идеология больше отвечала потребностям строительства нового государства, нарождающимся мессианским настроениям, осмыслению места Руси в мире и ее самоутверждению.
Да, «духовное делание» вело к христианскому самосовершенствованию, но оно влекло уход человека из мира, из социальной жизни (недаром среди «заволжских старцев» было распространено скитничество как форма индивидуальной, отшельнической монашеской жизни). Да, по сравнению с ними иосифляне выглядели хищной, агрессивной церковью — воистину «воинствующей». Но они без колебаний строили страну, вмешивались в дела государей и царей, наставляли мирян, пытались очистить от скверны неверия и сомнения общество. Со всеми издержками, неизбежными при этом процессе, иосифляне прославились как интриганы, доносчики, жесткие церковные иерархи, расправлявшиеся с инакомыслящими. Это была еще одна цена, заплаченная за становление Русского государства в XVI веке.
Отношения между нестяжателями и иосифлянами складывались непросто. Первое столкновение произошло в 1503 году на церковном соборе, где нестяжатели, поддержанные Иваном III, пытались утвердить проект секуляризации церковных земель. Против них выступили Иосиф и его сторонники. Воинствующий игумен торжественно объявил, что всякий, кто покусится на имущество церкви, будет проклят. Иосифляне также возглавили борьбу с ересями, которые расцвели на Руси пышным цветом после несостоявшегося Конца света в 1492 году. Иосиф Санин и его приближенные открыто поддерживали Василия III в его борьбе с удельной оппозицией.
Но в экономическом плане великокняжеской власти больше импонировали нестяжатели с их программой ликвидации монастырских владений. Это совпадало с курсом на укрепление светской земельной собственности правительства Василия III. К тому же иосифлян долго раздирали внутренние противоречия: в 1509 году их лидер, Иосиф Санин, был даже отлучен от церкви другим крупным идеологом «воинствующих церковников» — новгородским архиепископом Серапионом. О том, кого в конце концов выберет Василий III и почему он это сделает, речь пойдет ниже.
Вкратце описав страну, бразды правления над которой принял Василий III, обратимся к международному контексту, к той мировой арене, на которой будет протекать жизнь и деятельность нашего героя.
Россия была молодым, буквально новорожденным государством, возникшим как единое «государство Всея Руси» в конце XV века. Ее рождение совпало с глобальным изменением всей геополитической обстановки в Восточной Европе. Весь XV век здесь долго и мучительно умирала великая Золотая Орда — государство, некогда безраздельно владевшее половиной Восточной Европы и заставлявшее трепетать другую ее половину, да и Западную Европу тоже. О «наводящих ужас тартарах» (именно так!) писали средневековые хронисты в Англии и Франции. Сигналом польского радио до сих пор является знаменитый хейнал — звук трубы трубача краковского Марьяцкого костела, оборванный татарской стрелой, пронзившей музыканту горло…
И вот Орда умерла. Первый смертельный удар ей нанес в 1395 году великий среднеазиатский полководец Тимур, или Тамерлан, который уничтожил становой экономический хребет Орды — цивилизацию степных поволжских городов. Татары были так уверены в своих силах, что даже не укрепляли эти города стенами. И Тимур прошелся по ним огнем и мечом, оставив лишь пепелища. Затем весь XV век от Татарии по кускам отваливались ханства и орды, пока не остался жалкий обломок, буквально обмылок с гордым, но уже пустым наименованием Большая Орда — которую и раздавит в 1502 году на реке Тихой Сосне крымский хан Менгли-Гирей. Лавры Батыя не давали ему покоя, он хотел сделать Крым единственным легитимным наследником Орды — а следовательно, и ее претензий на власть над Восточной Европой. А это означало неизбежный конфликт с Русью, который и разразится при Василии III.
Крымское ханство было молодым государством. Его первым правителем историки называют Хаджи-Гирея (1433–1465). Иногда в литературе можно встретить даже конкретную дату обретения независимости Крыма от Большой Орды — 1443 или 1465 год. Однако независимость длилась недолго: в 1475 году в Крыму высадились турецкие войска. С 1478 года Крымское ханство официально стало считаться вассалом Турецкой империи.
Отношения России и Крыма при Иване III складывались очень хорошо. Обе страны нуждались в союзе против общего врага — Большой Орды. Только цели у них были разные. Москва хотела разбить Орду, навечно ликвидировать «татарскую угрозу». А Крым соперничал с Ордой за власть над Восточной Европой. После гибели в 1502 году Большой Орды русско-крымские отношения стремительно испортились. Исчезла основа их дружбы. Крым теперь сам заявил претензии на роль исторического наследника Золотой Орды. В 1507 году крымский хан Мухаммед-Гирей выдал польскому королю Сигизмунду I ярлык на 15 русских городов. Это означало, во-первых, что Россия и Крым из друзей стали врагами; во-вторых — что крымские татары хотели распоряжаться землями Восточной Европы, как некогда ими распоряжались их золотоордынские предки. Началось военное противостояние России и Крымского ханства, которое завершится только в 1783 году, когда впавший в ничтожество Крым будет взят русской армией без единого выстрела.
В XVI веке Крымское ханство занимало земли самого полуострова, кроме прибрежной полосы (саджака) с главными портами и торговыми центрами, принадлежавшими Турции, а также степные территории Северного Причерноморья и Приазовья (улусы), не имевшие четких границ — их рубежи терялись в дикой степи, в Поле — пограничной ничейной земле между Россией и Крымским ханством. Это были территории диких сезонных кочевий. Считалось, что на востоке границы крымских улусов доходили до реки Молочной, простираясь, может быть, и дальше к реке Миус, на севере, на левом берегу Днепра, достигали реки Конские воды, а на западе уходили степью за Очаков к Белгороду до Синей воды.
Население ханства было многонациональным, с преобладанием крымских татар. Кроме них, значительную долю, особенно в городах, составляли греки, караимы, армяне, евреи, турки. Господствующей религией было мусульманство, в городах также существовали христианские и иудейские общины. Господствовали законы шариата; все татары были убеждены в необходимости священной войны — газавата — против христиан. Ближайшими христианскими странами были Россия и Великое княжество Литовское…
Во главе государства стоял хан из династии Гиреев, который правил как единоличный монарх. Назначение хана должно было подтверждаться специальным распоряжением турецкого султана (фирманом). Из Стамбула ханы получали знаки своей власти. По первому требованию султана они были обязаны выступать против любого врага. Правда, турки не всегда вмешивались в дела своего далекого вассала, что давало хану некоторую свободу действий, но в очень ограниченных пределах. Одним из важных источников дохода хана была так называемая сауга — пятая часть от любой военной добычи, которая шла в его пользу.
При хане был совет знати, устроенный по турецкому образцу (малый диван — более узкий по составу; и большой диван — расширенный), состоявший из представителей наиболее знатных и влиятельных родов (бей-карачеев). Ханство делилось на бейлики — земли, принадлежащие беям, главам знатнейших татарских родов: Ширинов, Барынов, Аргинов, Седжетов, Яшлавов (Сулешевых) и др. Беи раздавали земли на правах держания за службу мурзам — членам байского рода. Они собирали, содержали и вооружали ополчения в своих землях для общекрымских военных походов. Простое население (черные люди) жили джемаатами — общинами с коллективной собственностью и коллективным трудом.
Экономический уклад зависел от характера территории. В горных районах Крыма процветали садоводство, пчеловодство, виноградарство, огородничество. В равнинных районах в местах с постоянными источниками воды (а Крым испытывает дефицит пресной воды) развивалось земледелие (ячмень, просо, пшеница, гречиха, овес). В степях Северного Причерноморья господствовало кочевое скотоводство, преимущественно коневодство и овцеводство. Города были в основном ремесленными и торговыми центрами. Ремесленникам была известна самоорганизация, отдаленно напоминающая цеховую. Процветала работорговля, особенно пленными христианами из России и Великого княжества Литовского. Число пленных, захваченных в грабительских походах и затем проданных на невольничьих рынках далее в страны мусульманского Востока, ежегодно исчислялось тысячами, а то и десятками тысяч человек. Главными центрами работорговли были города Карасубазар, Гезлев и Кафа.
Татары не собирались захватывать земли своих врагов — России и Великого княжества Литовского, и тем более покорять эти государства. Помимо прямого захвата добычи и пленных, походы татар преследовали цель устрашить, внушить противнику мысль, что от крымской угрозы дешевле откупиться. И Россия, и Великое княжество Литовское в XVI веке время от времени посылали в Крым так называемую казну, или поминки — платежи, от получения которых зависело доброе расположение хана. Крым ставил степень своей военной угрозы в прямую зависимость от регулярности и размеров платежей. Чем больше заплатят, тем больше вероятность, что татарская конница останется в этом году в Крыму. Чем меньше — тем выше шанс нападения. Такой своеобразный рэкет на государственном уровне.
Ситуация усугублялась тем, что России, в принципе, были выгодны татарские набеги на Литву, а Литве — на Россию. Поэтому обе страны пытались склонить Крым к нападению на соседа. Ханы этим обстоятельством прекрасно пользовались для новых взяток и вымогательств. Происходил так называемый «крымский аукцион», как его афористично назвал русский историк С. М. Соловьев: кто больше даст, тот обезопасит свою границу и сможет создать неприятности враждебному соседу. Правда, татары могли взять деньги с обеих сторон, а потом еще получить «дополнительные доходы» путем грабительских нападений…
Татарские грамоты и в Москву, и в Вильно, и в Краков полны требований денег, мехов, богатой одежды. Причем вымогательство было совершенно беззастенчивым: татары откровенно говорили, что без взяток и подношений они даже не будут читать присланные им дипломатические грамоты. («Что толку нам в сухих грамотах?») Крымские князья были придирчивы — так, известна очень эмоциональная переписка с Москвой татарского князя, который требовал заменить присланную ему в подарок меховую шапку, поскольку счел ее… женской.
Насколько велики были поминки? Например, крупными поминками считались посланные в 1518 году с гонцом Ильей Челищевым: серебряный ковш, клык моржа («рыбий зуб»), 40 шкурок соболей, 300 шкурок горностаев, одна черная лисица. Это, несомненно, богатые подарки, но можно ли их сравнивать с данью, которую некогда Русь платила Золотой Орде? Для сравнения: платежи Крыму Великого княжества Литовского в XVI веке порой достигали нескольких десятков тысяч золотых монет — или в эквиваленте сукнами (которые везли на десятках подвод), или «живыми» деньгами.
В литературе можно встретить утверждение, что поминки в XVI веке были завуалированной формой дани, которую Россия, несмотря на свержение монголо-татарского ига, якобы продолжала платить — теперь уже Крымскому ханству. Согласиться с этим нельзя. Поминки не носили столь масштабного и регулярного характера, чтобы их считать данью одного государства другому. Крупных выплат в Крым за весь XVI век известно всего несколько. Гораздо чаще русские дипломаты отделывались мелкими подарками, скорее символическими, чем очень дорогими — сравните вышеприведенную историю с женской меховой шапкой, присланной татарскому князю.
Более широко практиковались взятки крымским чиновникам, которые взамен соглашались «служить» русскому царю. С 1484 года в наказах русским послам в Крым появляются пространные списки татар, которым от имени русского государя приказывается «беречь нашего дела», «добро чинить», «чинить дружбу», «а мы бы тебя своим жалованьем находили». Русским дипломатам поручалось составлять специальные списки лиц, пригодных для вербовки. Царевичей Гиреевичей и членов ханской семьи склоняли ходатайствовать перед правителем Крыма о мире, отпуске послов, возврате пленных и т. д. Менее знатные аристократы и представители служилой знати, которые соглашались получать жалованье из Москвы, считались «слугами» и «холопами» великого князя, принятыми на «государеву службу» и делающими «государево дело». Для них применялась формула: «яз, холоп ваш, как правою рукою государя нашего вольного человека цареву величеству служу, и левою рукою тебе, государю, послужився» или «правым плечом своему государю быть, а левым тебе служу». На взятки этим информаторам и своеобразным «агентам влияния» русское правительство не скупилось, и эти денежные вложения хорошо окупались. Русская разведка в Крыму работала успешно, а агентурная сеть была надежной и широкой.
Кроме крымцев, другим опасным татарским соседом для России были ногаи. Ногайская Орда обрела окончательную независимость при хане Нурадцине (1426–1440). Ногаи кочевали в Прикаспии, от реки Урал до бассейна Волги и в Приазовье. Процесс складывания ногайцев как особого тюркского народа, потомка кипчаков, в XVI веке не был завершен. Большую роль все еще играли особые родоплеменные общины — эли, из которых могли вырасти целые племена, называемые по именам глав родов. Господствующей религией был ислам.
Во главе ногайского государства стоял князь (бий). Текущие задачи государственного управления решал особый правящий орган — карадуван, а также высшие чиновники — карачии. Вопросы обороны Орды решали военачальники нурадин и кековат, стоявшие вторыми после бия в политической иерархии. Орда делилась на улусы, во главе которых стояли мирзы. Места кочевок улусов назначал бий.
Основу экономики ногайских государств составляло кочевое скотоводство (коневодство, овцеводство). Оно было высоко развито: существовала целая система кочевания, с учетом необходимости периодической смены зимних, весенних, летних и осенних пастбищ, особенностей климата, количества скота, с четко определенными маршрутами перекочевок и т. д. Земледелие же носило вспомогательный характер: ногайцы отъезжали от мест кочевок, распахивали и засевали участок поля, а потом уезжали и возвращались уже осенью для сбора урожая. Среди заметных отраслей экономической жизни следует также назвать торговлю (с Россией, Крымом и Средней Азией) и в Поволжье — рыболовство.
Третьим татарским соседом России было Казанское ханство, возникшее между 1437 и 1445 годами в Поволжье на бывших землях другого средневекового тюркского государства — Волжской Болгарии, уничтоженной в 1236 году нашествием монголов. Основателем и первым правителем ханства считается хан Улуг-Мухаммед. Уже в год основания, в 1445 году, под Суздалем казанские татары разгромили войско великого князя Московского Василия II. После этого отношения Казани и Москвы стали враждебными и оставались такими до 1487 года. В этом году русские войска взяли Казань, и великий князь Иван III установил над ней свой протекторат. Москва следила, чтобы на престол всходили только лояльные ханы. В Казани была сильная промосковски настроенная группировка местной знати.
На востоке казанские земли доходили до Уральских гор. Здесь Казанское ханство граничило с Сибирским. На юго-востоке и юге простирались обширные степи, занятые Ногайской Ордой. Каких-то определенных границ не было, ибо степь время от времени занималась той или иной стороной; условная же граница проходила где-то в бассейне реки Самары. На юг земли ханства спускались узкой полосой по берегам Волги почти до пределов Сары-Тау (Саратова). С Россией ханство граничило по реке Суре. На севере владения Казанского ханства доходили до среднего течения рек Вятки и Камы и почти граничили с таежной зоной[71].
Население Казанского ханства состояло из татар (примерно треть), башкир, черемисов, удмуртов (вотяков), мари, чувашей и других народов. Распределение населения по территории было неравномерным и сильно зависело от социально-экономического уклада. Наибольшей плотности оно достигало в поволжских городских центрах ханства, главным из которых была столица — Казань. Она была окружена деревянными крепостными стенами с десятью воротами, но имела и каменные постройки (главным образом культовые — минареты, мечети, а также ханский дворец). Обширные посады и предместья были заселены торгово-ремесленным людом. Объединенные подворья иностранных купцов образовывали особые районы: армянский, русский и т. д.
Казань была крупным пунктом транзитной торговли на Волжском торговом пути. Она также являлась крупнейшим невольничьим рынком в регионе. Казань и ее городская округа выступали последним обломком некогда могучей поволжской городской агломерации Золотой Орды, уничтоженной в 1395 году Тимуром. Остальная территория ханства была куда менее цивилизована. Здесь практически не было городских поселений, правда, насчитывается довольно много сельских (по русским описаниям конца XVI века известно до семисот). В сельском хозяйстве работали пленные рабы как из русских, так и из поволжских народов, а также казанские «черные люди». Они принадлежали крупным землевладельцам, которые владели примерно 25–30 процентами всех земель ханства.
Наконец, в поволжских степях, пограничных с землями ногаев, преобладало кочевое коневодство. Большую роль в экономике ханства играли также охота, лов пушного зверя, рыбная ловля, промыслы.
Государством управлял верховный правитель — хан. Его власть была нестабильной: в течение 118 лет (1438–1556) на казанском престоле сменилось 15 ханов, причем некоторые из них царствовали по два и по три раза — Мухаммед-Эмин, Шах-Али (Шигалей русских летописей), Сафа-Гирей. Это объясняется непростой политической ситуацией внутри политической элиты: среди казанской знати существовали различные группировки, ориентировавшиеся на Москву, Крым, автономное развитие страны и т. д. Поэтому столь частыми были мирные и военные перевороты, смена власти и т. д.
Свою роль играли и экономические интересы тех или иных кланов и родов. Вышеназванные 15 ханов принадлежали к шести различным родам (то есть могли бы основать шесть разных династий, что явно многовато для 118 лет правления). Примечательно, что ни одна ханская линия не вымерла естественным путем. Все они были смещены насильственно.
Власть хана, формально неограниченная, на деле сильно зависела от совета знати — дивана, в который входили представители самых знатных фамилий — Карачи. Возглавлял диван «большой карачи» — улу-карачи, в первой трети XVI века эта должность была наследственной в татарском роду Ширин. Для решения самых важных вопросов собирался расширенный совет, называвшийся курултай. В него входили представители духовенства (шейхи, муллы, имамы, дервиши, хаджи, хафизы, данишменды, шейх-заде и мулла-заде), воинского командования (огланы) и землевладельцы (эмиры, бики, мурзы). Как показывает внутренняя история ханства в XV–XVI веках, курултай особого значения не имел, его решения часто не выполнялись. Это была скорее площадка для обмена мнениями.
Стоит упомянуть еще Астраханское ханство, которое возникло позже всех татарских государств, уже после разгрома Большой Орды в 1502 году. При этом в Астрахань еще в 1480-е годы переместилась столица Большой Орды, и после гибели этого государства именно Астраханское ханство стало его политическим наследником. Однако в силу своей военной слабости оно не могло претендовать на реальную власть над землями Восточной Европы.
Астрахань вела в отношении России довольно миролюбивую политику: ей хватало проблем с ближайшими соседями, с ногаями и крымскими татарами. Связываться с далеким и сильным северным соседом астраханские правители совершенно не хотели. Всю первую треть XVI века астраханцы пересидели в своем отдаленном углу сравнительно благополучно. Василию III тоже было не до них: тут с Крымом и Казанью разобраться бы… Однако не зря говорится: «Если вы не хотите заниматься политикой, то политика займется вами». Политика займется Астраханским ханством уже при сыне Василия, Иване Грозном. Потомкам Большой Орды история отвела недолгий век — это государство просуществует на карте Европы всего 54 года и погибнет в 1556 году.
После краткой характеристики восточных, мусульманских соседей Василия III обратимся на Запад. Здесь самым крупным соседом было Великое княжество Литовское. Его земли простирались от бассейна Немана и Западной Двины на севере до причерноморских степей на юге, то есть занимали почти всю территорию современных Литвы, Белоруссии и частично Украины. В состав этого государства вошли многие бывшие земли Киевской Руси — Полоцкая, Минская, Туровская, Смоленская, Киевская, Черниговская, Волынская и др.
С 1385 года Великое княжество находилось в династической унии с Королевством Польским. С 1385 года в обоих государствах (исключая несколько исторических эпизодов) правил один монарх из династии Ягеллонов, носивший титул «короля Польского и великого князя Литовского и Русского». При этом и в Польше, и в Литве одновременно существовали свои советы знати — королевская рада (в Польше) и рада панов (в Литве), свои съезды знати (сеймы), которые могли созываться на разных уровнях — от общего сейма, сейма коронных земель и сейма великого княжества до сеймиков отдельных местностей.
Население в этническом и религиозном плане было сложным. В него входили литвины и русины (последние — предки будущих украинцев и белорусов), а также в качестве национальных меньшинств — евреи, татары и др. Правящие круги и крупные литовские магнаты придерживались католичества, значительная часть населения, особенно в бывших древнерусских землях, — православия. Позже здесь будет быстро распространяться протестантство. Было также много сект и ересей. О средневековой Польше современники говорили так: «Кто окончательно потерял свою веру, пусть поедет в Польшу. Либо он найдет ее там, либо такой веры больше не существует на земле». Польшу за веротерпимость называли «государством без костров». Эти религиозные характеристики в полной мере приложимы и к Великому княжеству Литовскому.
Особенностью политического устройства обоих государств была слабая королевская власть. Без поддержки советов знати и сеймов король фактически не мог реализовать ни одного серьезного решения, касавшегося ограничения прав знати, ущемления ее имущественного положения. Польские дворяне воспринимали свою свободу не как гарантию их частной собственности (этим больше интересовались городские и торговые слои), а как возможность получать льготы и привилегии за службу. При этом они считали, что служат не столько королю (что отличало их от русских дворян, служивших только своему царю), сколько своему государству и народу — позже, в 1569 году, эта идея найдет свое отражение в названии объединенного государства Литвы и Польши — Речь Посполита, Rzeczpospolita[72] (переводится как Республика).
Соответственно, при значительном экономическом и людском потенциале и Литва, и Польша испытывали серьезные проблемы при организации вооруженных сил для крупных военных акций. Об этом свидетельствует уже тот факт, что каждая из сторон объединенного государства имела свою армию с собственным командованием, финансированием, различными принципами комплектования и организации. В случае войны армии действовали в одиночку. Только наемники и добровольцы могли выступать под любыми знаменами.
Причина подобного своеволия шляхты заключалась в ее привязанности к собственным земельным владениям — дворянин Великого княжества Литовского должен был их блюсти от нападений соседей. Грабеж, своз чужих крестьян, угон скота, захват чужих имений были обычным делом. Собственно, к этому и сводились отношения между соседями-шляхтичами. В таких условиях каждый дворянин держал свою небольшую армию для обороны собственных владений и нападения на чужие. При этом дворянство все время жаловалось, что у него не хватает средств для участия в общегосударственных военных мероприятиях. Средств, видимо, действительно не хватало; другой вопрос, на какие другие нужды шляхта расходовала их более охотно и, главное, более быстро. На юге страны — на Волыни — к этим факторам добавлялась постоянная угроза татарских набегов и нападений разбойничающих казаков. Позволить себе послать часть своей личной армии в королевское войско и тем самым оголить свои имения могли только крупные землевладельцы — богатые паны, магнаты. На войну также охотно выступало небогатое дворянство (рыцарство), которому было особо нечего терять, а вот приобрести что-нибудь на королевской службе — вполне реально. Но в целом военный потенциал Великого княжества в первой трети XVI века надлежит определить как невысокий.
Поэтому неудивительно, что с конца XV века в столкновениях с Россией Великое княжество Литовское стало терпеть одно за другим военные поражения, которые вели к территориальным потерям. В пяти так называемых порубежных войнах конца XV— первой трети XVI века (1487–1494, 1500–1503, 1507–1508, 1512–1522, 1534–1537) Великое княжество потеряло Смоленск, Северские, Черниговские и Верховские земли. Русско-литовская граница вплотную приблизилась к Киеву и Полоцку. Отдельные победы над русской армией (например, под Оршей в 1514 году) положения принципиально не меняли.
Великое княжество Литовское и Государство всея Руси спорили за русские земли. Здесь необходимо сделать отступление и пояснить, о каких землях идет речь и почему вообще встала эта проблема. В средние века в Восточной Европе термин «Русь» выступал политонимом, фигурирующим в XIV–XV веках в названии Великого княжества Литовского, Жемайтского и Русского и Великого княжества Московского и всея Руси, в начале XVI века называемого также Государством всея Руси. Это объяснялось происхождением этих государств. Обе державы выводили свои корни из Киевской Руси, правда, несколько по-разному. Московские Калитичи были прямыми потомками киевских Рюриковичей. Историческая память, традиции государственности, корни державы, представления об изначальной вотчине Рюриковичей — всё в Московской Руси выводилось из Киевской. Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть любую русскую летопись любого периода.
Литовские Гедиминовичи были в родстве с Рюриковичами, но их права на владение бывшими землями Киевской Руси основывались не только на этом. Здесь была создана своя легенда о происхождении литовцев от римлян. Первым автором, сформулировавшим эту идею, был польский историк Ян Длугош (1415–1480). Он записал «слух», что литовцы и самагиты — народы латинского происхождения, бежавшие с Апеннинского полуострова во времена гражданских войн сперва Мария и Суллы (89–87 до н. э.), затем — Юлия Цезаря и Помпея (49–48 до н. э.). Причиной эмиграции послужила уверенность, «что вся Италия погибнет во взаимном истреблении». К тому же, по утверждению Длугоша, беглецы были сторонниками Помпея. После его поражения на полях Ферсала и смерти в Египте они сочли за благо скрыться. Датой исхода польский историк называет 714 год от основания Рима, то есть 39-й до н. э. Руководил переселенцами князь Вилий; по его имени и была названа столица — Вильно. Новую родину стали именовать «L’Italia», «Литалия»; позже это слово трансформировалось в «Литву»[73].
Версия Длугоша получила большое распространение. Она повторяется в трактате польского ученого Матвея Меховского «О двух Сарматиях» (1517)[74]. Несколько особняком стоит точка зрения Михалона Литвина (1550): литовцы происходят от потерпевших кораблекрушение моряков Юлия Цезаря. Их флот разбило бурей при попытке высадиться в Британии. При этом в доказательство своей правоты Литвин приводит большое количество слов, одинаково звучащих на латинском и литовском языках[75].
Влияние концепций такого рода было весьма значительным. В 1447 году ректор Краковского университета Ян из Людзишки в приветствии королю Казимиру Ягеллону подчеркивал, что монарх, происходящий «от римских консулов и преторов», сможет навести порядок в стране и ограничить магнатский произвол. Польский гуманист Ян Остророг в речи, обращенной к римскому папе Павлу II, восхвалял военные доблести поляков и литовцев, которые в древности сумели отнять у самого Юлия Цезаря его город Вильно (который Остророг переводил как «крепость Вилия», то есть Юлия). В середине XVI века в меморандуме королю Сигизмунду о государственном языке М. Тышкевич предложил учить в школах «подлинному литовскому языку — латыни». Такие школы были открыты еще в 1539 году Иоанном Вилимовским и в 1539–1542 годах Абрамом Кульветисом. Правда, идея встретила сопротивление со стороны католической церкви, опасавшейся распространения протестантизма, и поэтому потерпела неудачу.
Как раз во времена Василия III версия о римском происхождении литовцев проникла в белорусско-литовские летописи. Легенда создавалась с целью возвеличить Литовское государство и его правителей, доказать их права на захваченные ими территории Древней Руси. Интересно сравнить идеологию русской легенды о происхождении Рюрика от Августа-кесаря и литовской о приходе Палемона. Русская повествует, что для обеспечения своего мирового господства Август рассадил в подвластных ему землях своих родственников. Одному из них, Прусу, достались города по Висле и Неману; по его имени эта земля стала называться Пруссией. Его потомок Рюрик был приглашен на престол новгородцами и заложил основы могущества и процветания Русского государства.
Литовский же вариант приводит гораздо более колоритную и идеологизированную легенду. Она начинается с характеристики правления Нерона: он был паном «окрутным», его тиранство над всеми было «плюгавое». Он «распорол» свою мать, чтобы посмотреть, как выглядят ее внутренности, зарезал в ванне своего учителя Сенеку, поджег Рим для литературного вдохновения. Так он тешился своими жестокостями, чинил всем своим родственникам «великие кривды» и притеснения. Не стерпев такой тирании, один из родичей Нерона, Палемон, с пятьюстами знатными родами бежал из Рима. Беглецы были люди свободолюбивые и не желали жить при деспотизме. Они добрались до Прибалтики и там захватили новые земли для основания своего государства — Л’Италии, то есть Литвы. Жившее здесь местное население было порабощено этими свободолюбивыми благородными людьми.
Из различия легенд ясно виден идеологический водораздел между Великим княжеством Литовским и Россией. В русском варианте в образе Рюрика воплощена воля народа, нуждающегося в государстве. Князь-варяг сливается с пригласившими его славянами, становится их защитником. Потомки Рюрика посвятили свои жизни делу возвышения Руси. За благочестие русских князей император Византии Мономах почтил их царскими дарами — шапкой, бармами и др., которыми венчал на царство Владимира Мономаха эфесский митрополит Неофит.
В литовской версии не скрывается, что потомки Палемона силой захватили бывшие княжества Киевской державы и от этого «вскричала вся Русь великим голосом и плачем». Их гонения на местное население были еще хуже, чем злодейства Нерона. Но теперь Палемоновичи гордятся этим. По их мнению, моральное оправдание действий литовцев вытекало из того, что после поражения от Батыя русские князья утратили право на власть над своим народом. Они оказались ее недостойными. Потомки Нерона просто обязаны эту власть подобрать, спасти русский народ от хаоса и анархии.
Таким образом, в русской легенде отстаивается идея слияния народа и власти, образ государя как хозяина земли и в то же время — исполнителя народной воли. В литовской — идеалы индивидуальной свободы, собственной исключительности в рамках многонациональной державы. Право на власть над Русью Рюриковичей вытекало из слов призвавшего их народа: «Земля наша велика и обильна, а порядку в ней нет, приходите княжить и владеть нами». Право Гедиминовичей — из завоевания. Правда, надо сказать, что на практике Великое княжество Литовское не всегда подчиняло силой земли и города бывшей Киевской Руси. Широко была распространена практика договора («ряда»), поступления местных князей на службу правителям Литвы. Но при феодализме быть победителем означало быть завоевателем, отсюда и акцент в легенде на победоносном шествии по Восточной Европе потомков Палемона (все поколения которых, вплоть до реального Гедимина — несколько колен — были вымышлены создателями этого мифа, с подробным описанием их подвигов, завоеваний и т. д.).
Помимо возвеличивания собственной династии, обе стороны пытались очернить чужие. Литовцы писали, что историческим наследником Киевской Руси выступает Великое княжество Литовское, а Московская Русь выросла из периферийных и подвластных Киеву далеких Приокских земель, где правили младшие Мономашичи. Они вышли из подчинения Киеву, воспользовавшись его ослаблением после нашествия Батыя. То есть основатели династии Калитичей фактически объявлялись мятежниками и сепаратистами. Москвичи сразу попали в унизительное татарское рабство, их князья садились на престол только по воле завоевателей и не смогли свершить ничего великого по сравнению с литовскими князьями.
Русские идеологи создали контрверсию, свой вариант родословия литовских правителей. По нему, из татарского плена сбежал князь Витенец из рода смоленских князей. Он поселился в Жемайтии у некоего бортника и женился на его дочери. Их брак был бездетным. После смерти Витенца его жену взял конюх Гигемник, и от этого союза произошли семь литовских князей — Ольгерд, Кейстут, Свидригайло и др. Этот конюх под именем Гедимина I и стал основателем династии литовских правителей. Данная версия, низводящая происхождение литовской династии до уровня простонародья, содержащая неприглядные подробности семейной жизни Гедимина, ставила целью принизить великих князей литовских, показать их ничтожность и худородность по сравнению с московскими государями — потомками самого императора Августа.
Противостояние проходило не только на уровне идеологий, но и в виде военных действий. Общим местом многих работ, особенно российской историографии имперского и советского периодов, является постулат о войнах Московского государства с Литвой за пограничные земли как проявлении широкой политической программы воссоединения русских земель бывшей Киевской Руси в рамках единого Русского государства. Время формирования этой программы историки относят к правлению Ивана III (1462–1505), ее реализацию — к серии русско-литовских пограничных войн.
За какие земли шла борьба? После распада Киевской державы понятие «Русские земли» имело два значения. Первое — это территория, входившая в состав Русской митрополии, населенная православными христианами (при этом не столь важно, в каком государственном образовании они проживали). И второе — это конкретная территория, с древнейших времен называвшаяся Русью. Территориально она ограничивалась бывшей Киевской, Переяславской, Галицкой и Волынской землями. И эти земли в средневековье считались населенными русинами (рутенами) и назывались Русьскими, Рускими. Они были подвластны Гедиминовичам с XIII–XIV веков, частично подчинялись польской Короне. Поэтому когда правители Великого княжества Литовского называли себя великими князьями литовскими и русскими, они были абсолютно правы: Русь, Русия территориально входила в номенклатуру их владений.
Из Королевства Польского и Великого княжества Литовского данная историческая география попала в Европу, которая в XV — начале XVI века уверенно размещала Russia в Среднем Поднепровье и Прикарпатье, отличая ее от соседней Moskovia. Альберт Компьенский писал, что «в действительности Русь сейчас находится под властью Польши, и столицей является город Львов». Гнезнинский архиепископ Ян Лаский в 1514 году рассказывал участникам Латеранского собора: «Рутены Валашские вооружены и воинственны. Войско всего народа составляет сорок тысяч или около того. Они населяют собственную страну Молдавию или Мезию, а язык имеют общий с рутенским и народным италийским. Ибо говорят, что они были некогда римскими воинами, посланными на защиту Паннонии от скифов. Поэтому по большей части они имеют язык италийский, а богослужение рутенское… Рутены красные имели некогда собственных королей, а также собственных великих князей. Всех их завоевали короли Польши. Они верноподданные Королевства Польского и Великого княжества Литовского. Среди этих красных рутен короли Польши основали одну митрополию и семь кафедральных церквей, а также множество приходов веры римской». Матвей Меховский в 1517 году писал, что Руссия некогда называлась Роксоланией, простирается от Танаиса и Меотиды (Дона и Азовского моря) до Сарматских гор (Карпат). Ее столицей является город Львов (а некогда был Киев), и она делится на Галицийский, Премысльский, Саноцкий, Холмский, Луцкий, Бельзский округа. То же у С. Герберштейна: «Руссия граничит с Сарматскими горами, расположенными неподалеку от Кракова, а раньше простиралась вдоль реки Тираса, что на языке тамошних жителей именуется Днестром, до Понта Эвксинского и реки Борисфен».
Все авторы, писавшие о Русии — Рутении, говорят о ее исключительном природном богатстве, плодородии и изобилии, правда, отмечая слабую заселенность и малое количество городов. При этом современники подчеркивают многонациональный состав населения, обращая внимание на то, что все народности живут перемешано (в отличие от Московии, где этнические меньшинства расселены по окраинам) и в мире друг с другом: никто никого не угнетает ни за веру, ни за язык. Хотя в сочинениях и отмечается более высокое положение социальной элиты — поляков-католиков.
Вплоть до конца XV века нельзя найти свидетельств, что в Великом княжестве Московском оспаривали «русскую» принадлежность данных владений Великого княжества Литовского и вообще выдвигали претензии на его земли как на «русские». Титулатура «Русский» правителей Литвы признавалась Москвой безоговорочно. В то же время между Москвой и Литвой разгорелся конфликт как раз вокруг духовно-конфессиональной составляющей понятия «всея Руси». Он был связан с фактическим переносом центра Русской православной митрополии в Москву в начале XIV века. Весь XIV и XV века шло противостояние между церковными иерархами земель, входивших в Великое княжество Литовское и стремящихся выйти из-под власти московского митрополита, и желанием Москвы не упустить эту православную паству. История этого противостояния драматична и сложна, она завершилась фактическим разделом сфер влияния. Но, что важно, при этом и в Великом княжестве Литовском, и в Московском государстве окреп и стал господствующим дискурс о тождественности понятий «русский» и «православный». При его экстраполяции в сферу политической практики страна, претендующая на роль охранителя истинной веры, должна была неизбежно прийти к идее строительства Русского православного государства на территориальной основе всех земель, население которых исповедует или исторически исповедовало православие.
Более динамичным, несомненно, было идеологическое развитие Москвы. Уже в конце XV — первой трети XVI века здесь возникла мессианистская концепция «Государства всея Руси» как Нового Израиля, нового богоизбранного народа, единственно правильно верящего. И это предполагало строительство Православного Царства, населенного всеми православными христианами. В том числе и ошибочно живущими в Великом княжестве Литовском… Напротив, как показал И. А. Марзалюк, Великое княжество Литовское с его религиозным плюрализмом и сильным воздействием католицизма пришло во второй половине XVI — начале XVII века от парадигмы тождественности «русского» и «православного» к идее близости понятий «русский» и «славянский» и к доминанте в понятии «русскости» этнической, а не религиозной составляющей (русин оставался русином и при смене веры)[76].
Принципиальный для московской стороны спор о принадлежности земель бывшей Киевской Руси был воплощен здесь, по крайней мере поначалу, не в понятии «всея Руси», а в понятии «вотчины». Понятие это возникло около 1503 года в контексте спора о легитимности выезда на службу Ивану III литовских князей «с вотчинами». Московские дипломаты отстаивали идею, что вотчиной Ягеллонов являются Польша и Литва, а все остальное — «…то вотчина наша. И не только то наша вотчина, которые ныне города и волости под нашей властью: и вся Русская земля, Божьею волею, из старины, от наших прародителей наша отчина». Это первый случай подобной формулировки, прозвучавшей в январе 1503 года.
На переговорах с посольством С. Глебова 1504 года понятие «Русской земли» было Москвой уже раскрыто: «их [Ягеллонов] отчина — Польская земля да Литовская… вся Русская земля, Киев, и Смоленск, и иные города, которые литовский великий князь Александр за собою держит… с Божьей волею, из старины, от наших прародителей наша отчина». Здесь впервые и прозвучало требование: «…и если захочет с нами брат наш и зять Александр король и великий князь быть в братстве и в любви и в прочной дружбе, и он бы нам нашу отчину, Русские земли все, Киев и Смоленск и иные города, которые он прикрепил к Литовской земле, отдал бы». В свою очередь, правители Великого княжества Литовского заговорили о «своей вотчине из старины»: половине Новгорода, Пскове, Твери, Вязьме, Дорогобуже, Путивле и всей Северской земле[77].
На переговорах 1517 года впервые была озвучена новая «историческая» версия того, как русские города оказались в составе Литвы: их якобы передал государь всея Руси Иван III как приданое за княгиней Еленой Ивановной, «для свойства и для того, чтобы кровь христианская впредь не лилась, он тогда эти города передал Александру королю». Интересно, что Москва не ссылалась на древних киевских князей, а сочиняла совсем недавний прецедент: русские правители жалуют земли, их новые обладатели не соблюдают договор, оказываются клятвопреступниками, и московский государь просто вынужден пойти на «свое дело», покарать нарушителей договора и восстановить попранную справедливость.
Позиция России была в высшей степени удобна: все, что мы захватываем, — это наша вотчина, то есть мы просто восстанавливаем свои законные права на временно потерянные земли. При этом литовскую сторону можно было всегда держать в напряжении и заставлять умерять свои намерения постоянной угрозой предъявления претензий на Киев, Полоцк, Витебск и другие «русские» города. О практической несбыточности данного требования прекрасно знали обе стороны, но в полемике апелляция к «древней вотчине» позволяла русской дипломатии занимать более выигрышную позицию. Декларация прав на «отчину» была в большей степени полемическим приемом, чем конкретным требованием, что, впрочем, не исключает уверенности Москвы в легитимности своих претензий.
Литовская сторона видела опасность для себя именно в титуле московского правителя. Это связано с тем, что у Великого княжества Литовского культура титулатуры была гораздо более развита, чем у Москвы, и в XIV–XV веках служила инструментом для легитимизации территориальных захватов (через включение в титул Ягеллонов определений «Русский», «Жемайтский», «Прусский» и т. д.). Московские правители в это время еще не обладали титулом с перечислением подвластных земель. Иван III в конце XV века актуализировал титул «всея Руси», решая свои внутренние задачи (прежде всего — присоединение Новгорода). А в Литве это было воспринято в «литовском политическом стиле» — как претензия на Днепровско-Карпатскую Русию. Тем более что поступки Ивана III — прием выезжих князей с вотчинами, войны за захват пограничных земель — это подтверждали. В ходе дипломатической полемики данный подход и данная идеологема были быстро усвоены и развиты московской стороной.
Поэтому титул великих князей московских Литва старалась урезать при малейшей возможности. Тем не менее судьба титула московского правителя была решена силой русского оружия. После проигрыша войны 1500–1503 годов Литва признала титул «государя всея Руси». Остальные территориальные и титулатурные проблемы предстояло решать уже Василию III.
Северным соседом Великого княжества Литовского был Немецкий орден, в конце XV — начале XVI века разделявшийся на две ветви: Тевтонскую (в Восточной Пруссии, с центром в Кенигсберге) и Ливонскую (на современных землях Эстонии и Латвии). Как и в случае с Ордой, орден переживал свою осень, закат. Не за горами была и его гибель. Орден изжил свою историческую миссию. В мире больше не было целей, для которых он создавался: все окружавшие его язычники были крещены, христианская церковь в Европе давно утвердилась. Нести свет веры было некому и защищать церковь — не от кого.
Мало того, события начала XVI века показали, что главные проблемы «христианского мира» лежат внутри самой церкви, ведут к ее расколу (Реформации) и религиозным войнам. Не избежал этого и орден: среди орденской аристократии все большую популярность обретала идея секуляризации, что в 1525 году приведет к ликвидации Прусского ордена.
Кроме того, происходят вырождение рыцарства, упадок его идеологии, одряхление его военного искусства. Огнестрельное оружие господствовало на европейских полях сражений, и оно убило рыцарскую тактику и способы ведения боя. На первый план выходил «продавец шпаги», профессиональный военный наемник, с совсем другой психологией и философией, стилем владения оружием и даже другим вооружением. Орден также все больше использовал наемную военную силу, но сам как воинская организация ей проигрывал.
В конце XV–XVI веке меняется облик мира. Это было связано с Великими географическими открытиями, возникновением Нового Света. Священная Римская империя оказалась в стороне от борьбы за колониальный передел мира. Она раздиралась внутренними противоречиями, уже не расширялась, а теряла территории. Обладание провинцией Ливонией в этой ситуации стало для империи неактуально, тем более что Реформация проникала и сюда и разъедала основу связи ордена и империи — единую католическую веру, верность папскому престолу.
Но, как ни парадоксально, именно в условиях этого кризиса империя предприняла ряд шагов по формальному включению Ливонии в свой состав. В 1512–1513 годах при разделе Священной Римской империи на десять округов Ливония была включена в ее состав, причем вошла в одну провинцию вместе с Богемией и Пруссией. 24 декабря 1526 года, после падения Пруссии, в Эсслингене была дана грамота, подтверждающая, что Ливония является частью Священной Римской империи, а в 1530 году Карл V официально пожаловал в Аугсбурге ливонского магистра провинцией Ливонией. Теперь ливонский представитель мог присутствовать на рейхстагах, а магистр считался имперским князем. В то же время Ватикан считал Ливонию под своим управлением, что видно из папских булл, выдаваемых тем же епископам.
Главными причинами гибели Ливонского государства было изменение исторического контекста — как говорится, «Ливония созрела». У нее не было перспектив выжить в том окружении враждебных, агрессивных держав (Польши, Литвы, Швеции, Дании, России), в котором она оказалась. Она просто не могла выработать формулу собственного суверенитета и найти свое место, геополитическую нишу на новой карте Центральной и Восточной Европы. Слишком много соседей-хищников с алчностью смотрели на богатые прибалтийские земли. Ее судьба была предрешена. Это государство сотрут с лица земли сын Василия III Иван Грозный и польский король Сигизмунд II Август в 1558–1561 годах.
В середине XVI века Ливония состояла из нескольких исторически сложившихся территорий: Эстляндии (округа Гаррия, Вирланд, Аллетакен, Вайден, Оденпэ, Гервен, Вик, а также острова Эзель, Дагеден (Даго), Моне, Вормсэ, Врангэ, Киен и Водесгольм), Летляндии, Курляндии и Семигалии. Вся Ливония подразделялась на 22 дистрикта (уезда). Собственно Ливонский орден контролировал 59 процентов территории. 16 принадлежало Рижскому архиепископству, 25 — епископствам Дерптскому, Курляндскому, Эзельскому и 19 — крупнейшим городам. Самыми большими из них были Рига (восемь тысяч жителей), Дерпт (шесть тысяч), Ревель (четыре тысячи). При этом города имели прочные связи с европейскими союзами: Ревель был связан с Ганзой, Рига с 1541 года являлась членом Шмалькальденской лиги.
Высшую орденскую аристократию составляли немцы, в основном приезжие, выходцы из Вестфалии. Количество рыцарей не превышало четырехсот — пятисот человек. Гораздо более многочисленную группу составляли так называемые вассалы — немцы по происхождению, вот уже 10–12 поколений живущие в Ливонии. Среди горожан большинство бюргеров также составляли немцы, а в целом их доля в поселениях замкового и городского типа в среднем составляла до 20 процентов. В некоторых пунктах, например в Риге, этнических германцев было большинство. Крестьянство же, напротив, в основном состояло из аборигенов: эстов, ливов, леттов, куршей, семигалов.
По своей структуре орден изначально состоял из трех видов братьев (fraters militiae Christi, «братья воинства Христова»): братьев-рыцарей, братьев-священников и братьев-служителей. Все они при вступлении в орден приносили четыре обета: безоговорочного послушания орденскому начальству, целомудрия, отречения от собственности и посвящения жизни борьбе с неверными и язычниками. Братья должны были жить в общих домах (замках), питаться за общим столом, коротко стричь волосы и бороду, носить одежду из грубой ткани. Одевались рыцари в белое платье и нашивали на левую сторону плаща красный крест и под ним красный меч, священники одевались в белый кафтан с красным крестом на груди, а служащие — оруженосцы, стрелки, ремесленники — в коричневое или черное. Кроме того, были собратья — они не приносили обетов, жили на орденских землях и служили общему делу своим имуществом.
Основу военной организации ордена составляла тяжеловооруженная рыцарская конница, которую сопровождали конные воины из числа вассалов и пехота — кнехты. Однако и в самые лучшие времена существования Ливонского ордена число рыцарей не превышало нескольких сотен человек, а с вассалами и кнехтами орден мог выставить несколько тысяч. Этих сил вполне хватало для покорения, а частично и истребления местных прибалтийских народов — эстов, ливов, латгалов. Но на крупномасштабные войны с соседями (Литвой, Русью) орден был неспособен.
Символом владычества ордена в крае стали возвышавшиеся над равнинными прибалтийскими землями или на холмах рыцарские замки. Они, как правило, были четырех- или пятиугольные в плане, с каменными стенами высотой до пяти-шести метров, со рвом шириной 10–15 метров и центральной башней — донжоном. Замки имели постоянный гарнизон в несколько десятков или сотен солдат, которыми командовал фогт. В них находилась неплохая (нередко в несколько десятков стволов) крепостная артиллерия, что позволяло даже небольшому гарнизону держать в страхе округу и легко отражать любые попытки нападения со стороны местного крестьянства.
По Ливонии были рассеяны так называемые «крестьянские замки» (Bauernburgen) — разной формы и величины земляные укрепления, иногда с двойным или тройным валом или деревянными фортификационными сооружениями на валу. Они охраняли так называемые мызы — владения ливонских землевладельцев.
Крупнейшие крепости — Таллин (Ревель) и Рига — были обнесены мощными крепостными стенами (часть стен в Таллине сохранилась до наших дней). Но их предназначение было иное — охранять вольности горожан от аппетитов ордена (в Риге рыцарский замок вообще располагался отдельно от городских укреплений).
Ливонский хронист Бальтазар Рюссов так характеризовал повседневную жизнь ливонских дворян в первой половине XVI века: «В те времена вся жизнь их проходила… в травле и охоте, в игре в кости и других играх, в катанье верхом и разъездах с одного пира на другой, с одних знатных крестин на другие… с одной ярмарки на другую. И очень мало можно было найти людей, годных для службы где-либо вне Ливонии… или на войне». У ливонской аристократии была своя система ценностей: «…кто мог лучше пить и бражничать, драться, колоть и бороться», петь непристойные песни на пирах, «кто оставался последним и перепивал всех остальных, того на другой день провозглашали храбрым героем и его почитали и славили, будто он покорил какую землю». «Во всех землях в то время лучшей похвалой ливонцев было то, что они — славные пьяницы». Пьянство распространялось и на молодежь, даже на двенадцати- и четырнадцатилетних мальчиков. В Ливонии, по словам Рюссова, «среди некоторых разумных» ходила поговорка: «Да спасет нас Господь от феллинского танца, от витгенштейнского пьянства и от везенбергской чести»{3} (знаком последней считался шрам на щеке, полученный в драке, — так называемый «везенбергский коготь»).
Отношения России с Ливонией были недружественными, но прагматичными. И русским (в основном новгородским и псковским), и ливонским купцам была выгодна взаимная торговля: Ливония выступала посредником, перевалочным пунктом на пути огромного потока товаров, который шел из России в Европу и наоборот. В этой торговле каждая сторона пыталась словчить, «потянуть одеяло на себя», нарушить правила торговли в свою пользу. Когда число таких нарушений перерастало некий критический рубеж, начинались аресты товаров, купцов, а то и вспыхивали пограничные столкновения. После кратковременных войн подписывался мир на несколько лет, причем, как правило, стороны просто реанимировали и подтверждали старые довоенные договоренности, нарушение которых и привело к конфликту. Последняя подобная война между Россией и Ливонией была в 1500–1503 годах (так называемая «Первая Ливонская»); она закончилась шестилетним перемирием.
Говоря о западных соседях, необходимо упомянуть Священную Римскую империю. В ту эпоху понятие «Европа» (то, что позже назовут «западноевропейской цивилизацией») отождествлялось с «христианским миром», под которым понимались страны западного христианства (католичества, а позже и протестантства). Священная Римская империя была ядром «христианского мира», а ее император считал себя вправе вмешиваться в любые дела соседних стран. Имперский суд судил страны и народы, монархов и рыцарские ордена. Другое дело, что, как это часто бывает, подобные высокие претензии на гегемонию в христианском мире сочетались с политическим бессилием, особенно в военном отношении. Империя раздиралась внутренними противоречиями, и в первой трети XVI века она будет взорвана религиозными войнами, сопровождавшими протестантскую Реформацию. С юго-востока на Европу страшной черной тенью наползала Турция, в 1453 году проглотившая Византию и теперь медленно, но верно двигавшаяся вглубь континента.
Какое отношение все это имело к России Василия III? Во-первых, дипломатически империя тяготела к России, брала у нее денежные займы, чуть не подписала договор о военно-политическом союзе. Делала она это небескорыстно, и из этого следуют «во-вторых» и «в-третьих». Во-вторых, империя лелеяла мечту создания антимусульманской лиги, союза государств христианского мира против Турции и ее агрессии. Но как-то все время получалось, что горячо молиться за победу лиги готовы были все, а воевать не хотел никто. И здесь взоры периодически обращались к России, державе весьма сильной в военном отношении, закаленной в битвах с татарами. Со времен Ивана III Европа пыталась склонить русских правителей вступить в антимусульманскую лигу и отправить свои войска воевать за христианский мир. Приманкой, за которую московские монархи должны были положить свою страну на алтарь войны Европы и Турции, было присвоение им титула короля, вручение короны из рук императора и рассмотрение вопроса о включении России на правах провинции в состав Священной Римской империи, «христианского мира».
При Василии III эти переговоры достигнут апогея, но к концу его правления до европейских дипломатов все-таки дойдет, что русские поддерживают разговор о лиге исключительно из корысти, надеясь на этом что-то выгадать, но всерьез никуда вступать не намерены.
Россия в «христианский мир» не входила, ибо православные считались схизматиками, неправильными христианами. А потому, и это в-третьих, с конца XV века дипломаты империи и Ватикана постоянно поднимали вопрос о присоединении России к католической унии. Мотивы Запада были просты и прозрачны. Священная Римская империя не принимала участие в Великих географических открытиях и разделе Нового Света, не имела заморских колоний. Наоборот, развитие Реформации вело к тому, что католическая империя теряла множество подданных (отказывавшихся от католичества, принимавших протестантизм). Да и немало территорий вышло или грозило выйти из-под ее контроля. Россия могла быть имперским колониальным проектом, а огромное количество обращенных в католичество схизматиков на востоке — компенсировать человеческие потери империи на западе.
Эти факторы привели к тому, что при Василии III Россию чуть было не приняли в Европу. Почему этого не произошло и почему Россия однозначно стала для Европы «антиевропой» или даже Азией — читайте на страницах этой книги. А мы пока будем следить за первыми шагами во власти Василия III, новоиспеченного государя всея Руси.
В момент вступления на престол эйфория от того, что «мечты исполнились» и «жизнь удалась», бывает изрядно подпорчена тем печальным фактом, что соседи совершенно не разделяют твои восторги. Мало того, в самом факте смены власти они нередко видят крайне благоприятный момент, чтобы предъявить давно накопившиеся претензии, попробовать изменить существующее положение, проверить новоиспеченного правителя «на излом» — а вдруг получится? От неопытности он даст слабину, а там и поторговаться можно будет. Этот вызов, проверка на прочность почти всегда ждут молодого монарха.
Василий III тоже подвергся такой проверке. Первые годы его правления — эта целая череда дипломатических проблем и локальных войн на разных направлениях.
Первым взбунтовалось государство, которому по-хорошему бунтовать-то и не стоило — не те силы. Еще 24 июня 1505 года, пользуясь тем, что Москве, где тяжело болел Иван III, было явно не до соседей, поднял мятеж казанский хан Мухаммед-Эмин. По его приказу был арестован русский посол Михаил Кляпик и убиты находившиеся в Казани русские купцы, конфискован их товар. Уцелевших продали в рабство ногаям.
После смерти Ивана III Мухаммед-Эмин отказался признать Василия государем и разорвал отношения с Москвой. Он заявил: «Аз есми целовал роту (то есть приносил клятву, присягу на верность. — А. Ф.) за князя великого Дмитрея Ивановича, за внука великого князя, братство и любовь имети до дни живота нашего, и не хочю бытии за великим князем Василием Ивановичем. Великий князь Василий изменил братаничю своему великому князю Дмитрею, поймал его через крестное целование (то есть бесчестно, вопреки клятве. — А. Ф.). А яз, Магмет Амин, казанский царь, не рекся бытии за великим князем Васильем Ивановичем, ни роты есми пил, ни бытии с ним не хощу»[78]. Таким образом, правление Василия III началось с обвинения его в нелегитимности и сепаратистского мятежа.
Собственно, главная опасность здесь заключалась в самой постановке вопроса. Если казанцам сойдут с рук объявление Василия III незаконным и апелляция к «настоящему» государю Дмитрию, то легко найдутся и другие сторонники несчастного «венчанного внука». А там можно дойти и до потери трона… Медлить было нельзя!
Спустя полвека после смерти Василия III в историческом сочинении под названием «Казанская история», написанном в 1580-е годы, этот момент будет изображен очень драматично. Естественно, о критической ситуации вокруг трона историки умалчивали — сомневаться в правах на престол Василия и вспоминать опального Дмитрия было нельзя. Но зато казанский хан изображался сущим злодеем: «Не удоволися Казанский царь богатеством взятых людей руских в Казани, ниже крови их напився, такущия реками, и болщою яростию свирепосердыи разжегься»[79]. Далее описывается 30-дневная осада Нижнего Новгорода многотысячным войском, какого у казанских татар отродясь не бывало. Москва не успевала на помощь, но нижегородцы освободили из тюрьмы 300 пленных литовцев, заточенных туда после битвы при Ведроши. Литовцы искусно владели огнестрельным оружием, и «огненным боем» «град от взятия удержаша», и даже прямым попаданием ядра в грудь навылет уложили ногайского мурзу, шурина самого ногайского хана. После этого осада была снята, героические литовцы за свой подвиг освобождены и отпущены домой, и наконец-то пришла на подмогу огромная московская рать.
Конечно, данная история сказочна (хотя детали рассказа о пленных литовских жолнерах вызывают доверие: такое специально придумывать незачем). Согласно Воскресенской летописи, наиболее близкой описываемым событиям, осада длилась не 30, а два дня и была легко отражена местным гарнизоном под началом наместника Ивана Васильевича Хабара.
Чего хотели и на что рассчитывали казанцы, не очень понятно. Протекторат, установленный Россией над ними после 1487 года, был, в общем, необременительным. Главным его условием было не нападать на русские земли. Москва следила за тем, чтобы у власти в Казани находились представители прорусски настроенной группировки местной знати. По всей видимости, существовали льготы для русских купцов и какие-то финансовые отчисления в центр, неизвестно, насколько регулярного характера. В Казани сидел русский посол (впрочем, неизвестно, насколько постоянно он там находился). Но никто не мешал казанцам чеканить свою монету, жить по своему законодательству, иметь свою армию, самостоятельную внешнюю политику на сибирском и ногайском направлениях. Никто не вмешивался в казанскую экономику, хотя она в значительной мере базировалась на рабском труде русских пленных, угнанных на чужбину или купленных на невольничьем рынке.
Словом, те ограничения, которые вытекали из российского протектората, вряд ли стоили того, чтобы бросать такой вызов Василию III и тем ставить под угрозу само существование ханства. Применительно к началу XVI века ни о какой «национально-освободительной борьбе казанских татар против русских поработителей» не могло идти и речи — за неимением самого «русского порабощения». Видимо, это был бунт казанской элиты, желавшей под предлогом смены власти в Москве выторговать у нее ряд льгот и привилегий, а также добиться перетасовки политических группировок в Казани.
В случае военного конфликта рассчитывать казанцам было особо не на что. В этом отношении ханство было довольно слабым. Особое военное сословие составляли огланы, получавшие за службу земельные владения, правда, небольшие. Под их началом находились казаки, которые делились на ички, служившие при дворе хана, в столице, и исьникы — вне Казани, в улусах, по деревням. Наиболее боеспособные части составляла конница, города защищали пехотные гарнизоны. Вооружение и воинская тактика казанских татар почти не различались с другими татарскими армиями.
Существенных отличий было два. Первое — казанцы обладали артиллерией, правда, только крепостной. Второе — у них не было крупных многотысячных воинских соединений, предназначенных для дальних походов. В полевых сражениях они могли выставить небольшое количество воинов. По свидетельству польского историка XVI века Матвея Меховского, все войско казанцев в XVI веке не превышало 12 тысяч человек, и только в критические моменты они могли выставить до 30–40 тысяч воинов[80]. Они неплохо владели оборонительной тактикой, защищая Казань от нападений русских войск, но хан не мог собрать крупные соединения для решения стратегических военных задач.
Казанцы совершали свои набеги на русские города — Муром, Нижний Новгород, Кострому, Галич, Устюг небольшими мобильными отрядами, никогда не ставили своей целью захват территорий и включение взятых городов в состав Казанского ханства. Добыча и грабеж, захват пленных — это были единственные цели походов. Во время разбоев тащили всё подчистую: иногда даже выдергивали из дверных косяков гвозди, а из печей уносили еще горячие горшки с кашей.
Местные жители пограничных русских областей в долгу не оставались — казанский фольклор сохранил память и об их кровавых набегах на татарские деревни. Но все-таки от вторжения большой российской армии казанцев спасало расстояние — от Казани до Нижнего Новгорода по прямой более 300 километров, а дороги в средневековье прямыми не бывали. Нижегородских сил для большого удара все равно не хватило бы, армию надо было подтягивать из Центральной России — а это еще сотни километров марша. За такими просторами можно было чувствовать себя спокойными и делать любые громкие политические заявления.
Но, с другой стороны, Россия к этому времени научилась воевать с татарами, даже столь отдаленными. Времена стихийных мятежей «от отчаяния», героических, но малорезультативных акций в стиле богатыря XIII века Евпатия Коловрата, с маленьким отрядом атаковавшего всю армию Батыя, безвозвратно канули в прошлое. Москва четко усвоила, что надо бить одних татар при помощи других. Не имея в обозе готового на все марионеточного правителя, в поход против мусульман ходить не стоит.
Уже в декабре 1505 года Василий III занялся «выведением» такого правителя. Как сказано в летописи, брат мятежного Мухаммед-Эмина, пленный царевич Куйдакул, живший под арестом в Ростове под присмотром архиепископа, вдруг испытал сильнейшее желание принять православие. 21 декабря он был крещен под именем царевича Петра, 28 декабря выпущен из заточения и принес присягу на верность Василию III. Жизнь новообращенного татарского царевича стремительно изменилась к лучшему: из тюрьмы он почти сразу попал на брачное ложе. 25 января Василий III женил его на своей сестре Евдокии и дал в удел Клин, Городен и 55 сел под Москвой[81]. Правда, уже в 1507 году Клин отберут, но это будет потом. Пока же из ростовского заключенного получился прекрасный кандидат на казанский престол.
Русские войска двинулись на Казань в апреле 1506 года. В бой были посланы полки удельных князей Дмитрия Ивановича Угличского (Жилки) и Федора Борисовича Волоцкого, а также дворяне князя Юрия Дмитровского. Выступил и великокняжеский полк под началом князя Ф. И. Бельского. Армия шла по Волге «в судах» и берегом — на конях.
«Казанская история» содержит здесь очередной сказочный сюжет: на Арском поле перед Казанью хан устроил грандиозный праздник, велел установить тысячу шатров, «и вельможи его в них пьянствовали, и пили, и веселились всякими развлечениями, уважая устроенный праздник, также и горожане все, мужчины и женщины, гуляя, пьянствуя, делая покупки, развлекаясь»[82]. Судя по описанию, имеется в виду что-то вроде большой ярмарки. Русские войска налетели на отдыхающих, быстро обратили их в бегство. Протрезвевшие гуляки разбежались по окрестным лесам и спрятались за стенами Казани. Далее автор «Казанской истории» сетует: если бы русские утерпели и хотя бы три дня осаждали Казань — город бы сдался. Но они были с марша, голодные, усталые — а тут брошенные шатры с выпивкой и закуской… «От высокоумия» воины «начали без страха есть и пить, и без разума упиваться скверной едой и питьем варварским, развлекаться, играть и спать до полудня». Судя по этому описанию, ярмарка никуда не делась, просто у нее полностью сменились посетители. Хан подождал три дня, пока русские упьются насмерть, и атаковал их, когда они спали. Спящих воинов Василия III было убито столько, что по всему Арскому полю и Царскому лугу в лужах крови плавали русские трупы: из 100 тысяч погибли 93 тысячи. Те, кто успел проснуться, были убиты при попытке к бегству на берегах рек. Волга, Казанка и Булак три дня текли русской кровью, а казанские татары могли ходить с берега на берег по всплывшим раздувшимся трупам. При этом хан захватил в качестве трофея гору золота.
Эта апокалиптическая картина, однако, меркнет при обращении к другим летописям. 22 мая судовая рать князей Дмитрия Угличского и Федора Волоцкого и великокняжеский полк Ф. Бельского высадились у стен Казани и начали осаду. Ошибка была в том, что воины все двинулись к стенам, не обеспечив охрану корабельной стоянки и своего тыла. Татары на конях обошли полки со стороны реки и ударили в тыл, отрезав войска от кораблей. Сказалось преимущество татарского конного войска над пешим русским. Кого рассеяли по полю, кого прижали к Поганому озеру и порубили саблями. Вот тут-то, в озере, и утонула часть детей боярских (речь может идти о нескольких сотнях или тысячах человек, но уж конечно никак не о 93 тысячах, как в «Казанской истории», — столько войска не было во всей России).
В Москву было послано известие о поражении, но армия от стен Казани не отступила. 9 июня горестное известие было получено Василием III. Он приказал выступить на подмогу полкам под началом князя В. Д. Холмского. К Дмитрию Ивановичу и воеводам была послана инструкция непременно дождаться Холмского. Но 22 июня под Казань наконец-то подошли конная рать А. В. Ростовского и дворяне князя Юрия Дмитровского. Осуществлявший общее командование князь Дмитрий решил не ждать полки Холмского и 25 июня приказал штурмовать Казань. Штурм оказался неудачным, татарам был нанесен некоторый урон в живой силе, но город устоял. Русская армия отступила к Нижнему Новгороду и Мурому. Единственным успехом стали действия отряда великокняжеского воеводы Ф. М. Киселева и татар на русской службе под командованием царевича Сатылгана, которые на реке Суре разбили татарский отряд, посланный за ними в погоню[83].
Новгородские летописи содержат несколько иную версию событий, в большей степени перекликающуюся с «Казанской историей». Они сообщают, что при первой атаке русских (после высадки судовой рати) казанцы применили прием, на котором они неоднократно ловили русские войска: они оставили свои позиции, побросав имущество. Русские воины отставили в сторону копья и мечи, достали мешки и с увлечением принялись мародерствовать. Тут татары и вернулись и опрокинули потерявшее построение войско (вернее, уже не войско, а толпу мародеров). Их загнали в реку и многих убили.
Какая версия верна — сказать сложно. Очевидно только одно — поход провалился из-за просчетов командования, неправильных решений прежде всего князя Дмитрия Ивановича. Историк А. А. Зимин считал, что Василий III трактовал проигрыш казанской кампании 1506 года своеобразно: государь решил, что во всем виноваты его удельные братья. Казанский поход 1506 года знаменателен тем, что это последний поход русской армии, когда ею командовали удельные князья. Больше общее командование им никогда не доверяли, они возглавляли максимум свои полки. Так казанские татары внесли свой вклад в низложение удельных порядков и построение единого «государства всея Руси»[84].
Представляется, что данная мысль не находит опоры в источниках. В них нигде не говорится, что виноваты удельные князья как таковые — речь идет о персональной полководческой неудаче Дмитрия Угличского. Ответственность за поражение в первом бою в равной степени лежит на Ф. Бельском, возглавлявшем великокняжеских детей боярских. Так что антиудельная позиция Василия III, на которую якобы повлияло поражение под Казанью, А. А. Зиминым сильно преувеличена. Речь должна идти о персонах — но не об удельном статусе этих персон.
К тому же оценка похода 1506 года как провального не вполне точна. Да, сама кампания была проиграна. Но должное впечатление на татар она произвела. Казанцы понимали, что Василий III проиграл сражение, но война еще далеко не окончена и русские придут под стены Казани снова. Поэтому уже в марте 1507 года хан прислал в Москву посольство «с грамотою, бити челом о том, чтобы князь великий пожаловал, проступок его отдал, а взял бы с ним мир». Выиграв кампанию 1506 года, татары сразу же стали искать пути к миру — пока не стало хуже.
Стороны помирились. Мухаммед-Эмин отпустил посла Михаила Кляпика, уцелевших купцов и запросил «братства, мира и дружбы», как было при Иване III. То есть протекторат России над Казанским ханством был восстановлен. Василий III мог торжествовать: военное поражение обернулось дипломатической победой. В январе 1508 года в Москву привезли грамоты, на которых Мухаммед-Эмин присягнул на верность московскому государю.
Татары были не единственными врагами Руси, которые, сами того не желая, помогали ей стать единой и сильной. Парадоксальнейшая ситуация сложилась на границе Московского государства и Великого княжества Литовского.
Здесь, в верховьях реки Оки, а также в междуречье Сейма, Сожа, Псела, на так называемых Северских землях, располагались удельные княжества: Новосильское, Бельское, Воротынское, Трубчевское, Новгород-Северское и другие, входившие в состав Великого княжества Литовского. В конце XV века именно здесь началось разрушение территориальной целостности Литовского государства: верховские князья стали переходить на сторону Ивана III и просить его подданства. Поскольку они были удельные, то с ними переходили и их вотчины. В течение нескольких лет, примерно с 1473-го (первый отъезд в Москву князя Семена Юрьевича Одоевского) и до 1503 года, Великое княжество Литовское лишилось практически всех Верховских и Северских земель. Попытки отстоять их силой оружия ни к чему не привели: Иван III цепко держал то, что упало ему в руки. Русско-литовские войны 1487–1494 и 1500–1503 годов Литва проиграла.
Ученые спорят, почему вдруг верховские князья решили перейти в подданство Москвы. Одно время популярной была религиозная мотивация: мол, князья были православными, не желали мириться с дискриминационными порядками католической Литвы и по зову сердца стремились в Россию, где торжествовала православная вера. Тем более что именно такое оправдание этим откровенным территориальным аннексиям приводится в московских летописях, на страницах которых Иван III выступает всего лишь защитником и покровителем православия, отозвавшимся на крик о помощи жителей Великого княжества Литовского, которых принуждали к обращению в католичество.
Но проблема в том, что, во-первых, в Великом княжестве Литовском в конце XV — начале XVI века особых гонений на православных не было. Проект унии католиков и православных так и остался проектом в умах виленских католиков-интеллектуалов. Во-вторых, в некоторых грамотах об отъезде (например, «отказной» Семена Воротынского) нет указаний на религиозную подоплеку событий. В случаях же, когда князья упоминают, что литовский правитель «хочешь твоя милость наш закон греческий сломати… а хочешь… силой перевести в римской закон» («отказная» Семена Ивановича Бельского, 1500 год), перед нами явная пропаганда. Князья говорили то, что от них хотелось услышать их новому господину, Ивану III. Никаких объективных свидетельств религиозных гонений на православие в Верховских землях в этот период не зафиксировано[85].
Историк М. М. Кром обратил внимание на следующий мотив «отъездов» верховских князей: они были одними из немногих землевладельцев Великого княжества Литовского, имевших удельный статус и очень дороживших им. Ощущение себя господином, пусть на маленьком, но уделе, составляло их особую гордость и смысл существования. Но литовское правительство, как и правительство России, наступало на удельные права, стремилось ликвидировать этот «пережиток средневековья» и, в частности, пыталось ограничить «право отъезда» и право службы по специальным договорам («докончаниям»)[86]. Для удельных правителей эти права были системополагающими, составляли гарантию их независимости. А их утрата означала гибель, превращение в обычных служебников, что для удельных правителей было равносильно вырождению.
И вот тут-то на пылающем грозными красками политическом небосклоне верховских князей появляется государь всея Руси Иван III. Послы которого рассказывают, как он уважает удельных князей. И что их удельный статус для него — святое. Особенно «право отъезда» — если князья воспользуются им и отъедут из Литвы в Россию. Он им за это не только вотчины на удельном статусе сохранит, но еще и новых земель пожалует…
Возник исторический парадокс: ликвидатор удельной системы и создатель единого Русского государства Иван III завлекал верховских князей тем, что подчеркнуто гарантировал их удельные права и удельный статус! И они, поверив в это, ехали с вотчинами на Русь, смотря на нее как на спасительную землю, на которой можно будет сохранить заветную «старину». Сохранят они ее ненадолго: практически со всеми разделается сын Ивана III Василий. В 1520-е годы система будет почти полностью ликвидирована, а отдельные редкие уделы, имевшие сложную судьбу и в том или ином виде теплившиеся еще при Иване Грозном (например, Новосильский), уделами уже были чисто формально. Их правители, чьи родственники на практике познакомились с московской плахой, о каких-то там высоких статусах и феодальных правах уже не помышляли…
Таким образом, сыграв на удельных амбициях верховских князей, Иван III включил их земли в состав Русского государства, сделав еще один шаг к созданию единой великой «всея Руси». Приезжали они при Иване III. Но расхлебывать проблему этих недобитых удельных правителей предстояло Василию III. Чем он и занялся с первых дней своего правления.
Отношения с Литвой сразу же стали развиваться в новом контексте. В ночь на 20 августа 1506 года умер великий князь Литовский Александр Казимирович. Поскольку он был женат на сестре Василия Елене, был призрачный, но шанс побороться за литовский престол. Московский государь пишет Елене, чтобы она организовала «хотение» его на трон. Аналогичные грамоты были посланы крупнейшим магнатам Великого княжества, епископу Виленскому и совету знати — раде панов.
Понятно, что кандидатура Василия III вряд ли могла рассматриваться всерьез — скорее это был политический жест, чтобы добиться каких-то уступок на дипломатическом поприще. Обращение было безрезультатным: паны избрали королем следующего Ягеллона, Сигизмунда, вошедшего в историю под именем Сигизмунда I Старого (1506–1548). 20 августа 1506 года он прошел церемонию элекции и 20 января 1507 года был коронован.
Таким образом, в двух соперничающих государствах почти одновременно сменились правители. Смена правителя всегда давала повод оспорить предыдущие отношения. Тем более что повод для войны было найти легко.
Войны того времени делились на две категории: официальные межгосударственные, которые объявляли монархи, в которых участвовали государственные войска и которые имели дипломатическое оформление (список претензий, перемирные грамоты и т. д.). И была непрекращающаяся война населения пограничья. Целые поколения по обе стороны границы вырастали на том, что доблестью считалось сходить за рубеж и ограбить соседа: увести скот, свести крестьян, спалить деревеньку, элементарно ограбить. Для приграничной молодежи это было что-то вроде инициации — убей, ограбь, изнасилуй и тем стань взрослым мужчиной…
Инструкции и московских, и литовских дипломатов полны описаний таких набегов и нападений, которые систематически совершало приграничное население с обеих сторон. И Александр Казимирович начал свои отношения с Василием именно с подобных претензий. Первое литовское посольство к Василию Ивановичу заявило, что «…у королевских купцов на Москве товары грабят и их самих бьют и грабят, и государевы пограничные люди („украинники“), несмотря на перемирие, нападают и вступают в земли и воды». Следующий посол, Григорий Горемыка, к этим обвинениям присовокупил укрывательство беглых: мол, из Полоцкой и Витебской земель в Россию бегут люди, а их обратно не выдают, покрывают и защищают[87].
Посольство Сигизмунда I во главе с Яном Миколаевичем Радзивиллом, посланное после смерти великого князя Александра Казимировича в марте 1507 года, обвинения уже конкретизировало: «Государевы люди волости их смоленские позанимали, Ельню, Ветличи, Руду, Щучье, и помещики дорогобужские беспрестанно людей в плен берут, и угоняют, и разбойничают, и крадут, и многие обиды чинят». В ответ дипломаты Василия III предъявили претензии, что литовские люди… захватили Ветличи, Руду, Щучью, которые принадлежат «государеву слуге», выехавшему из Литвы князю Семену Бельскому. Этот театр абсурда, когда стороны обвиняли друг друга в захвате одних и тех же населенных пунктов, делал переговоры бесперспективными.
Зато появился повод для перерастания пограничного конфликта в большое столкновение. В марте 1507 года третья «порубежная война» началась. Литовцы атаковали окрестности Брянска и сожгли Чернигов. Василий III, в свою очередь, в июле послал громить литовские земли и жечь села князей Ф. П. Сицкого (в районе Северских земель) и И. М. Телятевского (из Дорогобужа). В сентябре полки под командованием В. Д. Холмского и Я. Захарьина сожгли посад Мстиславля.
Этот сценарий развития войны, в общем, был для Сигизмунда неопасен. Стороны повоюют в пограничье и сядут за стол переговоров. Но все изменилось после того, как поднял мятеж князь Михаил Глинский. В случае его перехода на сторону Василия III он мог увести с собой многие земли Великого княжества Литовского. А это, учитывая возможные масштабы мятежа, была бы уже катастрофа.
Михаил Львович Глинский — личность необычная. Он 12 лет прожил в Италии и стал убежденным католиком. Воевал в армии саксонского курфюста Альбрехта. Дружил с магистром Тевтонского ордена Фридрихом (1498–1510). Путешествовал по Франции и Испании. В Литве занимал высокие должности — «дворского маршалка» (то есть командира придворных войск) и затем — наместника Бельского. Он был явным фаворитом и первосоветником при Александре Казимировиче. От Михаила не отставали братья: Иван Глинский держал Киевское воеводство, Василий — староство Берестейское.
Смерть короля — всегда крушение надежд для фаворита. Михаилу Глинскому не нашлось места среди людей, приближенных к новому королю Сигизмунду I. Глинский тут же встал на путь измены: он обратился с просьбами к венгерскому королю Владиславу и крымскому хану Менгли-Гирею, чтобы они «вразумили» Сигизмунда и заставили его вновь дать Михаилу Львовичу должность маршалка. Что интересно, оба монарха пошли навстречу и даже стали грозить королю, что ему будет плохо, если он не удовлетворит карьерные амбиции Глинского. Сигизмунд же четко понимал, что ему будет плохо, если он их удовлетворит: судя по замашкам, князь Михаил вряд ли бы остановился на должности маршалка, а претендовал бы если не на корону (в чем, кстати, его подозревали современники), то уж на место фаворита и первосоветника точно. Король проявил стойкость, и разозленный Глинский 2 февраля 1508 года поднял мятеж.
Но князь оказался неудачником. Он затеял штурм Ковно, где в заточении сидел бывший хан Большой Орды Ших-Ахмет. Захватив Ших-Ахмета, личного врага крымского хана Менгли-Гирея, Глинский получал бы прекрасную возможность для политического торга. Он мог бы продать голову последнего ордынского хана в обмен на военную помощь Крыма. Но гарнизон Ковно отразил штурм.
После этого Глинский заметался. Что делать дальше, он не очень представлял. Поскольку нужен был хоть какой-то успех, он ведет отряд бунтовщиков, насчитывавший две тысячи человек, к Новогрудку. Новогрудком управляет Иван Глинский, который, естественно, сдает город, и возникает иллюзия перехода под знамена мятежников древней литовской столицы. После этого князь Михаил думал пойти на Вильно, но узнал, что там приведены в готовность войска, и побоялся повторения провала под Ковно. Тогда центр мятежа сместился под Туров, в старые владения рода Глинских.
Михаил Львович пытается договориться с королем и панами рады, на каких условиях он прекратит мятеж. Одновременно в марте 1508 года начинаются переговоры с Василием III о переходе в его подданство. Кто проявил здесь инициативу — неясно. Так или иначе, Василий III пообещал отдать Глинским в удел все земли, которые они завоюют в Великом княжестве и передадут России, — опять сработала та парадоксальная модель поощрения удельной системы, о которой мы говорили выше. Восстание Глинских открывало перед Россией новые и очень соблазнительные перспективы развития русско-литовской войны…
Но фортуна полководца отвернулась от Михаила. Он сумел взять только Мозырь, да и то потому, что его сдал наместник, родственник Глинских Якуб Иванцешевич. Осады Минска, Слуцка, Кричева, Орши, Мстиславля, возможно, также Житомира и Овруча были неудачными. Мятежникам удалось всласть пограбить села в Киевской земле, но захваченные в деревнях трофеи вряд ли можно было положить к ногам Василия III. Бунтовщики вели себя как будто в чужой стране: жгли имения, грабили, убивали ни в чем не повинных крестьян и горожан. При этом католик Глинский объявил себя защитником православия, надеясь, что это привлечет в его войско православных русинов и что этот лозунг понравится Василию III. Это было чистой воды лицемерие и особого эффекта не дало: лозунги защиты православной веры плохо сочетались с сожженными и разграбленными людьми Глинского православными деревнями на Киевщине и под Полоцком[88].
Между тем война шла без особого успеха для обеих сторон. Весной 1508 года по приказу Василия III московские и новгородские дети боярские ходили походами в Литву, разоряли окрестности Вильно, потом ушли к Брянску. Летом московские войска действовали под Оршей, Торопцом, Дорогобужем. Было занято несколько мелких крепостей. Король, выступивший против русской армии к Орше и Смоленску, запросил мира.
Ставка на Глинского провалилась: он не смог «привести» с собой вообще никаких земель, чем сильно раздосадовал Василия III: выезжие литовские князья при Иване III меньше обещали, зато больше делали, а тут такие прожекты — и столь бесславный провал… В августе 1508 года Глинский с родственниками бежал в Москву и получил в вотчину Ярославец, а в кормление — Боровск. Довольно жалкий итог для человека, мечтавшего править Великим княжеством Литовским.
19 сентября в Москве начались русско-литовские переговоры, и 8 октября заключен очередной «вечный мир». Интересно, что Россия вернула Великому княжеству Литовскому те самые города, вокруг которых шел спор накануне войны: Руду, Ветлицы, Щучью, а также Вержавы и Буйгород. Зато при этом Великое княжество согласилось с утратой Северских и Верховских земель, потерянных в ходе войн 1487–1494 и 1500–1503 годов.
Тем самым Василий III поставил точку в литовских делах Ивана III. Захваты, сделанные государем всея Руси, были узаконены. Ну а о Михаиле Глинском и его деяниях уже в качестве служебника Василия Ивановича речь еще пойдет впереди…
Рост амбиций Крымского ханства в первые годы правления Василия III был еще одним наследством, которое в каком-то смысле оставил своему сыну Иван III. Наследством, конечно, незапланированным и неожиданным. Крымским правителям не давали покоя лавры Чингисхана и Батыя. Они сами хотели быть «великими царями великой Орды». В 1502 году крымцы разбили Большую Орду. Менгли-Гирей приказал в честь этого события выбить на мавзолее своего отца, Хаджи-Гирея, слова: «Помощь Бога и быстрая победа». Но именно с этого времени, как уже говорилось выше, в Крыму пересматривают отношение к России — татары не хотели расторгать союз, но видели в России уже не равноправного партнера, а вассала Великой Орды, платящего дань и посылающего свои войска в бой по приказу хана. То есть предполагалось реанимировать традиционную, многовековую модель русско-ордынских отношений, от которой Русь окончательно избавилась только в 1480 году. Еще посла Ивана III, Мамонова, в 1500 году на переговорах заставляли произнести слова: «Уш баштанды», то есть: «Царево слово на голове держу», что значит — повинуюсь.
С этой проблемой и столкнулся Василий III. Поначалу вроде бы ничего не предвещало беды. Именно Крымское ханство было первым государством, к которому уже 7 декабря 1505 года, то есть всего спустя менее двух недель после восшествия на престол, Василий III отправил свое посольство. 1 августа 1506 года из Крыма приехали послы Казимир Кият и Магметша, которые сперва пытались предъявить новые проекты грамот, регулировавших русско-крымские отношения, но в результате жестких переговоров все же присягнули на русском варианте.
Но уже 20 августа ситуация изменилась: умер великий князь Литовский Александр Казимирович. Менгли-Гирей решил поставить отношения с новым правителем Литвы на принципиально новую основу. 2 июля 1507 года он вьщал Сигизмунду I ярлык на целый ряд территорий и городов Восточной Европы, «милостиво разрешив» владеть ими. Пикантность документа была в том, что это были русские города: Новгород, Псков, Рязань, Переславль, Тула, а также города, недавно отнятые Россией у Литвы, — Чернигов, Путивль, Рыльск, Стародуб, Брянск и т. д.[89]
К складывающейся антирусской коалиции тут же присоединилась Казань. Послы Мухаммед-Эмина буквально обивали пороги Бахчисарая и Вильно. Ситуация была тем неприятнее, что переговоры с Крымом начал стародубский и новгород-северский князь Василий Шемячич, что реально грозило потерей Северских земель, только недавно присоединенных Россией. Если князья-перебежчики из Северских и Верховских земель почувствуют слабину Василия III, то все тщательно выстраиваемое здание «всея Руси» может посыпаться.
В июле 1507 года крымцы впервые нанесли удар по русским землям — Белеву, Одоеву и Козельску. Противника, однако, удалось полностью разбить, полон освободить. Татар преследовали до реки Рыбница (правого притока Оки). С этого года почти на 250 лет начинается непримиримое военное противостояние России и Крыма (последний набег крымских татар был в 1769 году).
Здесь надо рассказать о том, что представлял собой новый враг Руси в военном отношении. Система организации татарской армии была десятичной. Низшим подразделением был десяток. Командир — десятник — подзывал воинов, ударяя в маленький барабан или дуя в свисток. Далее следовали сотни, тысячи и орды. Последним термином назывался отряд от 10 до 40 тысяч человек, возглавляемый племенным князем — мирзой.
В крымском войске была пехота, но малочисленная. Это были либо солдаты из бывших генуэзских крымских городов (их отряд насчитывал до восьмисот человек), либо турецкие янычары на службе у хана. Пехота была вооружена саблями, кинжалами и огнестрельным оружием. Но реальной роли в походах она не играла. Ее сферой были придворные церемониалы, охрана хана и его семьи и порой участие в дворцовых переворотах. Артиллерия также не играла почти никакой роли, хотя в походах, особенно предназначенных для осады крепостей, могли участвовать турецкие артиллеристы.
Основу армии составляла легкая конница. Воины были вооружены саблями и луком со стрелами (обычный боезапас — 18–20 стрел), иногда — легкими копьями (порой даже в виде обожженных на огне заостренных тонких деревянных кольев). В XVI веке на вооружение начинает поступать и огнестрельное оружие — ружья и пистолеты, но их было мало. В целом культура вооружения татар для армии XVI века была невысокой. Зато тем немногим, что было на вооружении, татары владели виртуозно. Они были превосходные стрелки из лука и искусно владели саблями в конном бою. Чтобы устрашить врага, татары иногда привязывали к запасным коням чучела людей, и издали казалось, что татарское войско вдвое или втрое больше, чем было в действительности.
Татары почти не имели защитного вооружения. Доспехи — кольчуги, наручи, железные перчатки, шлемы — были распространены слабо, только у богатых воинов, у командиров и у гвардии хана — так называемых сейманах. Основная же масса воинов была одета в одежду из черных бараньих шкур, которую носила шерстью вверх. Такое косматое войско производило на врага своим диким видом устрашающее впечатление. Кроме того, всадники имели капуджи или табунчи — бурку, к которой прилагалось несколько жердей. В походе татарин сооружал из нее некое подобие палатки или шатра для ночлега.
У татар почти не было специализированных войск. Исключение составляли особые отряды, предназначенные для поимки пленных и сборов трофеев. Они не участвовали в боевых действиях. Их главным оружием были веревки и арканы — веревочные лассо, с помощью которых они ловили и вязали беззащитных пленников. Также особыми подразделениями были военные разведчики, набираемые в основном из представителей северокавказских народов, главным образом из пятигорских черкесов. Культура разведки была у татар развита очень высоко: они умели проникать далеко вглубь предполагаемой линии соприкосновения с врагом, брать «языков», заманивать врага в ловушку с помощью маленьких отрядов — «живцов», проводить войско по намеченному разведкой маршруту с помощью системы караулов и постов и т. д.
Татарские походы были двух типов: нашествия во главе с ханом или его старшим сыном (калгой) и так называемые беш-баши — мелкие грабительские набеги отдельных князей и мурз. В походе татары продвигались тремя колоннами — главные силы, правое и левое крыло. Именно крылья, дробясь на более мелкие отряды, делали грабительские налеты на деревни и окрестности городов. В случае опасности они моментально «рассыпались» на более мелкие отряды и разными путями отходили к главным силам.
В бою татары применяли следующую тактику. В полевом сражении они стремились атаковать первыми. Удар почти всегда был первоначально направлен на охват левого фланга противника. Атака именно левого фланга врага была обусловлена тем, что при его охвате татарам было удобнее стрелять из лука — справа по левому флангу. Тактики сомкнутого копейного удара легкая татарская конница не знала. В бою татары разбивались на небольшие отряды, максимум в три-четыре тысячи, которые, сменяя друг друга, непрерывно налетали на вражеский строй. Они обстреливали врага из луков и стремились расшатать боевое построение, выдергивая на арканах воинов из передней шеренги. Расстреляв боезапас и потрепав боевой порядок неприятеля, татарский отряд бросался в бегство. Если противник обманывался этим и начинал преследование, то скоро попадал в засаду. Если же он стоял и держал строй, то за одним татарским отрядом налетал другой, потом третий, четвертый и т. д., и тем самым получалась как бы непрерывная атака свежими силами. Она длилась, пока враг не дрогнет и не побежит. Сами татары называли такую тактику боя «пляской». Русские воины называли такой способ атаки «лавой» и быстро сами научились его применять. Целью «пляски» было опрокинуть фланг противника, обратить его в бегство, сломать строй и вынудить к беспорядочному отступлению.
Татары часто осаждали города, но военная культура осады у них упала по сравнению со временами Золотой Орды. Они редко использовали артиллерию. В основном при осаде применялась простейшая тактика непрерывного штурма, когда на стены идут отряд за отрядом. Но татары предпочитали не связываться с хорошо укрепленными крепостями. Если не было возможности их поджечь, уморить осажденных голодом или взять город обманом или изменой, то татары чаще дотла разоряли городскую округу, изображая осаду и штурм только для устрашения и сковывания сил противника.
Главным достоинством татарской военной системы была высокая мобильность армии, которая достигалась тем, что каждый воин имел от двух до пяти сменных лошадей особой, татарской породы (пахмат). Это были лошади с приземистой шеей, низкорослые, неприхотливые в питании (могли есть кору деревьев и копытами добывать пожухлую траву из-под снега). Они были очень выносливы — суточный переход на таких конях составлял до 100 миль, и они могли держать такой темп передвижения три-четыре месяца. Незадолго до похода татары сгоняли коней в одно место и 40 дней откармливали ячменем, но непосредственно перед выступлением не кормили, так как голодные кони легче смирялись с нагрузками и усталостью. Особенностью татарской конницы было то, что лошадей не подковывали или подковывали своеобразными подковами из бычьего рога, которые просто привязывали к копытам.
Татарская конница сперва выступала в поход медленно, даже, в соответствии с мусульманскими обычаями, пять раз в день совершалась молитва (намаз). За это время проводилась разведка и уточнялся маршрут похода. Зато когда он был утвержден, войско шло стремительно, пренебрегая остановками на молитву. Кони связывались веревками за хвосты, чтобы держать строй и подтягивать отстающих. Если кто-то, конь или человек, случайно спотыкался и падал под копыта, то его затаптывали насмерть: несчастный случай не был поводом, чтобы хоть на секунду остановить продвижение войска.
Интересно, как татарское войско питалось в походе. Сменные лошади были не только запасным средством передвижения, но и пищевым запасом. Конина считалась любимой пищей. В поход брали сушеную и вяленую конину. Но если лошадь в походе околевала, это воспринималось как источник хорошего питания. Татарин отдавал внутренности и потроха своему начальнику, а сам нарезал мясо полосами по три — пять сантиметров толщиной, привязывал на спину живой лошади под седло и ехал два-три часа. Потом мясо переворачивалось, смачивалось конской пеной — и снова ехали два-три часа. Получившийся продукт считался тушеным мясом, деликатесом, который охотно употребляли в пищу. Соли при этом использовали очень мало — татары считали, что от нее слабнет зрение, столь необходимое стрелкам из лука.
Кроме того, потреблялись изделия из гороховой, ячменной или хлебной муки и из кислого творога (тогурта). Их ели как в виде сухарей, так и лепешек. Также воин брал с собой запас ячменя или проса, поджаренных и смолотых в муку. Ее разводили водой или конской кровью и ели (это называлось толокно или толкан).
Третий вид наиболее распространенных в армии продуктов изготовлялся из конского молока. Это и кисломолочный напиток — кумыс, и сухое молоко, и сухой сыр. Сыр в походе крошили в воду. Фляга с водой, в которой плавали куски сыра, висела на татарском седле. Во время езды она сотрясалась, содержимое фляги взбалтывалось и получался своеобразный сок из сыра, который и пили.
Турецкий путешественник Эвлия Челеби в XVII веке дал характеристику крымским татарам и их роли среди мусульманских народов, которая вполне приложима и к XVI веку: «В какую бы сторону они ни обратились, они всегда выходят победителями и приносят в землю неверных беспокойство и суматоху. Все неверные в своих странах боятся татар… На все четыре стороны света они идут на государства неверных, обреченных попасть в ад, грабят их и уводят, стенающих, в плен. Они захватывают детей и взрослых, жен и дочерей. Пленников с разбитыми сердцами и связанными ногами они всячески мучают, кормят их конской кожей, внутренностями и кишками. Всех неверных с детьми и родственниками они отправляют в земли ислама, где те удостаиваются счастья быть обращенными в мусульманство… Татарский народ — это народ беспощадный. С помощью Бога они стали мощной преградой рода османов, и со всеми неверными они ведут битвы, сражения, войны и смертоубийства».
Войны и смертоубийства на южном направлении в течение всего XVI века были составной частью русской истории. Остановить их можно было только грубой силой. Силой русского оружия. Поражение в первом же набеге несколько смутило Менгли-Гирея. В августе 1508 года он подписал с Россией мирное соглашение и в 1510 году совершил набег на своих недавних союзников — Великое княжество Литовское. Остановить наступление татар король смог только откупом — в 1511 году в Крым из Литвы привезли 4500 золотых. В обмен на эти деньги Сигизмунд I просил татар напасть на Русь… Началось то, что историки в будущем назовут «крымским аукционом»: хан торговался то с Москвой, то с Вильно, вымогая деньги и политические выгоды под угрозой военного нападения. Сфера была весьма доходной, недаром «аукцион» бесперебойно работал весь XVI век…
Первые политические вызовы были Василием III пережиты с разной степенью благополучности. Казань стала проблемой на востоке, Крым — на юге. Михаил Глинский не смог снабдить Россию очередной порцией земель Великого княжества Литовского, зато эмигрировал сам. Все это было далеко от успеха, но в то же время некритично. В начале XVI века на татар как на врагов в России уже смотрели спокойно. Русские знали, что их можно и должно бить. Ну, новые враги, ну, будем воевать — что тут необычного и страшного для московского боярина или тульского служилого конника? Тем более что русско-литовская война 1507–1508 годов все же закончилась дипломатической победой России, да и Казань поспешила попросить прощения… В поражении мятежа Михаила Глинского был и свой оттенок приятности — если бы он прибыл в Россию в блеске славы победителя, а не униженным пораженцем и смиренным просителем, то мог доставить великому князю куда больше неприятностей.
Василий III мог перевести дух. Самое время было оглядеться вокруг, прислушаться к себе: а каково это — быть великим князем и государем всея Руси? Поэтому приглашаем читателя порассуждать о том, как же жили в начале XVI века московские монархи. О чем думали, что было предметом их переживаний, горестей и радостей? Как строили распорядок своей жизни? О чем беспокоились в первую очередь, о чем в последнюю? Ведь не о крымских же татарах, в самом деле, Василий III размышлял с утра до ночи!
Прежде всего, попробуем описать, так сказать, повседневную среду обитания Василия III. Великий князь жил или в Кремле, или в одном из своих великокняжеских сел-резиденций. Сохранившийся до наших дней Московский Кремль строился итальянскими мастерами под началом Антонио Джиларди (Антон Фрязин русских летописей), Пьетро Антонио Солари (Петр Фрязин) и Марко Руффо (Марк Фрязин) как раз в конце XV — начале XVI века, в 1485–1516 годах. Стены белокаменной крепости эпохи Дмитрия Донского (1359–1389) были перестроены и обложены красным кирпичом. Общая протяженность стен — 2235 метров, высота от 5 до 19 метров, толщина — от трех с половиной до шести с половиной метров. Твердыня образовывала неправильный треугольник с девятнадцатью башнями по периметру (девятнадцатой, последней, была Кутафья, предмостное укрепление, вынесенное за линию стен).
Мы можем себе представить Кремль того времени, если мысленно заменим у современных кремлевских башен их каменные и черепичные шатровые навершия (построены в конце XVII–XIX веке) на традиционные древнерусские деревянные шатровые крыши. А вот вид стен более похож на изначальный. Они сразу же были ограждены парапетом и зубцами-мерлонами по типу «ласточкин хвост», толщиной 65–70 сантиметров, высотой 2–2,5 метра. Ширина боевого хода по стенам была от двух до четырех метров. Чтобы на стенах не образовывались лужи и стража не хлюпала бы по ним весной и осенью, на всем своем протяжении стены снабжены по бокам боевого хода стоками воды в виде желобов и труб. Всего на стенах Кремля сегодня, после всех перестроек, сохранилось 1045 зубцов.
Именно эту картину и мог наблюдать в окно своего терема Василий III: краснокирпичные стены, грозные сутулые башни с деревянными крышами, яркие кафтаны дворцовой стражи на стенах. Перекрикивание часовых было неотъемлемым звуковым фоном в Кремле и днем, и ночью. По ночам на стенах, видимо, горели факелы, освещавшие как боевые ходы, так и подходы к крепости. Они создавали световой фон, как бы проводя ту черту, которая отделяла темную Москву (уличного освещения еще не существовало) от великокняжеского мирка. И эта граница тьмы и света была глубоко символичной. Мало того, с 1503 года по ночам московские улицы перекрывались решетками — чтобы затруднить передвижение по ним ночных воров и разбойников. То есть они были не только темными, но и труднопроходимыми[90].
Здесь важна и цветовая гамма: краснокирпичный Кремль с белыми соборами с золочеными куполами резко выделялся на фоне остальной Москвы — летом зеленой из-за насаждений, зимой — белой, заснеженной, а весной и осенью — темно-коричневой, по цвету деревянных построек и темных стволов деревьев. Для средневековья характерно восприятие ярких светлых тонов как атрибута могущества, власти, богатства. И красный Кремль в полной мере выполнял задачу прославления его владельцев.
Василий III приложил некоторые усилия в подчеркивании особости жилья московских князей, его отделенности от остального города. При нем в 1508–1516 годах был прорыт крепостной ров со стороны Красной площади от реки Неглинной до Москвы-реки. Его ширина была 32–34 метра, глубина 10–12 метров. Дно великий князь приказал выложить белым камнем. Кремль стал островом посреди Москвы. Теперь зрелище стало еще эффектнее: горящие факелы отражались в темной воде рва. Попасть к великому князю можно было только через подъемные мосты в проездных воротах.
Важнейшее место в кремлевском комплексе занимали церкви. Главным храмовым комплексом была Соборная площадь, куда выходили фасады дворца Василия III и Грановитой палаты. Здесь стояли три собора: Успенский (1475–1479), Архангельский (1505–1508) и Благовещенский (1485–1489). Напротив до 1505 года находилась каменная церковь Иоанна Лествичника, вместо нее в 1505 году начали строить колокольню Ивана Великого (ее строительство растянется почти на весь XVI век).
В Кремле были два монастыря — мужской Чудов (основан в 1365 году) и женский Вознесенский (основан около 1386 года); существовавший Вознесенский собор (1407–1467) был перестроен по приказу Василия III в 1519 году. Третий монастырь — Спасский — в конце XV века был перенесен за пределы Кремля (так возник московский Новоспасский монастырь), а его Спасский храм (1330) стал дворцовой церковью. В нем от монастырского времени остались захоронения жен великих князей XIV века.
Все эти храмы и монастыри были не только местами святости, молельными центрами — они были еще и местами памяти. Это были памятники важнейшим персоналиям русской истории и великокняжеского дома Калитичей. Василий III жил рядом с усыпальницей своих предков и церковных иерархов.
В Успенском соборе лежали внук Александра Невского и второй после Даниила Александровича князь Московского княжества Юрий Данилович (1303–1325), митрополит Петр (1308–1326), перенесший митрополичью кафедру в Москву, и его преемники Феогност (1328–1353), Киприан (1390–1406) и Фотий (1408–1431). Здесь же захоронен первый русский автокефальный митрополит Иона (1448–1561), с чьим именем связано обретение Русской православной церковью самостоятельности от Византии. Одно обращение к памяти этих людей, своими подвигами строивших Великую Русь, дисциплинировало и заставляло быть лучше. Великая история строительства «древа Государства Российского» была воплощена в надгробиях главного собора страны.
В 1508 году был освящен Архангельский собор, ставший пантеоном великокняжеского дома Калитичей. По верному замечанию Т. Д. Пановой, даже сама схема размещения могил в родовой усыпальнице московской великокняжеской семьи отражала сложные взаимоотношения, борьбу и распри в княжеском доме[91]. Великие князья лежали вдоль более почетной, южной стены, удельные — в стороне, вдоль западной. Древнейшим захоронением была могила Ивана Калиты, устроенная еще в первом Архангельском соборе (1333 года), позже возведенном заново. Здесь лежали все великие князья от Ивана Калиты до Ивана III.
Погребения были и в других храмах. Рождественская церковь (1393 года, перестроена в 1514 году) с приделом Воскрешения Лазаря стала храмом-памятником дочери Дмитрия Донского Марии. В соборе Чуда архистратига Михаила Чудова монастыря похоронен соратник Дмитрия Донского митрополит Алексий (1355–1378). Вознесенский монастырь в XV–XVI веках был женским великокняжеским некрополем.
Эта жизнь по соседству с пантеоном и погостом создавала особый духовный микроклимат при дворе. Весь род был здесь, в одном месте. Предки и Святители Земли Русской смотрели на дела потомков ежеминутно, ежечасно. Некоторые из них были канонизированы. Это повышало чувство ответственности перед Богом, Святыми и Святителями, предками. История восхождения рода Калитичей к власти все время была перед глазами, и допустить ее «поруху» было недопустимо.
Архитектурным воплощением власти монарха является его дворец. В 1499–1508 годах Алевиз Фрязин (Миланец) построил в Кремле для государя каменные палаты. Василий въехал в них 7 мая 1508 года. Фасад дворца выходил на Соборную площадь Кремля, со стороны Благовещенского собора. Здесь стояли две палаты — Большая (современная Грановитая) и Средняя (между Большой и Благовещенским собором, с 1517 года — Средняя Золотая). Перед Средней палатой находилось Красное крыльцо (Верхние, или Передние переходы), игравшее роль своеобразной «диспетчерской». С площади на него вели три лестницы, рядом с одной из них были ворота — проезд внутрь собственно дворцового комплекса. Позади Средней палаты возле церкви Спаса на Бору стояла Столовая изба. Через переходы и крыльцо Столовой избы можно было пройти вниз по направлению к Москве-реке к третьей крупной палате — Набережной. По линии вдоль реки внутри кремлевской стены стояли чердаки, или деревянные терема. Внутри этого комплекса, стены которого образованы от Москвы-реки Набережной палатой и теремами, от Соборной площади — Большой и Средней палатой и от Неглинной — кремлевской стеной, располагался Спасский Преображенский собор.
Рядом с ним находились Постельные покои великого князя и княгини, на месте которых в 1635–1636 годах был возведен кремлевский каменный Теремной дворец, сохранившийся до наших дней. В его фундаментах, возможно, сохранились какие-то следы дворца Василия III. При нем каменным, видимо, был подклет дворца, а жилые помещения располагались в деревянных верхних, теремных этажах. Площадка с крыльцом между дворцом и Грановитой палатой в XVII веке называлась Постельным крыльцом. Здесь нередко провозглашались самые свежие государевы решения (чаще всего о кадровых назначениях), зачитываемые с Верха, то есть из комнат государя. По крайней мере, такая практика была в XVII веке, возможно, она восходила к более ранним временам. Здесь же, в подклете под крыльцом, вероятно, располагалась арестантская комната (по крайней мере, она была там в XVII веке, когда ее называли старой жилецкой комнатой и в ней наказывали дворян, уличенных в неправильных местнических спорах). Где-то здесь также находились комнаты, в которых на великокняжеском содержании жили бомжи XVI века — нищие и странники, государевы богомольцы.
С восточной стороны дворовый комплекс замыкала Наугольная палата (впервые упоминается в 1526 году), выдвинутая в направлении Успенского собора. Позади Рождественской церкви стоял Поваренный дворец, назначение которого очевидно из названия. Таким образом, кремлевский дворец Василия III представлял собой трапециевидный в плане комплекс каменных и деревянных зданий, палат и церквей, соединенных по периметру переходами и крыльцами. Здесь, несомненно, чувствовалось влияние итальянских архитекторов с их идеей палаццо.
Кроме кремлевского, у Василия III были так называемые путевые дворцы — специальные дома, в которых он останавливался на выездах из столицы. Предполагают, что остатки такого дворца в сильно перестроенном виде сохранились в фундаментах здания по Старой Басманной улице. В начале XVI века это было уже за пределами Москвы. Деревянный дворец на каменном фундаменте был у Василия III в подмосковном селе Воробьеве (ныне на Воробьевых горах стоит Московский государственный университет). Какие-то дворцовые загородные постройки, видимо, имелись и в Коломенском.
Нам неизвестна степень внешнего декора стен и крыш дворца. Свидетельства об этом относятся только ко второй половине XVI–XVII веку. В это время стены покрывались яркими красками, узорами и надписями золотой и серебряной краской, каменной и деревянной резьбой, орнаментами, барельефами. Дворцовые постройки выглядели яркими, нарядными, богатыми, гармоничными. Мы можем только предполагать, что какие-то подобные элементы были и при Василии III, но ничего конкретного здесь сказать невозможно.
Кремль того времени представлял собой как бы большой господский двор огромной (во «всю Русь»!) государевой вотчины. Но, помимо масштабов и итальянской архитектуры, принесенной в Москву при Иване III, а также наличия больших каменных соборов, он принципиально не отличался от других крупных вотчинных дворов. Здесь важно подчеркнуть мысль, высказанную знаменитым знатоком древней Москвы, выдающимся отечественным историком И. Е. Забелиным: в эту эпоху между населением и правителями еще не было столь гигантской пропасти, которая образовалась в XVIII–XIX веках. Он писал: «…как ни были широки и царственны размеры быта, усвоенные по этому пути московским государем, в общих положениях быта и даже в мелких частностях они нисколько не удалились от обычных исконных, типических очертаний русской жизни. Московский государь оставался тем же князем-вотчинником… вотчинный тип отражался на всех мелочах и порядках его домашней жизни и домашнего хозяйства. Это был простой деревенский… чисто русский быт, нисколько не отличавшийся, в основных чертах, от быта крестьянского, сохранявший свято все обычаи и предания, весь строй и все начала древней русской жизни в той ее форме, которая была выработана веками… для отдельного, независимого существования русской семьи, более или менее достаточной, зажиточной и домовитой. Сквозь великолепные по-азиатски, ослеплявшие блеском и богатством, декорации царственного сана виднелась до крайности простая и наивная, общая всему народу действительность…»[92]
У нас нет полных и подробных описаний Кремля этого времени, но известно, что там еще в конце XV века были традиционные трехъярусные терема, состоявшие из сеней, горниц, гридней, клетей, подклетов, повалуш, ледников, чуланов и т. д. Кроме них, здесь размещались те же самые жилые и хозяйственные постройки (избы, амбары и др.), что и на любом княжеском или боярском вотчинном дворе.
Непременным атрибутом жилых помещений была печь. Ее делали из кирпича-сырца и покрывали поливой, краской или изразцами. Чаще все печи имели синий или зеленый цвет. Видимо, жилые постройки великокняжеского двора (хотя, наверное, и не все) топились «по-белому», то есть дым от печи выводился через трубу. Но, несомненно, что было отопление и «по-черному», когда дым выходил через специальный дымник — вентиляционный выход под потолком через крышу, или узкие волоконные окна (которые закрывались — «заволачивались» — досками, а не стеклом или слюдой).
Внутри домов по периметру стен располагались лавки из толстых досок, покрытые суконными покрывалами (чаще всего — белыми, различными оттенками серого, красного и реже — зеленого), мехами и подушками. Сиденья могли обивать войлоком или делать специальные суконные полавочники. Под лавками находились шкафчики-рундуки и лари. На стенах вешали поставцы — большие ящики с полками без навесных дверей, вместо которых были занавеси. Кроме того, существовали многочисленные сундуки, лари, коробья и т. д., в которых хранились предметы домашнего быта. Особо надо упомянуть так называемые подголовки, известные в первой четверти XVI века, — небольшие сундучки, окованные железными полосами, которые ставились на лавки под голову. В них хранились ценности — важные бумаги, деньги, драгоценности.
Стены, потолок и пол были обшиты досками, на полу настилались ковры. В галереях, переходах, храмах пол мог быть каменным (кирпичным или плиточным) или железным. Двери были тяжелые, сплошные, деревянные, окованные железом или железные. Окна делались чаще всего из слюды, вставленной в металлические рамы, иногда — разноцветной или украшенной рисунками. Стекло было еще мало распространено, хотя его хорошо знали (как простое, так и цветное). Стеклянные рамы также чаще были железные со свинцовой замазкой. Однако были и деревянные рамы, как вынимающиеся, так и открывающиеся (подъемные), и волоконные окна — узкие щели, закрывающиеся доской. Поскольку ни слюда, ни стекло от морозов не спасали, широко были распространены вставки — деревянные щиты по размеру окна, которые могли быть обиты тканью, что-то вроде ставен. Вставки «втулялись» в оконный проем как снаружи, так и изнутри, крепились железными затворами. Изнутри двери и окна занавешивались разноцветными суконными завесами на железных кольцах и проволоке. В государевых покоях, кроме сукон, для всех вышеназванных целей использовали шелк, сафьян, бархат и т. д.
Государевы покои, особенно места официального приема, могли украшаться бытейским письмом — росписью плафонов и стен. От эпохи Василия III не сохранилось его описаний, все они относятся ко второй половине XVI–XVII веку. Между тем нет оснований отказывать в этой практике более раннему времени: известно, что палаты архиепископа Великого Новгорода были расписаны уже в 1432 году. Из наименования в 1514 году Средней палаты кремлевского дворца Золотой палатой следует, что она была расписана золотыми красками. Сюжет росписи неизвестен.
Разноцветные сукна и ткани, а также роспись были важными, но не единственными элементами декора помещения. Неменьшую роль играла посуда, которую выставляли напоказ, а также размещали на полках в поставцах. Недаром сегодня посетители Оружейной палаты — главной сокровищницы царской казны — видят столько серебряной и золотой посуды XVI–XVIII веков, в том числе подарков иностранных дипломатов (блюда, кружки, стаканы, кувшины и т. д.).
Наконец, надо сказать об освещении, потому что света от окон, которые так или иначе старались делать сравнительно небольшими (чтобы не выходило тепло), было явно недостаточно. Центральное освещение, особенно в приемных, обеспечивали висевшие под потолком паникадила, а в простенках между окнами размещались подсвечники. Их изготавливали из железа, меди, бронзы и драгоценных металлов и пытались всячески украсить литьем и чеканкой. В паникадилах и подсвечниках жгли восковые свечи. На ночь ношники — стоячие подсвечники — ставили в специальные медные коробья (что-то вроде подноса или большой сковороды), чтобы даже опрокинутая сквозняком свеча не наделала беды.
Собственно, жилище обычного горожанина и жилище аристократа отличались только степенью отделки помещения, дороговизной мехов и узорочьем ковров и полотен, наличием каких-то ярких экзотических вещей — например, дорогой посуды, шитых золотом тканей. Несомненно наличие в княжеских хоромах резной мебели. К 1490 году относится известие о приглашении во дворец из Италии органного мастера Ивана Спасителя, «каплана белых чернецов Августинова закона». Но был ли построен орган и существовали ли другие постоянные «музыкальные комнаты» при Василии III — неизвестно.
Какова была внутренняя структура хором и теремов? Несколько комнат образовывали постельные покои государя. Самая дальняя из них была собственно спальней, ложницей. Здесь главной была кровать — спальное место под кровом, шатром-балдахином. Взору лежащего навзничь государя открывалась украшенная вышивкой и драгоценными вставками внутренность шатра — этот «потолок» назывался небом. Как именно выглядела кровать Василия III, мы не знаем. Сохранились описания царских кроватей только с XVII века, и они поражают своей роскошью и искусством мастеров-резчиков, вышивальщиц и т. д. Недаром такое ложе было не стыдно подарить персидскому шаху (что сделал русский царь Алексей Михайлович в 1662 году).
Кровати имели несколько тюфяков в наматрасниках, взголовье (длинная подушка во всю ширину постели), несколько более мелких подушек, несколько вариантов одеял, простыней. Всё — из пуха, шерсти, лучших тканей. Вокруг кровати лежали ковры; рядом стояла колодка — специальная приступка, чтобы на это пышное сооружение, которое и постелью-то язык назвать не поворачивается, государю было бы легче залезать.
Постельный покой не был обременен другими вещами. Если судить по более поздним описаниям, то там стоял поклонный крест, который должен был во сне отгонять от государя бесов. И хранилось государево нижнее белье — белая казна: сорочки, порты, полотенца, ширинки, пояса верхние и нижние, утиральники и т. д. Их очень берегли, так как считалось, что через белье проще всего навести порчу на государя. Поэтому контроль был просто маниакальный: если судить по описаниям XVII века, из-за случайно обнаруженной малейшей дырочки могло быть возбуждено целое следствие, нет ли тут какого умысла, колдовства или порчи.
По всей вероятности, в постельном покое также хранились предметы туалета: зеркала (железные и хрустальные), гребни и гребенки (из кости, рога, рыбьего зуба и дорогих пород деревьев, например кипариса), щетки и т. д. Вопрос о мыле и ароматических жидкостях остается открытым: описания состава мыла (которым царь пользовался не столько для чистоты, сколько для благовония) дошли до нас от первой четверти XVII века, а за более ранние периоды отсутствуют — что, впрочем, не исключает существования каких-то ароматических смесей, которыми пользовался Василий III.
Рядом с постельной комнатой находилось небольшое молельное помещение, увешанное образами. Мы точно не знаем, какие иконы хранились в личной молельной комнате Василия III — никакого перечня, естественно, не сохранилось. Можно только со значительной долей уверенности предполагать, что там были иконы Спаса, Богородицы и Иоанна Крестителя (традиционная основа русских домашних иконостасов), иконы-благословения, подаренные от родителей и церковных иерархов, иконы святых, особенно чтимых как личных покровителей и заступников. Кроме того, в молельной были четки, панагии, ковчежцы с мощами, кресты-мощевики, различные привесы — крестики, медальоны, монеты, перстни и т. д. Здесь же могли храниться реликвии из Святой земли, подарки приезжавших в Москву делегаций восточных патриархов: свечи воска ярого, опаленные Господним Небесным огнем, восточные миро, ливан и т. д. Из российских монастырей в дар государю привозили праздничную святыню (восковые сосуды — вощаники, наполненные святой водой) и иконы. Что-то из этих приношений также попадало в личную молельную комнату.
Перед образами горели лампады и свечи. Для чтения Священного Писания перед иконами должен был стоять налой, подставка для книги для чтения стоя. Набор книг обычно был традиционным: Требник, Триоди, Евангелие, Стихирарь и т. д. Но сами книги могли быть раритетными, иметь неординарное происхождение. Для поклонов могли быть специальные упоры (поклонные колодки или поклонные скамейки).
Все это образовывало неповторимый, индивидуальный ансамбль, о котором очень точно сказал И. Е. Забелин: «Иконостас Крестовой комнаты был хранилищем домашней святыни, которая служила изобразителем внутренней благочестивой истории каждого лица, составлявшего в Крестовой свой иконостас — собственное моление»[93].
Рядом с молельной находилось что-то вроде личного кабинета — комнаты. Василия III современники упрекали в том, что он не желает советоваться с боярами, а все дела решает с кругом избранных советников «у постели» — скорее всего, имелись в виду заседания в узком кругу в этой самой комнате. Видимо, там располагался стол с бумагами и письменными принадлежностями (хотя нет уверенности в государевом умении писать: даже сын Василия III Иван Грозный, чье эпистолярное наследие до сих пор даже не подсчитано, предпочитал диктовать дьякам свои многочисленные послания). Из последних это должны были быть очиненные перья (лебяжьи или гусиные), чернильница, клеетельница столбцов бумаги и т. п.
Самая первая комната при входе в постельные покои именовалась передней. Она исполняла функции личной приемной государя по срочным вопросам. В ней располагались царское место (трон) и по периметру стен — лавки для гостей. Перед ней — теплые сени, использовавшиеся для всяких повседневных нужд, складывания одежды, рухляди и т. д. На сенях нередко встречали приглашенных к великому князю лиц. Порядок и количество комнат, а также наличие всяких чуланов, мылен и т. д. варьировались.
Отдельно от государевых покоев ставились покои великой княгини, которые структурно были похожи. Покои монарха имели переход в официальные помещения — парадные залы, предназначенные для заседаний Боярской думы, встреч государя с церковными иерархами, приема иностранных посольств и т. д. Их называли палатами (большими и малыми), столовыми (столовыми избами), горницами, повалушами.
Что же касается мест хранения дворцовой утвари и великокняжеской казны, драгоценной посуды, ювелирных изделий, книг, дорогой одежды, образов, драгоценных крестов и ковчегов с частицами мощей и т. д., то они реконструируются не без затруднений. Понятно, что такие помещения имелись, причем недалеко от самого дворца: в казну постоянно обращались за подарками иностранным послам, раздачам наград придворным и служилым людям, для экстренных случаев выдачи жалованья и т. д. Из обрывочных свидетельств ясно, что казну еще в конце XV века хранили в подклетах кремлевских церквей (например, казна отца Василия III Ивана III лежала в церкви Рождества Богородицы и Святого Лазаря, а казна Софьи Палеолог — в подвалах церкви Иоанна Предтечи на Бору). В то же время известно, что при Иване III строились специальные каменные палаты и погреба для казны (позже этот комплекс назовут Казенным двором). В XVI–XVII веках казна хранилась в специальных палатах, расположенных между Благовещенским и Архангельским соборами. Из дворца сюда можно было попасть через специальные переходы с западной стороны Благовещенского собора.
Основные хозяйственные службы государева двора, связанные со всеми «прелестями» сельскохозяйственного быта (запахи, рев животных, малоэстетичный вид продуктов животноводства), видимо, были все же из Кремля вынесены. Так, основная масса лошадей, потребных для двора, содержалась в запасных конюшнях в Конюшенной слободе (район современной Староконюшенной улицы). У Дорогомилова перевоза у церкви Николы на Щепах стоял государев дровяной двор, откуда дрова на возах возили на государев обиход. Под Новинским у церкви Иоанна Предтечи в Кречетниках располагалась слобода, где для великокняжеской охоты содержались ловчие птицы — соколы, ястребы и т. д. В прудах на Пресне ловили рыбу для государева стола. В Старом Ваганькове, недалеко от Боровицких ворот Кремля, находилась псарня, где содержались собаки для охоты и развлечения монарха. Через реку, напротив Кремля, с 1495 года на месте специально снесенной городской застройки располагались сады и огороды, продукция с которых тоже шла на государев стол. В 1516 году по приказу Василия III за Боровицкими воротами недалеко от Кремля были выкопаны пруды и поставлена каменная мельница[94]. Один из прудов позже получил название Лебединого — здесь разводили лебедей для государева стола, а также уток и гусей.
Между тем очевидно, что некоторые хозяйственные службы непременно должны были находиться в самом Кремле. Помимо поварских служб (именно служб, потому что вряд ли пищу для государя и его семьи и для кремлевского гарнизона готовили в одном месте), это житницы, скорняцкие мастерские, портомойни, сушильни белья, плотницкие и слесарные мастерские и прочие службы по обслуживанию текущей жизни.
Для любого человека средой обитания прежде всего является семья. Для монарха же в особенности. Его социальный статус определяется не личными заслугами, а происхождением. Его богатство — богатство фамилии. Его личная жизнь ему не принадлежит. Семейные проблемы стремительно перерастают в политические, и наоборот.
Василий III стал государем всея Руси в сравнительно благополучной семейной ситуации. Недоразумения с отцом, которые случались, были улажены навсегда: Иван III сошел с политической сцены. Проблем со стороны жены и ее родни можно было не опасаться. Род Сабуровых был слишком малозначим, чтобы как-то влиять на государя. Да Сабуровы и не пытались извлечь какие-либо выгоды из своего положения, стать временщиками. И хотя в самом браке, несомненно, был немалый элемент политического расчета, все же Василий III выбрал Соломонию из нескольких сотен девушек, многие из которых принадлежали примерно к тому же социальному слою, — значит, она ему как минимум понравилась внешне. Значит, была симпатия (насколько обоюдная — неизвестно, спрашивать Соломонию никому и в голову не пришло). Жениться по любви монарх, как известно, не может, но на понравившейся ему девушке — вполне. Значит, здесь тоже была гармония, по крайней мере в первое время и по крайней мере со стороны мужа.
С сестрами, а также возможными дочерьми дело обстояло совсем просто. Девушки из государева рода редко покидали Кремль: большинство из них проводили детство в палатах у матери, а затем плавно перемещались по соседству в Вознесенский монастырь, где тихо и печально доживали свой век монахинями. Рожденные в Кремле, они почти ничего в своей жизни больше и не видели. При Василии III их еще изредка выдавали замуж за других князей, но эта практика вскоре совсем прекратится. Причина проста: государева дочь могла выйти замуж только за равного себе. А равных не было: своих удельных князей при Василии III почти полностью извели. Выдавать же девушек за иностранных принцев-иноверцев было никак нельзя. Единственный случай брака сестры Василия III Елены с великим князем Литовским Александром Ягеллончиком был признан опытом неудачным: почти вся история взаимоотношений России и Литвы в это время — это протесты России против «принуждения» Елены к католичеству. Чем великокняжеская дочь утратит чистоту веры — лучше уж пусть заживо похоронит себя в монастыре.
С братьями дело обстояло много хуже. Как уже говорилось, российская политическая система располагала к тому, чтобы младшие братья смотрели на старшего как на зажившуюся на этом свете преграду на их светлом пути. А старший брат видел в младших потенциальных крамольников и заговорщиков. При этом, как водится, обе стороны были правы.
Первоначально отношения были не то чтобы братскими, но внешне вполне благопристойными. Василий III выполнял завещание своего отца, по которому он должен был гарантировать получение уделов младшими Ивановичами. Около 1507 года был создан Калужский удел Семена Ивановича. Зато в 1507–1507 годах у князя Юрия Ивановича была отобрана волость Сурожик и передана в кормление татарскому царевичу Шейх-Аулияру. Материально потеря была невеликая, но Юрий мог расценить это как укол по самолюбию, а также — как тревожный симптом, что Василий III намерен распоряжаться уделами братьев по своему усмотрению.
14 февраля 1509 года в тюрьме скончался внук Ивана III, венчанный на русский престол великий князь Дмитрий Иванович. Современники передавали слухи, будто бы он умер от голода и холода или же задохнулся в камере от дыма (то есть был убит тюремщиками). Так или иначе, теперь Василий III стал полноправным государем всея Руси. Дмитрий был официально венчан шапкой Мономаха, а Василий нет — он стал государем по завещанию отца, но не через коронацию. Теперь над тем, что более легитимно, можно было не ломать голову.
Хуже всего в 1507–1509 годах складывались отношения у Василия III с его двоюродным братом Федором Борисовичем Волоцким. Семена конфликта были посеяны еще Иваном III: он присвоил себе Рузский удел бездетного брата Федора — Ивана Борисовича, а в завещании не вернул его Федору, а распределил между Юрием Дмитровским и Дмитрием Угличским. Обиженный Федор в своем завещании, составленном в 1506 году, приказал передать удел своему сыну, если таковой у него родится. Вопреки традиции, он не стал завещать выморочный удел великому князю, а оставил вопрос открытым. Это было недвусмысленно продемонстрированное намерение сохранить удел, бросить вызов великому князю Василию III.
Но основной конфликт вспыхнул не из-за завещаний и дележа земель, а из-за монастырей. На территории Волоцкого удела находился Волоцкий монастырь, игуменом в котором был Иосиф, «духовный отец» Ивана III. Не в силах всерьез навредить верховной власти, князь Федор отыгрался на монастыре: не давал туда пожалований, отбирал земли, чинил всяческие пакости. В противовес Волоцкой обители Федор обласкал Возмицкий монастырь и его игумена Алексея Пильемова и подбивал волоцких монахов оставить Иосифа и перейти в Возмицкий монастырь. Десять монахов не выдержали давления и сбежали. Попытки Иосифа задобрить князя Федора и урегулировать вопрос успехом не увенчались. Особо издевательски и безнадежно звучал ответ княжеских дьяков Микулы Воронина, Алеши Скобеева и Копотя: «Волен-де государь в своих монастырях, хочет — жалует, хочет — казнит»[95].
И тогда Иосиф сделал сильный ход. В феврале 1507 года он обратился к Василию III с просьбой принять монастырь в «великое государство». И государь охотно выполнил просьбу. Обитель по-прежнему стояла на земле Федора Волоцкого, платила ему подати, но верховным главой монастыря оказался Василий III.
Федор был уязвлен, но сделать ничего не мог. Зато смог другой, пока не учтенный персонаж этой драмы: новгородский архиепископ Серапион. Ведь Волоцкий монастырь входил в его епархию, а Иосиф действовал без согласования с ним. Серапион оказался скор на расправу: в 1509 году отлучил волоцкого игумена от церкви. При этом он стыдил Иосифа, что тот унизил своим решением князя Федора, что его монастырь создавался и процветал благодаря покровительству волоцких князей, — а теперь Иосиф, преисполнившись черной неблагодарностью, передает все это Василию III.
Не то чтобы Серапион хотел заступиться за волоцкого князя. Его оскорбили прежде всего самоуправство Иосифа, его нежелание посоветоваться с новгородским архиепископом (за два года тот не счел нужным даже поставить Серапиона в известность о своем обращении к Василию III). Именно в этом он обвинял оппонента, который сделал монастырь разменной картой в политических играх светских правителей, пренебрег своими обязанностями духовного пастыря: «Что еси отдал монастырь свой в великое государство, ино де еси отступил от небесного, а пришел к земному».
Но и Иосиф не собирался сдаваться. Он попросил заступничества великого князя, изобразив дело так, будто его отлучили от церкви за сам факт обращения за покровительством к государю всея Руси. Он знал, что московские князья своих не сдают, даже если те не правы. Формально Иосиф был неправ: ему надлежало получить на свои действия разрешение Серапиона. Но Василий III рассудил иначе: специально созванный церковный собор в июле 1509 года отменил отлучение Иосифа, а другой собор весной 1510 года низложил новгородского владыку, принудительно доставленного на заседания. Основное обвинение, которое ему было предъявлено, — что он «учинил Волок небом, а Москву — землею», «князя Федора — небесным», а Василия III — «земным». Искажение смысла слов Серапиона здесь очевидно, но исход дела был предрешен.
Мы специально столь подробно остановились на этом неординарном деле, чтобы показать, как в отношениях между князьями и церковными иерархами были тесно переплетены политика, экономика, правовые вопросы, наконец, элементарные амбиции и эгоизм. И именно великий князь должен был выступать арбитром в подобных спорах, причем арбитром предвзятым — как никак, это было и «государское», и семейное дело: низлагая Серапиона и защищая Иосифа, Василий III унижал своего двоюродного брата Федора Волоцкого.
Переход Волоцкого монастыря под великокняжескую опеку бил и по другому удельному князю — Юрию. Монастырь владел землями в принадлежавших дмитровскому князю Рузском и Дмитровском уездах, и дмитровский правитель таким образом их терял. В чем именно заключалось возмущение Юрия, неясно, но ходили слухи о том, что он чуть ли не хотел «отступить» от Василия III, то есть отказаться признавать его власть. А Василий III якобы собирался его за это арестовать. Так или иначе, какой-то конфликт имел место. Положение спас сам Иосиф Волоцкий, который решил, что с него хватит одного врага — удельного князя, незачем игумену воевать со многими сильными мира сего. В июле 1510 года он сумел примирить Дмитрия и Василия и даже получил от первого в пожалование крупное село Белково.
По всей вероятности, к этому времени и относится знаменитый запрет Василия III своим братьям жениться, пока у него самого не появится наследник мужского пола. Первоначально речь шла лишь о том, что сын великого князя должен оказаться старейшим в роду. Но появление наследника затягивалось, и этот запрет стал оружием политической борьбы: братья умирали, так и не дождавшись разрешения вступить в брак, а их выморочные уделы Василий III забирал себе. К концу его правления выяснилось, что идея оказалась очень удачной: вместе с братьями физически почти вымерла сама удельная система.
У братьев оставалось крайне ограниченное пространство для политического маневра: они были слишком слабы, чтобы противостоять Василию III открыто. Ресурсы — военные, территориальные, экономические — не позволяли. При московском дворе они могли рассчитывать только на некоторую часть боярства, которое отстаивало права удельных князей не из особой любви к сыновьям Ивана III, но просто из приверженности к старине и охранению незыблемости традиционных порядков. Это могло помочь в случае какого-либо спора с великим князем, но серьезных политических дивидендов не приносило. Собственно, оставался только один способ взбунтоваться, попробовать резко улучшить свое положение — отъезд в Великое княжество Литовское. Для московских же властей обвинения в намерении отъехать (неважно, реальном или мнимом) были, напротив, инструментом в борьбе с удельными князьями — со времен Ивана III такой отъезд считался несомненной изменой.
В январе 1511 года обвинения в намерении бежать в Литву были возведены на князя Семена Калужского. Насколько они были справедливы, неизвестно, но князь пострадал сильно. Василий III произвел «перебор людишек»: «людей его, бояр и детей боярских всех переменил». В средневековье, учитывая тесную личную связь господина со своим двором, это была довольно действенная мера: на какое-то время Семен остался один, в окружении новых, чужих людей. У него также отобрали часть удела — Бежецкий Верх.
В том же 1511 году князь Василий Семенович Стародубский подал донос на князя Василия Шемячича Новгород-Северского с аналогичным обвинением — мол, тот собирается перейти на службу к правителю Великого княжества Литовского. Василий III вызвал Шемячича в Москву, причем его безопасность гарантировал лично митрополит. Неизвестно, ездил ли северский князь в столицу и как он сумел оправдаться, но в ближайшие годы с ним ничего не случилось: в тюрьму не посадили, земель не отобрали, людишек не перебирали. Зато сам Шемячич в годы Смоленской войны (1512–1522) будет активно воевать на стороне Василия III.
В 1513 году умер Федор Волоцкий, и тем самым его конфликт с Василием III был исчерпан. Его выморочный удел отошел к государю, а тело упокоилось в Волоцком монастыре. В 1518 году также бездетным умер Семен Калужский. В 1521 году скончался Дмитрий Угличский, главный соперник Василия III. Присвоение Угличского удела могло пройти не столь гладко, потому что еще были живы представители угличской династии князей: еще в 1492 году был арестован Андрей Васильевич Угличский, умерший в заточении (1494), но оставивший двоих сыновей, Ивана и Дмитрия. Эти двое несчастных, вся вина которых состояла в том, что они родились угличскими князьями, все правление Василия III скованными (!) просидели в тюрьме — сперва в Переславле, потом в Спасо-Прилуцком монастыре в Вологде. Иван Андреевич умрет в 1523 году и будет причислен клику святых. А Дмитрий Андреевич получит свободу уже при Иване Грозном, в 1540 году, проведя в заключении 48 лет…
Трудно было быть удельным князем при Василии III. Семейные дела своего рода он решал сурово и бескомпромиссно. Он мог бы торжествовать победу — собственно говоря, к 1520-м годам из реальных соперников оставался только его брат Юрий Дмитровский. Андрей Старицкий, получивший свой удел только в 1519 году, за годы юности насмотрелся на отношения внутри великокняжеского дома и вел себя тише воды и ниже травы, стараясь, чтобы Василий III пореже вспоминал о его существовании.
Но с каждым годом все больше обострялась проблема, на которую первоначально не особенно обращали внимание: в великокняжеской семье не было детей. Из личной трагедии это постепенно перерастало в политическую драму, потому что вставал вопрос о престолонаследии. Не отдавать же трон ненавистному брату Юрию! По обычаю, во всем винили Соломонию — если супружеская пара бесплодна, виновата жена. Но в XVI веке неплодие жены не являлось поводом для развода. Василий III выйдет из этой ситуации в свойственной ему решительной манере, переступая через родных и близких и ломая людские судьбы, но это будет уже в 1520-е годы, ближе к концу его правления.
Время Василия III — это время удивительной метаморфозы российской монархии, середина и апофеоз процесса превращения великого князя Владимирского и Московского в православного царя. Этот процесс начался при Иване III, ставшем государем всея Руси, и был в некоторой степени завершен при Иване IV, который в 1547 году первым в русской истории венчался на царство шапкой Мономаха. Хотя многие и институциональные, и идеологические вопросы при Иване Грозном тоже были только намечены, и тенденции их развития оборваны Смутой в начале XVII века. И лишь о первых Романовых — Михаиле Федоровиче (1613–1645) и Алексее Михайловиче (1645–1676) — мы можем говорить как о воплощенном идеале православного царя.
Но время Василия III тем и интересно, что это — истоки. Идеологическое оформление русской монархии в начале XVI века отставало от политического. При Иване III возник ряд идей, основанных в основном на переосмыслении русских средневековых представлений об идеале верховной власти. Но именно от первой трети XVI века до нас дошли тексты, содержащие оформленные, целостные, развернутые концепции российской монархической власти.
Впервые такая концепция появилась на страницах «Послания о Мономаховом венце». Мы не знаем точной даты составления этого, не побоюсь сказать, эпохального текста (ученые называют разные даты между 1513 и 1523 годами{4}), нет согласия в научном мире, кто же был его автором. Известно только имя: «Спиридон рекомый, Сава глаголемый». Его пытались отождествить с бывшим киевским и всея Руси митрополитом Спиридоном, однако против этой точки зрения высказаны серьезные аргументы[96]. Наконец, идут споры о соотношении «Послания…» с другим важным памятником — «Сказанием о князьях владимирских». Последнее датируют в широком диапазоне от конца XV века до 1530–1540-х годов. Одни историки считают, что первично «Сказание…», другие — что «Послание…». То есть литературная история текстов остается предметом научных споров[97].
Итак, какая идеологическая задача стояла перед древнерусскими книжниками в связи с появлением на политическом небосклоне «государства всея Руси»? Прежде всего, надо было объяснить, откуда оно взялось. Традиционный ориентир и источник толкований на все случаи жизни — Библия — молчала. Русь в ней, естественно, не упоминалась. Однако происхождение государства вполне можно было объяснить происхождением династии — в средневековье народ, страна персонифицировались в государе. Но легенда о варяжском князе Рюрике, вожде «Руси», которую он привел с собой из-за моря в земли враждующих друг с другом славян, к XV веку изрядно потускнела. Происхождение от никому не известного викинга на международной арене вовсе не звучало гордо. Нужны были какие-то более известные имена, ориентиры. Надо было вписать Русь и ее правителей в европейский историко-культурный контекст, найти ей там свое историческое место. Кто такой Рюрик, с кем из европейских монархов он в родстве, где было его государство, в Московской Руси уже никто не знал, а повторять сказки древних летописей особого смысла не имело: на экспорт такая продукция не пошла бы. Легенда о Рюрике была исключительно для внутреннего употребления. Для того дипломатического контекста, в котором развивалась Россия на рубеже XV–XVI веков, ее надлежало вписать в мировую историю.
Под мировой историей в XVI веке понималась история библейская, история древняя и церковная и история Великой Римской империи. Поэтому Спиридон-Сава обращается к Библии, но исправляет и дополняет ее текст. Он выдумывает четвертого сына Ноя Арфаксада (одноименного с Арфаксадом — сыном Сима, внука Ноя). Арфаксад поселяется в уделе Хама (Африке), и от него начинается власть египетских фараонов — первый пример земной власти вообще. От Арфаксада произошли Месрем и Хус. Месрем, внук Ноя, назван прямым предком русских князей!
Концепция получалась замечательная. Русские правители — потомки египетских фараонов и самого праотца Ноя! Однако опять возникала маленькая неприятность с Библией: по Книге Бытия сыновья Хама Мицраим (по древнееврейски — Египет) и Хуш (родоначальник эфиопов), согласно проклятию Ноя, должны были служить рабами потомкам Сима и Иафета. Вот для обхождения этого неподобающего сюжета и понадобился непрбклятый четвертый сын Ноя Арфаксад.
Хуса автор «Послания…» быстренько отправил в Индию. Зато от Месрема он вывел фараона Сеостра, «начального царя Египту». Ну а от Сеостра было уже рукой подать до Василия III: «…а царству его начаток от Сеостра, начального царя Египту». Но здесь ему стали мешать уже древнерусские летописи, возводившие происхождение Руси к сыну Ноя Иафету. И автор гениально разделил две линии: царская власть на Руси идет от Арфаксада — Месрема — Сеостра, а вот народ, подданные — это потомки Иафета. Правда, пришлось изобретать потомка Иафета Фарсиса, жившего в Калаврии (Южной Италии), и как-то пытаться воссоединить линии от него и от Арфаксада[98]. На этом месте создатель «Послания…» слегка запутался и с облегчением вернулся к Царству Египетскому.
От «первого царя Египта» Сеостра он проводит линию к Филиппу («Филиксу»), «первому обладателю вселенной», а затем и Александру Македонскому, «второму обладателю». Александр передал Египет своему слуге Птолемею. Через историю Клеопатры, Антония, Юлия Цезаря и Октавиана Августа Египет связывается с Великой Римской империей. Кульминационным моментом здесь оказывается венчание, освящение во «властителя мира» Августа: «И облекли его в одежду царя Сеостра, первого царя Египта, в порфиру и виссон, и препоясали поясом фелридом, и возложили ему на голову митру царя индийского Пора, которую из Индии принес Александр Македонский, и надели на плечи окровницу царя Филикса, владеющего вселенною… И радостно все воскликнули великим гласом: Радуйся, Августе, царь римский всея вселенныя».
А вот Август поделил вселенную между правителями отдельных стран и областей, и среди них был его родственник, некий Прус, который получил балтийское побережье от Вислы до Немана. А уже от Пруса произошел Рюрик, позванный править в Новгороде новгородским князем Гостомыслом. Таким образом, круг оказался замкнут, и русские Калитичи, происходившие от Рюриковичей, были объявлены прямыми потомками римского императора Августа! Это уже были понятная для начала XVI века генеалогическая схема, достойные ориентиры и заявка на ведущее место в мировой иерархии правителей.
Генеалогическое обоснование легитимности династии русских государей и их политических претензий вполне получилось. Теперь под него надо было подвести историко-политическое обоснование. Автор «Послания…» опять заходит издалека. Он рассказывает о совете киевского князя Владимира Всеволодовича (1113–1125) с князьями и боярами о походе на Константинополь и об удачном свершении этого похода. В Византии же в это время много проблем: из-за папы Формоса произошел раскол церкви, «латиняне» (будущие католики) вовсю наступают на православие. Император Константин Мономах советуется с патриархом Кир Ларием. «Латиняне» благополучно прокляты, утверждается православный Символ веры. После чего к князю Владимиру было послано посольство с инсигниями царской власти, которые таким образом и попали на Русь из Византии (отсюда и название короны русских государей — «шапка Мономаха»).
В этом рассказе вымышлено почти всё. Особенно нехорошо получилось с Владимиром Всеволодовичем и Константином Мономахом: император правил в 1042–1055 годах, а русский князь только родился в 1053 году и никак не мог в двухлетнем возрасте держать совет с боярами, ходить в походы и получать инсигнии. Папа Формос на самом деле занимал престол в 891–896 годах, а официальный раскол церквей состоялся в 1054 году. Да и то, как автор — вроде бы духовное лицо — путается в Символе веры, вызывает большое удивление.
Возможно, Спиридон-Сава просто переставил византийских императоров местами. При Владимире Всеволодовиче в 1081–1118 годах в Константинополе правил император Алексей I Комнин, с которым киевский князь действительно воевал в 1116 году. Другой византийский император, Мануил I Комнин (1143–1180) в 1164 году присылал какие-то дары князю Ростиславу Мстиславичу, прося у него помощи в войне с Венгрией. То есть, как предполагают ученые, за этой легендой могли скрываться какие-то реальные события, хотя, конечно, и выглядевшие иначе.
Но через этот миф была создана схема, о которой очень точно сказал В. И. Ульяновский: две равные православные державы (равные, потому что Русь только что ходила на Константинополь в победоносный поход) объединяются для укрепления сущего в них православия на условиях «уравнения власти» обоих правителей через символическую передачу инсигний византийским императором русскому князю. Что это были за инсигнии? Спиридон-Сава перечисляет их: Животворящий Крест, сделанный из дерева, на котором был распят Христос (его император снимает с собственной шеи), царский венец с императорской головы, поставленный на золотое блюдо, некая крабица (коробочка), «из нея же Август кесарь римский веселяшеся», наплечное ожерелье и кация (ручное кадило без цепей).
Предметы из перечисленных Спиридоном-Савой по-разному отождествляются исторической наукой[99]. Из этого набора наиболее интересна крабица — сердоликовая коробочка, окованная золотом, которая как семейная реликвия Калитичей упоминается уже в 1358 году в завещании великого князя Ивана Красного. Как считает Б. А. Успенский, она имела форму «чаши Августа Римского», потому что использовалась как сосуд для мирра. По мнению ученого, «чаша Августа тем самым связывает русских государей как с римской, так и с византийской традицией, что естественно отвечает восприятию Константинополя как второго Рима; вместе с тем эта чаша должна была, видимо, ассоциироваться с притязаниями русских монархов на генеалогические связи с Августом, что предполагает непосредственную связь Москвы и первого Рима»[100].
Что важно — в «Послании…» содержится идея венчания Василия III царским венцом (коронации), почему многие исследователи считают его заказным сочинением, подводящим идеологическое обоснование под эту коронацию. Н. В. Синицына писала, что в тексте содержится как бы три идеологических звена: венчание Августа — венчание Владимира Мономаха — ожидаемое венчание Василия III[101]. Василий явно размышлял, как ему преодолеть трудность, связанную с легитимным венчанием Дмитрия-внука. Его надо было как-то дезавуировать. Действительно, Спиридон-Сава предлагал вариант такой дискредитации Дмитрия: титул и венец имеют древнее происхождение и принадлежат всем князьям Владимирским. В 1518 году придворными книжниками вносятся изменения в прежний текст Чина венчания Дмитрия-внука 1498 года: теперь Иван III назван в нем православным царем. И теперь Василий III мог бы через акт венчания унаследовать этот титул без упоминания Дмитрия-внука и его коронации[102].
Таким образом, при Василии III русская монархия обзавелась собственной генеалогической легендой, которая станет основой ее самоидентификации и презентации на международной арене вплоть до 1598 года, то есть до пресечения династии Рюриковичей. Это имело большое значение, так как задавало ориентир для дальнейшего развития концепции царской власти, позволяло сделать выбор между двумя тенденциями, которые американский историк М. Чернявски обозначил так: хан или василевс?[103]
В идеологическом отношении Русь / Россия опиралась на переосмысление византийской политической идеологии, что неизбежно вытекало из ее принадлежности восточнохристианской, православной конфессии. Но в плане политической практики русским князьям вплоть до начала XVI века пришлось больше иметь дело с татарскими ханами, чем с византийскими императорами. Ведь русские земли в течение почти трехсот лет были составной частью сперва Монгольской империи, а потом другой империи, Великой Татарии, называемой в русских летописях Золотой Ордой. Да, Русь имела особый статус, да, татары не вмешивались в дела религии, считались с мнением князей в политических вопросах, и кроме регулярных поступлений дани их мало что интересовало. Но все же только наш герой, Василий III, был первым русским правителем после монголо-татарского нашествия, для которого татары были чем-то внешним, а их ханы — правителями соседних государств. Еще ко двору Ивана III татарские послы являлись запросто и с ультимативными требованиями, как к ханскому рабу (чем это для них закончилось в 1480 году, вопрос другой). То есть несомненна определенная интеграция России в ордынскую политическую систему, да и наглядный пример стиля управления татарских ханов был перед глазами (в отличие от византийского, о котором знали гипотетически).
Это все верно, но если отбросить спекуляции публицистов, что Россия есть «восточная деспотия», следы татарского влияния в русской политической культуре выявляются не без затруднений. В наибольшей степени они заметны в бюрократической системе делопроизводства (недаром посольские грамоты в тот же Крым в XVI веке на Руси называли ярлыками). Но вот собственно ордынскую политическую систему Москва вовсе не копировала, а творчески переосмыслила и на ее основе создала нечто свое, мало похожее на первоначальный образец.
Такой своеобразный стиль заимствования был, в принципе, характерен для Руси. О нем очень точно сказал Б. А. Успенский. Россия всегда была эксплицитно ориентирована на чужую культуру (Византию, потом — западноевропейский мир). Таким образом, свою систему ценностей она черпала извне. Однако этот механизм имел свои особенности: «попадая на русскую почву, эти модели получают совсем другое наполнение, и в результате образуется нечто существенно новое — непохожее ни на заимствуемую культуру (т. е. культуру страны-ориентира), ни на культуру реципиента»[104].
Главное, что русская политическая культура усвоила благодаря татарскому влиянию — и что в полной мере проявилось как раз в характере правления Василия III, — это то, что в самом примитивном смысле можно назвать деспотизмом. Термин здесь не очень удачен, ибо несет в себе эмоциональный оттенок. Но проблема Василия III была в том, что он не мог править иначе, чем деспотически, ибо не существовало социальных и политических структур, которые могли бы представлять альтернативу центральной власти.
Известно, что именно татарское владычество нанесло смертельный удар по древнерусской вечевой системе: вече, эта основа народного самоуправления, либо резко сужает свои прерогативы, либо вообще исчезает в ряде городов. За годы ига серьезно пострадала система княжеского вассалитета, в основе которой лежит принцип «вассал моего вассала не мой вассал». То есть внутри феодалов была своя иерархия отношений, основанная на праве и обычае. Татары резко нарушили эту систему введением института ярлыка на княжение: его мог получить не тот князь, который имел на это наибольшие права, старейший в роду, главный в феодальной иерархии, а тот, кто привез хану ббльшую взятку, сумел оболгать конкурентов, кому, наконец, хан сам хочет дать ярлык из политических соображений. То есть инстанция верховной власти, в данном случае ханской, действовала произвольно. Вассальные отношения внутри рода русских князей хана интересовали постольку поскольку.
А вот когда в 1480 году ханская власть исчезла, само отношение к верховной власти как к власти, имеющей право на произвол и чинящей его, никуда не делось. Напротив, им воспользовались московские князья, как бы заняв в политической системе вакантную нишу, оставшуюся от времен ханского владычества. Отсюда и деспотизм, и произвол, и нарушение всех традиций — вспомним хотя бы спор Василия III с Федором Волоцким из-за игумена Иосифа! Просто сама по себе эта унаследованная от Орды властная инстанция (хан = царь) предполагала подобный стиль реализации своих властных прерогатив.
Другое «наследство» татарской политической культуры еще не проявится в правление Василия III в полной мере, а станет актуальным уже при Иване Грозном. Речь идет о такой важной составляющей русской политической культуры, как стремление преодолеть вековой комплекс неполноценности («…у них в работе были отцы наши»), вытекавший из трехсотлетнего татарского ига. Причем преодолеть своеобразно: через унижение былых господ, через разгром и порабощение соседних татарских государств. Достичь собственной мощи и величия через втаптывание татар в грязь, через месть за древнее иго — это была целая политическая программа того, как сделать Россию подлинным православным царством. Программа, реализованная уже при Иване IV, покорившем Казанское (1552) и Астраханское (1556) ханства и наступавшем на Крым. Другое дело, что, как всегда это бывает, по счетам Золотой Орды заплатили «не те татары» — и казанских, и астраханских, и крымских татар нельзя назвать прямыми виновниками порабощения Руси в XIII–XIV веках, все они вышли на историческую арену позже. И для них русское нападение было несомненной агрессией. Но в истории подобные трагедии взаимного непонимания, увы, были и будут всегда.
Вернемся к Василию III. Как христианский монарх государь выступал всемирным покровителем православия. Недаром при Василии III Москву столь часто посещали посланцы православных епархий, находящихся под турецким владычеством: от афонских монастырей (1508, 1515, 1516, 1519, 1533), от Синайской горы (1518, 1519), от белградского митрополита Феофана, вдовы сербского деспота Стефана Ангелины и сербских монастырей (1508, 1509), от константинопольского патриарха Феолипта I (1516).
Иерархи вовсю восхваляли Василия III. Так, в 1516 году игумен Пантелеймонова монастыря Паисий обращался к нему так: «Благочестивому и во Христе благоверному и от вышнего промысла избранному великому государю Василею, милостию Божиею единому самодержавному правому государю всем землям Русским, восточным и северным…» Ватопедский монастырь был еще более льстив: «Благовернейший и наияснейший, и о Христе Боже царю (sic! — А. Ф.) крепчайший всей Русской земли, и также в океане множества народов». Усилия даром не пропадали: Василий щедро жаловал меха (тысячами — шкурки белок и соболей), деньги, драгоценную утварь. Он считался ктитором (покровителем, дарителем) нескольких афонских и сербских монастырей.
Однако забота о православии не исчерпывалась помощью христианским обителям, стоявшим на печальной греческой земле, оккупированной Османской империей. Важным элементом публичной демонстрации поклонения русским православным святыням стали богомольные выезды государя (как правило, с семьей и большой свитой) к Троице-Сергиевой обители недалеко от Москвы и монастырям Замосковской земли.
Эти выезды носили характер государственных мероприятий и особо отмечались в летописях. Участвовать в них Василий III начал еще при Иване III. Поездка длилась с 21 сентября по 9 ноября 1503 года. Великокняжеская семья посетила Троице-Сергиев монастырь, святые обители Переславля, Ростова, Ярославля. Во время правления Василия III подобные выезды регулярно происходили по разным маршрутам. С 8 сентября по 5 декабря 1510 года он ездил в обители Переславля, Юрьева-Польского, Суздаля, Владимира и Ростова Великого. В июне 1518 года ездил в Троице-Сергиев монастырь. В мае 1519 года посетил Николо-Угрешский монастырь, 24–26 декабря 1526 года молился в Тихвинском Богородичном монастыре «о плодородии чрева». Осенью 1528 года состоялась большая богомольная поездка в Переславль, Ростов Великий, Ярославль, Вологду, Белозерский Кириллов монастырь. С 17 сентября по 19 ноября 1531 года Василий III вместе со второй женой Еленой Глинской и младенцем Иваном (будущим Иваном Грозным) ездил в Троице-Сергиев монастырь, Волок и Можайск. С 22 сентября по 3 октября 1532 года государь был на молитве в Троице-Сергиевом монастыре, с 10 по 19 марта 1533 года — в Николо-Зарайском монастыре. 21 сентября 1533 года государь уехал к Троице в последний раз, в Москву он вернется в ноябре уже смертельно больным.
Василий III уделял много внимания церковному строительству, украшению храмов. Воскресенская летопись содержит немало примеров государева благочестия. Назовем только те случаи, когда на участие Василия III прямо указывает летописец. 1 октября 1506 года великий князь внес в только что освященный митрополитом Симоном московский храм Николы Гостунского образ святого в драгоценном окладе. Весной 1508 года по его приказу началась роспись Благовещенского собора Кремля, в том же году завершено строительство кремлевского Архангельского собора, колокольни Ивана Великого и церкви Иоанна Предтечи у Боровицких ворот (освящена 5 ноября 1508 года).
В мае 1514 года по распоряжению Василия III был обновлен и украшен драгоценным киотом чудотворный образ Владимирской Божьей Матери, хранившийся в Успенском соборе Кремля. Весной того же года Василий III велел «со многим желанием и верою» ставить каменные церкви в Москве: Введенскую на «Большом посаде за торгом», Святого Владимира в Садах, Благовещения в Воронцове, Святого Леонтия Чудотворца Ростовского за Неглинной, Благовещения на Ваганькове, Алексея Человека Божия в женском монастыре за Черторыем, Усекновения главы Иоанна Предтечи под Бором в Замоскворечье, Святого Петра Чудотворца митрополита всея Руси за Неглинной, Введения Пресвятой Богородицы на Сретенке и церковь Святой Варвары, а в самом Кремле поставлена на месте старой деревянной церкви каменная Рождества Богородицы на Сенях с приделом Святого Лазаря.
В 1515 году по приказу Василия III была обновлена роспись Успенского собора Кремля. В августе того же года освящена Успенская церковь на Тихвине; строительство завершал итальянский архитектор, присланный великим князем. В 1518 году из Владимира на время были перенесены в Москву некоторые особо почитаемые иконы для «поновления». 2 июля их торжественно встречали митрополит и москвичи «в поле за посадом». Василий III присутствовал на торжественном богослужении в кремлевском Успенском соборе, прикладывался к образам, лично отдал приказ их обновить и украсить драгоценными киотами. Через год их вернули во Владимир. В августе 1519 года была разобрана Вознесенская церковь и заложена новая, каменная. В 1527 году по распоряжению Василия III был перестроен в камне дворцовый Спасо-Преображенский собор, у Фроловской башни Кремля построена Георгиевская церковь, а на Арбате за Неглинной — церковь Святых Бориса и Глеба.
В 1530 году по приказу Василия III на Москве «поновляли» перенесенные из Ржева иконы: «…государь с великой верою и желанием велел починить их». При этом в Москве остались копии образов. Их поставили в храме во время торжественной литургии, в которой участвовал великий князь, а оригиналы вернули в Ржев. 27 ноября 1530 года государь с женой и сыном был на освящении церкви Параскевы Пятницы.
В августе 1531 года Василий III лично участвовал в постройке особого типа храма — так называемого обыденного. Его так именовали потому, что возводили за один день. Как правило, такие церкви были обетными — ставились во исполнение того или иного обета. Речь идет о деревянной церкви Усекновения Честной главы Иоанна Предтечи на Ваганькове с приделами в честь апостола Фомы и Петра-чудотворца. По всей вероятности, обет был связан с рождением сына. Будущий Иван IV Грозный родился 25 августа 1530 года, а праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи отмечается 29 августа. Первенец Василия получил имя Иван в честь Иоанна Предтечи.
Это была не единственная церковь в честь рождения наследника. В 1531 году по приказу Василия III в Новгороде была возведена обыденная деревянная церковь Успения Богородицы с Иоанновским приделом; в 1532 году в Коломенском — каменная шатровая Вознесенская церковь, сохранившаяся до наших дней и считающаяся одним из чудес русской архитектуры. О прекрасном храме писал еще летописец: «Была же церковь та удивительна высотою, и красотою и светом, такой не бывало еще на Руси». Храм был освящен 3 сентября, и это событие вылилось в большой церковный праздник и грандиозный трехдневный пир на все Коломенское[105].
В 1533 году, по всей видимости тоже в августе, Василий III заказал огромный колокол-благовест весом в тысячу пудов. Он был водружен на деревянную звонницу уже после смерти Василия, 19 декабря. По приказанию государя в Великом Новгороде была построена деревянная церковь Успения с приделом Святого Иоанна, опять-таки в честь сына, княжича Ивана.
Конечно, это далеко не полный перечень церквей, построенных по прямому распоряжению или под патронажем Василия III и членов его семьи. Милостыней, ктиторством, вкладами и строительством церковная деятельность Василия III отнюдь не исчерпывалась. Эпоха Московской Руси — время крупных публичных религиозных акций, целых церемоний, сопровождавших важные государственные акции. Это крестные ходы, переносы икон, переносы мощей, богослужения на победу воинства и т. д. Возможно, с XV века существовала церемония окропления войск водой, освященной на мощах святых[106]. И во всех этих акциях великий князь и митрополит играли центральные роли.
Первым подобным масштабным событием был уже упоминавшийся перенос под «надгробное пение» останков русских князей в новый кремлевский Архангельский собор 7 октября 1507 года. В 1510 году после покорения Пскова Василий III приказал в честь этого события поставить в Троице-Сергиевом монастыре негасимую свечу. Такая же свеча была поставлена в новгородской Святой Софии. Она была восстановлена «по старине», то есть Василий III делал определенный жест, реанимировал свечу как символ преемственности власти великих князей владимирских над Великим Новгородом.
Следующими летопись называет празднества по случаю взятия Смоленска в 1514 году. 1 августа Василий III во главе двора и войска торжественно вступил во взятый город. Перед городскими воротами его встретили смоленский епископ Варсофоний со священниками, иконами, городскими святынями и горожанами «и вельможи благородные, старцы с юношами, матери, девицы, иноки, инокини и весь народ града Смоленска, малые и великие, мужи и жены и дети, со светлыми очами и чистыми душами, со многою любовью и усердием». Василий III приложился к вынесенным образам и получил благословение Варсофония, а затем с крестами прошел в Успенский собор, где состоялась торжественная служба с молебнами, пением многолетия великому князю, литургией. Это было настоящее чествование победителя: Василий III стоял в главном храме вражеского города, который пал к его ногам. И священники этого города, и набившиеся в храм горожане вперемешку с его воинами истово пели государю «Многая лета»! Все завершилось грандиозным пиром с щедрой раздачей милостыни, пожалований, наград, даров и т. д.[107]
Взяв Смоленск, Василий III дал обет основать девичий монастырь в Москве с храмами во имя Пречистой Богородицы и Происхождения Честного Креста. На строительство великий князь обещал дать три тысячи рублей и одно-два дворцовых сел на содержание монастыря. Правда, выполнение этого обета несколько затянулось. Во всяком случае, выступая в поход на Казань в 1523 году, государь составил духовную грамоту, в которой сокрушался, что не исполнил обет вовремя, и завещал казначеям и чиновникам свою волю: поставить монастырь в любом случае, вернется он из похода или нет[108]. На этот раз монарх сдержал слово, и в 1525 году в Москве был основан Новодевичий монастырь.
Подобные церемонии прославляли великого князя и его государство. Очень характерна фраза, которую приводит летописец при описании другой церемонии. 27 августа 1515 года была закончена обновленная роспись кремлевского Успенского собора, устроено ее торжественное открытие, на котором присутствовали Василий III, митрополит с освященным собором, князья и сановники и «все православные христиане». При виде открывшейся им красоты они якобы воскликнули: «Господи, освяти любящих тебя, благолепие дому твоего и укрепи державу государства твоего из рода в род и до века»[109].
Иногда повод для церковной церемонии мог быть необычным. Так, в 1518 году Россию залило дождями. Почва раскисла, реки вышли из берегов. Ситуация была чревата страшным голодом, могли погибнуть посевы. Василий III энергично взялся спасать положение. Он приказал митрополиту Варлааму провести специальные богослужения об «устроении земском и о теплоте солнечной и о дожде». Освященный собор объявил пост, молитву и покаяние, в церквях пели молебны. Дожди прекратились, над страной засияло солнце и высушило почву. Василий III приказал молиться еще усерднее и благодарить Господа за чудо[110].
В 1518 году перед походом на Литву Василий III ездил в Троице-Сергиев монастырь за благословением. 21 ноября 1521 года по его приказу в Новгороде за один день «всем народом» была возведена деревянная обетная Покровская церковь — во исполнение обета для борьбы с эпидемией в соседнем Пскове. В декабре 1526 года, во время молитвенной поездки в Тихвинский монастырь, служились службы «о государском здравии и всего православного христианства», щедро раздавалась милостыня и публично прощались вины опальным.
Под сентябрем 1527 года летописец помещает целый рассказ о воинском чуде и благодарственных церемониях по этому поводу. Татары в очередной раз пытались взломать оборону русских войск по Оке. Воеводы храбро оборонялись, с войсками вышел сам Василий III. Некий татарский князь по имени Алай вошел со своим отрядом в великокняжеское село и пытался поджечь церковь Святого Николы. Она упорно не желала загораться, дважды пожар гас. Нечестивец не понял, что это знак свыше, и поджег храм в третий раз. На этот раз храм загорелся, но Небеса расправились со святотатцем: пламя от пожара увидели русские воины, которые налетели и разбили отряд Алая, а его самого взяли в плен. Эта, в общем-то, рядовая победа — мало ли зарвавшихся мародеров и поджигателей ловили русские воины во время отражения татарских набегов — была преподнесена как великое чудо. Алай «…пойман бысть, произнося хулу на Господа Бога Спаса нашего Иисуса Христа, на Пречистую Богоматерь, и на бесплотных сил, и на Божьих угодников». Основное вражеское войско ушло, не сумев прорвать заслоны московских войск на Оке. А в столице прошли грандиозные церковные празднования в честь победы и великого чуда чудотворца Николы[111].
В апреле 1533 года новгородский архиепископ Макарий прислал Василию III огонь и воск свечи, которая сама собой возгорелась у гроба преподобного Варлаама Хутынского. В июле 1533 года в связи с мором в Пскове новгородский архиепископ Макарий омывал в Святой Софии мощи и посылал святую воду по всему Новгороду и Пскову. Василий III приказал прислать жертвам эпидемии святой воды из Москвы «на освящение православным христианам». 15 августа 1533 года перед выходом с войсками на Оку против ожидаемого нападения татар Василий III слушал литургию в Успенском соборе Кремля, поклонялся гробу святителя Петра-чудотворца и брал благословение у митрополита Даниила.
Важнейшим элементом церковной жизни были чудеса, происходившие у святых икон, во время погребения святых и т. д. Воскресенская летопись поместила под 1518 и 1519 годами целые разделы «О чудесах Алексея чудотворца», в которых описывается ряд исцелений и каждый раз подчеркивается, что это произошло «в дни благочестивого и христолюбивого великого князя Василия Ивановича всея Руси». Чудеса происходили и в построенной по приказу Василия III Введенской церкви.
И конечно, православный государь должен был быть миссионером. Василий III не располагал большими возможностями для крещения окрестных народов: поблизости язычников уже не наблюдалось, оставались только северные, приуральские и сибирские народы, до которых было далековато. Татары, как правило, были тверды в мусульманской вере, во всяком случае в своей массе, а отдельные выкресты погоды не делали. Однако некоторые миссионерские акции все же удавались. Так, в 1526 году по приказу Василия III были крещены поморы и лопари.
Еще одна сфера деятельности государя, связанная с церковью, — раздача земель и выдача льгот церквям и монастырям. Она, конечно, тесно смыкалась с земельной политикой. В глазах служилой знати именно монарх являлся главным источником материальных благ, дающим земли и льготные условия держания вотчин и поместий. Церковь ждала от верховного правителя того же: земельных пожалований и разного рода налоговых, административных и судебных привилегий.
Каков был механизм наделения землей и льготами со стороны государя? Решения о выделении тому или иному владельцу сел, деревень, земель, которые только начинали осваиваться (починков), пустошей и диких земель готовились в государственном аппарате. Чаще всего, видимо, они проводились через дворецких. Земли для монастырей и церквей мог просить митрополит или другие церковные иерархи. Конечно, были и многочисленные просители, челобитчики, но тут все зависело от того, до какого уровня государственной власти им удавалось дойти. Видимо, какая-то часть раздач монастырям и церквям носила обетный характер или делалась в качестве подарков, исполнения обещаний, данных во время богомольных поездок Василия III по обителям.
Степень личного участия Василия III в выдаче этих жалованных грамот установить невозможно. Все они выдавались от его имени. В то же время вряд ли государь вникал в имущественные проблемы каждого удаленного монастыря или любого служилого человека, наделяемого поместьем. И раздачи земель, и выделения поместий осуществляли чиновники, работники государственного аппарата. Видимо, какая-то их часть делалась по личному распоряжению монарха или с представлением перед ним принятого решения (процедура такого представления называлась доклад, а принятое по нему постановление — приговор). Но, конечно, далеко не все. И имя Василия III как лица, якобы выдавшего ту или иную грамоту, здесь не должно вводить в заблуждение.
Кроме земельных пожалований, властями выдавались различные разрешения на льготы. Собственно говоря, одного права на держание земли было мало. Землевладельцы стремились получить независимость в некоторых сферах от центральных и местных властей — такое право учеными называется феодальным иммунитетом. Он бывал административным — когда землевладелец получал право принимать некоторые управленческие решения на своей территории, например, не пускать туда каких-то лиц (скоморохов, попрошаек, незваных гостей и т. д.). Особенно часто о праве выгонять чужаков просили обители, судя по грамотам, изрядно страдавшие от внезапных приездов местных гуляк на бесплатные монастырские трапезы и их бесчинств, смущающих монахов и монашек.
Иммунитет мог быть фискальным — его-то чаще всего и добивались: освобождение на время или навсегда от уплаты различных видов податей и несения повинностей. Среди главных надо выделить дань — налог, который платился великому князю. Вероятно, судя по названию, его корни надо искать еще во временах ордынского владычества, когда князья собирали с населения дань для татарских ханов. Теперь он целиком оставался у представителей верховной власти. По всей видимости, к ордынской эпохе восходит предыстория и другой повинности — так называемого яма, обязанности предоставлять лошадей и все необходимое для гонцов, послов и других перемещающихся по территории княжьих порученцев. В средневековье был известен татарский ям — поставка лошадей для татарских послов. Позже из яма вырастет российская вестовая и почтовая служба.
Крестьяне-земледельцы платили оброк с сохи (сохой называлась единица измерения земельной площади). В разных уездах и бывших удельных княжествах размеры сохи и платежа с нее были разными, при Василии III они колебались от одного до трех рублей. Это зависело от исторических традиций данной территории, и великий князь, по крайней мере в начале XVI века, считался с ними. Кроме того, крестьяне исполняли разнообразные повинности, связанные с великим или удельным князем и его деятельностью: косили для него сено, участвовали загонщиками в охоте, собирали и платили так называемый тук — корм для княжеских собак и лошадей. Простолюдины занимались постройкой мостов, гатей, устройством прудов, нанимались в уже упоминавшиеся «чернорабочие войны» — посоху, заготавливали камень и известь для строительства и т. д. Кроме того, платились разнообразные пошлины с жизненных событий (например, знаменная пошлина — с мужчины, вступающего в брак, и другие свадебные пошлины). С перевоза товаров и торговых операций брались таможенные пошлины: тамга, мыт и померное. Отдельная плата взималась за перевозы через реки и болота, за клеймение коней (конское пятно). Особняком стояли дополнительные платежи наместничего корма и выплаты землевладельцу.
Единой налоговой системы при Василии III еще не было. Как нестабильным был и состав адресатов выплат: тот же монастырь мог получить право взимать плату за перевоз через речку, на которой стояла монастырская деревенька, или просто ежегодно получать какую-то сумму от доходов местной таможни — в качестве государева пожалования. А остальные деньги шли в государеву казну. Поэтому именно предоставление фискального иммунитета или перевод на себя части выплат было вожделенной мечтой и светских, и церковных землевладельцев. В течение всего правления Василия III они стремились добиться для себя как можно больше подобных льгот.
Здесь, однако, желания феодалов противоречили курсу на централизацию государственной власти. А централизация власти всегда есть в первую очередь централизация финансов, перевод всех денежных потоков в исключительное ведение верховной власти. Кому, как не великим князьям московским, было знать, что деньги, проходя через руки, имеют тенденцию к ним прилипать. Как они прилипали к рукам Калитичей, десятилетиями собиравших дань для Орды и во многом на этом построивших могущество московского великокняжеского дома. Как известно, Иван Калита — первый московский князь, который сам стал собирать дань для татар, — в итоге накопил столько денег, что 14 соседних земель просто купил.
Поэтому с 1491 года, еще при Иване III, власть берет жесткий курс на ограничение фискального иммунитета и светских, и духовных феодалов. Как показал историк С. М. Каштанов, вплоть до середины 1511 года правительство «чрезвычайно строго придерживалось принципов иммунитетной политики, выработанных в последние 15 лет княжения Ивана III. Особенно касалось это податного иммунитета. В великокняжеские грамоты 1505-го — середины 1511 года, за редчайшими исключениями, не помещались статьи, фиксировавшие свободу феодальных владений от податей и пошлин»[112]. Позже курс Василия III меняется, он начинает жаловать монастыри в том числе и освобождениями от налогов и повинностей. Но это получило развитие уже во второй половине его правления, когда местного финансового сепаратизма можно было уже совсем не опасаться и фискальные льготы монастырям только укрепляли авторитет государя.
В документах также часто фигурирует судебный иммунитет — когда люди, жившие на земле феодала, оказывались по некоторым видам преступлений неподсудны центральному и местному воеводскому суду. Как правило, в ведении землевладельцев оставляли только незначительные имущественные преступления, но это была существенная льгота, привлекавшая к держателю земли крестьян — он их защищал от произвола властей, которого всегда хватало на Руси. Акт, вводивший освобождение от наместничьего или княжеского суда, назывался несудимой грамотой. При Василии III такие привилегии давались довольно широко.
Как можно оценить политику по выдаче жалованных грамот, раздаче земель и иммунитетов Василием III? Ведь, собственно, в этой деятельности — рутинной, почти повседневной — и проявлялся государь как хозяин своей страны, который помнит о подданных, помогает им, дает им средства к существованию и к лучшей жизни.
С. М. Каштанов считал действия Василия III в области выдачи жалованных грамот результатом продуманной концептуальной политики. Смысл этой политики был в наступлении государства на церковное землевладение и, по возможности, его сокращении и ущемлении. На 1505–1507 годы приходится 48 известных нам грамот (почти шестая доля от всех актов). В эти годы, согласно мнению ученого, дьяки Волдырь Паюсов и Данила Киприянов по приказу Василия III проводили частичный пересмотр старых жалованных грамот с целью ограничения содержащихся в них иммунитетных привилегий. То, что при этом происходила раздача земель, административных и судебных привилегий, ученый объясняет тем, что они были «…лишь видимостью пожалования новых привилегий духовным корпорациям. На самом деле это мероприятие прежде всего преследовало цель сокращения старых прерогатив феодалов»[113]. Прежде всего изымалось право монастырей за деньги клеймить лошадей — право монастырского пятна.
До 1514 года Василий III продолжал начатую Иваном III политику ограничения налоговых и податных льгот духовных и светских феодалов. Но потом он дрогнул и в 1515–1518 годах выдал «серию» грамот с разного рода привилегиями, в том числе фискальными[114]. Вплоть до 1522 года правительство «вынужденно идет на уступки духовным корпорациям»[115]. В этих действиях ученый видит продуманный план: усиливать положение московских монастырей-вотчинников в удельных (и бывших удельных) землях и тем самым добиваться ослабления уделов и возвышения великокняжеской власти. С помощью раздач жалованных грамот создаются зоны привилегированного землевладения, которыми окружаются уделы. Эти меры оказались успешными, удельные землевладельцы были ослаблены. В 1522–1533 годах имел место третий период земельной политики Василия III, компромиссный, когда какие-то монастыри получали привилегии (Троице-Сергиев, Иосифо-Волоколамский и др.), а в отношении остальных вводились ограничения.
Как уже говорилось, в это время на Руси шли споры нестяжателей и иосифлян о церковных имуществах, в том числе и о земельных владениях. С. М. Каштанов и поддержавший его А. А. Зимин были склонны считать, что Василий III сперва сочувствовал нестяжателям, потому что ему нравилась их идея, что церковь не должна иметь имуществ — а значит, все церковное имущество должно отойти государству, персонифицированному в государе. Но потом иосифляне разработали идеологическую доктрину верховной власти, неоднократно помогали Василию III в различных трудных политических ситуациях, истово служили монарху, не брезгуя клятвопреступлением, интригами, лживыми клятвами, а нестяжатели, напротив, выступали против некоторых действий Василия III. И он щедро наградил иосифлянскую церковь раздачами земель, льгот, привилегий, освобождений от налогов и т. д. А лидеры нестяжателей оказались за решеткой[116]. С. М. Каштанов писал, что 1512–1513 годы «явились кульминационным моментом союза Василия III с нестяжателями. Летом 1511 г. митрополитом стал видный последователь Нила Сорского Варлаам. Очевидно, при поддержке Варлаама правительству Василия III удалось каким-то образом приостановить рост монастырского землевладения». Именно в эти годы распространяются ружные грамоты — ругой, то есть хлебным и денежным государственным жалованием пытались заменить для обителей земельные раздачи. Но Василий III разошелся с Варлаамом в вопросе расширения или сокращения судебного иммунитета монастырей, после чего обратился к иосифлянам. «Перемена политической ориентации великокняжеского правительства не замедлила сказаться и на отношении его к монастырскому иммунитету»[117].
Думается, что в этих построениях нет ответа на два очень важных вопроса. Во-первых, совершенно отсутствует религиозная мотивация поступков Василия III и его правительства. При всем уважении к политикам XVI века, думается, что в их поступках было куда меньше рационализма и куда больше желания преподнести дар святой обители, монахи которой потом будут молить Бога за щедрого монарха. Во всяком случае, раздачи земель и льгот 1520–1530-х годов непременно надо связывать с многочисленными в это время молитвами Василия III о чадородии, благодарением о рождении наследника. Если в честь этого ставились храмы, то почему в земельной политике этих лет надо видеть исключительно поиск экономической выгоды и скрытое, но горячее желание отобрать у церкви земли и привилегии?
Второй момент, который не получил почти никакого объяснения, — большое число жалованных грамот, исходящее от удельных князей. Ведь они в совокупности выдали почти треть от известных нам грамот Василия III (приблизительно 100 против 300) — а при этом их материальные возможности по сравнению с великокняжескими были куда скуднее. Ученые видели в их поступках в основном козни против центральной власти, попытки заручиться поддержкой церкви в борьбе удельных сепаратистов против Русского централизованного государства. Конечно, в действиях удельных правителей несомненно проглядывало желание получить благосклонность высших церковных иерархов, ведущих монастырей, влиятельных архимандритов и игуменов. Но только ли политическими интригами, намерением «подкупить» церковь было вызвано это желание? Ведь удельным князьям тоже было за что молить Бога…
Необходимо, на наш взгляд, сделать еще одну ремарку. К сожалению, нам с высоты XXI века очень сложно судить о внутренней политике московских государей и даже о том, была ли, собственно говоря, в этих земельных и льготных раздачах какая-либо определенная политика. Чего в самом деле здесь было больше: продуманного социально-экономического курса, игры на материальных интересах феодалов, пожалования храмам и монастырям со стороны могучего светского, но притом глубоко верующего государя? Или в той или иной мере присутствовали все эти мотивы?
Для этого обратимся к документам. По подсчетам С. М. Каштанова, известно 247 иммунитетных грамот, выданных церквям и монастырям от имени Василия III, из них 226 жалованных и 21 указная. Последние архивные изыскания позволили немного расширить этот список, но не принципиально: сегодня известно немногим менее трехсот таких документов. К этому надо добавить около ста жалованных грамот удельных князей (Федора Волоцкого, Дмитрия Угличского, Юрия Дмитровского, Андрея Старицкого), выданных церквям и монастырям в первой трети XVI века.
При распределении грамот по годам и местностям становится очевидно, что это не все документы, а только какая-то их часть. Причем какая — установить невозможно. Соответственно, восстановление целостной и полной картины земельной политики Василия III нереально — перед нами только фрагменты документальных комплексов, уцелевшие по прихоти судьбы. И делать по этим обрывкам уверенные глобальные выводы, выделять четко датируемые этапы, на наш взгляд, не всегда обоснованно.
Русский государь имел образ справедливого судьи, последней инстанции в спорах слабых с сильными мира сего. Об этой социальной роли верховного правителя говорилось в Чине венчания на великое княжение Дмитрия-внука 1498 года: «Суди людей твоих правдою». Это связывало государя с образом библейского царя Давида — православным идеалом правителя («И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим» — 2 Цар. 8: 15; «Господь, по вечной любви Своей к Израилю, поставил тебя царем, творить суд и правду» — 3 Цар. 10: 9; и т. д.).
Под «судом и правдой» понималась не только абстрактная высшая справедливость, но и совершенно конкретные судебные разбирательства, заступничество за правых, но слабых, перед лицом сильных, но неправедных. От государя ожидали именно такого поведения. И летописи содержат примеры, когда Василий III эти чаяния оправдывал. Другой вопрос, насколько эти официальные оценки совпадали с реальным положением дел.
Приведем несколько эпизодов. 6 сентября 1518 года Василий III издал указ о судебной реформе в Великом Новгороде, «слышав, что наместники притесняют людей сильно и их чиновники (тиуны) судят, беря взятки». Справедливость была восстановлена по классическим канонам обращения к «земле», то есть к угнетенному народу: «из улицы» было выбрано 48 человек, которые принесли присягу, поцеловав крест, и стали судебными чиновниками — целовальниками. Теперь вместе с наместником в суде заседал новгородский купеческий староста, а с тиунами судебные процедуры осуществляли выборные целовальники, по четыре человека, которые ежемесячно ротировались[118]. Тем самым Василий III действительно сильно ограничил административные возможности мздоимства.
В роли спасителя от засилья криминальных элементов Василий III выступил в Новгороде в 1531 году. В город по его приказу приехали дьяки Яков Шишкин, Афанасий Фуников и Митя Великий. Они разметили улицы, перегородили их через определенные промежутки решетками. С 1 октября по улицам уже нельзя было свободно ходить по ночам: у решеток горели огни и стояла стража, которая проверяла благонадежность прохожих. Раздолью воров на улицах ночного Новгорода был положен конец. Летописец об этом пишет так: «Прежде было в городе много злых людей, грабежей, воровства и убийств, и всяких злых дел, и с тех пор наступила милость Божия и великая тишина по всему городу от лихих людей, хищников и убийц, и многие злые люди из-за той крепости градской убежали прочь, и пропали без вести, а иные покаялись и обучились честному труду»[119]. Тем самым на Новгород был распространен успешный московский опыт борьбы с уличной преступностью.
Но главным, конечно, была повседневная юриспруденция. При Василии III должен был действовать Судебник 1497 года, принятый Иваном III. Правда, здесь кроется некоторая загадка. Дело в том, что в делопроизводстве нет прямых следов этого кодекса. Если, скажем, Судебник Ивана Грозного 1550 года, несомненно, применялся — дошло несколько десятков его списков со следами использования, дьячими пометами на полях, приписями и т. д., то ни одного подобного экземпляра Судебника 1497 года не существует. Он вообще дошел в одном-единственном списке, который ученые датируют в промежутке между 1543–1554 годами и связывают с московским Новоспасским монастырем[120]. Текст дефектен, из чего историки делают вывод о существовании «десятков списков» кодекса: мол, только тогда могли бы возникнуть ошибки, невозможные при переписывании с единственного экземпляра. Правда, эти «десятки» до нас не дошли.
Всего за 1500–1547 годы в актовом материале известно около двадцати отсылок на некое «уложение» или «судебник», под которыми, видимо, надлежит понимать Судебник 1497 года. Из них восемь приходятся на время правления Василия III. Видимо, все же в первой трети XVI века судопроизводство по централизованному великокняжескому закону еще только переживало свое становление. Судили не только по Судебнику, но и по уставным грамотам — локальным законодательным актам, данным великим князем отдельным областям, по конкретным государевым указам, наконец, с учетом местных обычаев и здравого смысла.
Судебник 1497 года, действовавший и при Василии III, предусматривал три типа судов: великого князя и его детей, бояр и окольничих, местный суд наместников и волостелей. Случаи прямого великокняжеского суда, видимо, были редкими. Гораздо чаще его участие в судопроизводстве выражалось в выдаче указных грамот о назначении тех или иных лиц судьями для разбирательства конкретного дела. Такой указ содержал имена назначенцев и краткое описание дела и давался от имени Василия III. В дальнейшем, ссылаясь на данное распоряжение, судья мог действовать «государевым словом». Как и в случае с жалованными грамотами, такие документы готовились в государственном аппарате, и ссылки на монарха не должны вводить в заблуждение. Но они придавали высшую легитимность самому суду, который осуществлялся как бы от имени Василия III.
Сам судебный процесс и принятое решение описывались в специальном документе — так называемой правой грамоте. Она содержала имена судей, истцов и ответчиков, описание сути конфликта, показания участников процесса и свидетелей, описание способа установления истины, мотивов принятия судебного решения и самого решения. Правая грамота могла даваться с докладом Василию III, то есть в ряде случаев он ставился в известность об итогах судебного разбирательства.
Также мог последовать прямой указ государя — рассудить дело так или иначе, одернуть зарвавшихся местных администраторов, чинивших произвол. Так, 11 августа 1511 года Василий III приказал владимирским городовым приказчикам вернуть Ивану Бородину несправедливо отобранную у него пожню[121]. 9 августа 1532 года Василий III приказал расследовать в Рязани тяжбу о земле Филиппова Корь[122].
Но иной раз надлежало и побудить местных администраторов к действию. 5 февраля 1533 года Василий III писал в Рязань Ф. И. Ромоданову, чтобы он прогнал с монастырской земли крестьянина Ивана Ботурина, злостного неплательщика оброка. В течение месяца злодей должен был собрать вещички и убраться восвояси, в противном случае — «ты б его однолично выметал вон»[123].
Конечно, степень личного участия Василия III в принятии подобных решений трудноустановима. Но для нас важно подчеркнуть, что фигурирование в документации судебных решений от имени государя формировало в сознании современников его определенный образ, символическую фигуру справедливого судьи, выше которого только Бог.
Каковы были приблизительный распорядок дня, сфера занятий государя в течение суток? Увы, все наши реконструкции носят значительную долю условности, так как в них привлекается материал за вторую половину XVI–XVII век. Источники по этой стороне жизни Василия III весьма скудны. Актового материала и иностранных описаний дворцовой жизни мало, а в русских летописях эта сторона жизни почти не получала освещения. Такова особенность древнерусского летописания: в нем гораздо больше внимания уделялось внешней политике, войнам, дипломатии или церковному строительству, а вот отношения внутри великокняжеского дома, внутренняя политика, какие-либо государственные преобразования и уж тем более дворцовая жизнь попадали на страницы хроник только случайно. Данная сфера считалась государевой вотчиной, о которой не стоит говорить публично. Во всяком случае, летописцы о ней дружно помалкивали.
Но хотя бы приблизительное представление о повседневной жизни государя, на наш взгляд, составить все же можно. Попытаемся вообразить себе один день с Василием III.
В обычае русских государей было вставать очень рано. Одеваться и совершать утренний туалет (причесывание, умывание) ему помогал постельничий. После чего государь проходил в молельную комнату. Там его встречали духовник, священник и дьяк для совершения службы. Если судить по описаниям XVII века, то после молитвы государя окропляли освященной водой из праздничных сосудов. После чего следовало чтение дьяком вслух фрагмента из книги «Златоуст» — какого-либо церковного поучения.
После этого государь направлялся в покой к жене и встречался с ней в передней или столовой. Вместе они шли в один из кремлевских храмов слушать заутреню. Вернувшись, монарх мог заняться первыми делами: принять доклады от людей в передней, провести какие-то встречи или небольшие заседания с прибывшими во дворец боярами и т. д. Как правило, после этого вместе с боярами и другими спутниками он либо шел к обедне в одну из придворных церквей, либо торжественно выезжал в какой-то московский храм, если случался какой-либо церковный праздник.
По возвращении во дворец государь занимался решением текущих дел, принимал людей, разбирал бумаги, принимал иностранных послов и т. д. После этого следовал обед. Если был какой-либо прием, то он происходил в столовой и стол оказывался более роскошным. В обычные дни государь ел один, и довольно простую пищу. При этом он неукоснительно соблюдал все посты, понимая, сколько глаз подданных на него смотрят, — православный царь по своему положению просто обязан был ревностно и истово соблюдать все обряды и церковные правила, чтобы никто не мог усомниться в его высоком статусе и примере для других христиан.
После обеда государь спал, затем выходил к вечерней службе — и, если в государстве не случалось дел, требующих его вмешательства, от вечерней службы до ужина было его семейное время, время общения с женой, детьми, домочадцами и т. д. День заканчивался молитвой в молельной комнате и отходом ко сну с помощью того же постельничего.
Это — стандартный кремлевский день. На самом деле государь часто был занят публичными делами: смотрами служилых людей, объездом различных дворцовых служб, участием в церковных мероприятиях — молебнах, крестных ходах, выносах икон и т. д. Немалое время занимали выезды — на богомолье в отдаленные монастыри, а также посещения великокняжеских сел, охота и «государев прохлад», то есть загородный отдых. Василий III не был домоседом и посещал по необходимости другие города, выезжал в армию и т. д.
Словом, быть государем означало жить немалым трудом — всегда напоказ, всегда на виду, мало принадлежать себе и гораздо больше — условностям эпохи и потребностям текущей политики. Российские монархи в то время не проводили время в увеселениях, как некоторые их потомки, — для этого просто не было возможностей. Они служили Богу, и их службой Богу была забота о вверенной Господом стране и христианском люде. Так они понимали свое место на этой земле, в это верили и этим жили. Таким был и Василий III.
Собственно развлечений у государя было не так и много. Василий III любил охоту и то, что мы бы назвали «загородными поездками». Особенно во второй половине правления он с удовольствием на один-два месяца покидал Москву, ездил по монастырям или жил в дальних резиденциях. Там прогуливался, размышлял, охотился. У государя было два главных места, где он останавливался подолгу: его охотничьи угодья на Волоке Дамском (первая «потеха» там состоялась в апреле 1515 года; кроме того, летописец зафиксировал крупные поездки на Волок с 14 сентября по 8 ноября 1518 года) и так называемая Новая слобода, которая в будущем войдет в историю как печально знаменитая опричная столица Ивана Грозного — Александрова слобода (здесь, к примеру, Василий III «осеневал» в 1528 году).
Сохранилось описание охоты Василия III, сделанное в 1518 году венецианским послом Франческо да Колло. Он писал:
«Охота происходила в роще, на расстоянии мили от Москвы, окруженной просторной равниной. Принимали в ней участие около 2000 всадников, разделенных на несколько групп, затем пешие с собаками, очень красивыми и породистыми, а кроме того всадники с 200 хищных птиц (наверное, кречетами и соколами) преимущественно белого цвета. Князь в хорошем настроении ехал на белом коне, в белой одежде с золотыми вышивками и предводил своей охотой… В начале охоты гончие собаки отправляются в лес, чтобы преследовать добычу. Выбегает столько лисиц и зайцев, что борзые не знают, кого им преследовать. За один час было собрано 80 лисиц и зайцев, и князь отдает приказ закончить охоту… Неподалеку находятся искусственно устроенные пруды, в которых множество уток, гусей и других птиц. Князь собственноручно выпускает кречетов и других хищных птиц, которые устремляются на добычу. И в данном случае добыча значительная: более 70 уток за очень короткое время. Затем все направляются пировать в соседнюю усадьбу, состоящую из нескольких деревянных построек, очень красивых, находящихся посреди парков и садов… Князь расположился на золотой кафедре, ноги его отдыхают на скамеечке. Около него скамейки, покрытые коврами… Подают арбузы и дыни, яблоки, разные яства и, конечно, пьют много медовухи»[124].
В сентябре 1515 года Василий III ездил «на побывание» в Ярославль; в июне 1519 года «жил» в Острове, а потом вернулся к Москве, но в столицу не поехал, а до осени проводил время в селе Воронцове. Летом 1527 года до конца августа он жил в селе Воробьеве. Осенью 1531 года из Троице-Сергиева монастыря ездил охотиться на Волок и в Можайск. Наконец, он смертельно заболел во время поездки на Волок из Троицы осенью 1533 года, и 23 ноября его привезли в Москву умирать.
Что же касается дворцовых развлечений, то о склонности Василия III к «потехам» у нас нет никаких сведений. Известно, что Иван Грозный любил шахматы (официально запрещенные церковью как «игра развратная»), а Алексей Михайлович — домашнюю музыку и придворный театр. А вот про Василия Ивановича мы ничего не знаем — никаких зацепок.
Были ли у правителя домашние животные? В 1490 году русские правители впервые получили в подарок попугая, которого привез посол германского императора Юрий Делатор[125]. От эпохи Василия III точных сведений о попугаях и канарейках во дворце нет, но они вполне могли быть. Позже, в XVII веке, во дворце в клетках держали соловьев, щеглов, снегирей, перепелок. Из четвероногих не исключено обитание во дворце ручных горностаев и белок. А вот кошки исполняли скорее не декоративную, а практическую функцию: ловили мышей и крыс. Собаки содержались на специальной псарне; неизвестно, держали ли их в покоях дворца. То же касается лошадей.
Мы не знаем круга чтения Василия III. С именем его сына, Ивана Грозного, связывают легендарную библиотеку Палеологов (что, впрочем, является мифом). Известен состав личной библиотеки первого русского царя[126]. А вот читал ли что-либо Василий III, кроме обязательной духовной литературы, неизвестно. Да и культура восприятия священных текстов на Руси была в большей степени слуховой, вербальной — их слушали на церковных службах, читали вслух при различных обрядах и ритуалах, и люди усваивали их и помнили огромные отрывки наизусть из-за многочисленных повторений. Тихое же, личное духовное чтение было распространено в основном в монастырях.
Некоторые штрихи к облику государя и какой-то свет на его человеческие интересы проливают пять сохранившихся писем Василия III его второй жене, Елене Глинской (1525–1533)[127]. Единственная немедицинская тема писем — сообщение о том, что муж-государь послал супруге подарок. Но тут Василий III оригинальностью не отличился: он преподнес икону, образ Преображения (1526). Основное содержание посланий — информация о своем здоровье и вопросы о здоровье Елены и наследника престола княжича Ивана: «Яз здесь, дал Бог, милостию Божиею и Пречистые Его Матери и чюдотворца Николы, жив до Божьей воли и поздорову есми совсем и не болит у меня, дал Бог, ничто. А ты б ко мне и вперед о своем здоровье отписывала и о своем здоровье без вести меня не держала и о своей болезни отписывала, как тебя там Бог милует, чтобы мне про то было ведомо» (1526).
О сыне Иване — особая забота Василия III, которая сквозит буквально в каждой фразе письма: «…а ныне писала есми ко мне, что у сына Ивана явилось на шее под затылком место высоко и крепко, а наперед чего о том еси мне не писала! А ныне пишешь, что утре, в неделю, на первом часу, то место на шее стало у него повыше и черленее, а гною нет, и то место у него поболает. И ты ко мне наперед того чего деля о том не писала?» (между 1530 и 1533 годами).
Новоиспеченный отец буквально исходил беспокойством: «И со княгинями бы еси и з боярынями поговорила, что таково у сына Ивана явилося и жывет ли таково у детей у малых? И будет жывет, ино с чего таково жывет, с роду ли, или с иного с чего? О всем бы еси о том з боярынями поговорила и их выпросила, да ко мне о том отписала подлинно, чтобы то яз ведал. Да и впредь как чают, ни мака ли то будет?»
Что такое эта зловещая «мака»? Значение этого термина раскрыл американский исследователь Э. Кинан[128]. Под ним понималась опасная болезнь, туберкулез шейных лимфатических узлов (современное название — туберкулезный шейный лимфаденит). Слава богу, оказалось — не «мака». Нарыв прорвался, вышел гной, опухоль спала. Будущий Иван Грозный выжил… Но беспокойство Василия Ивановича не было пустым: туберкулезные поражения тканей в XVI веке лечить не умели, сам Василий III умрет от похожей болезни — ученые предполагают, что у него мог быть туберкулезный абсцесс на ноге.
В остальных посланиях Василий благодарил жену за описание цвета мочи второго сына, Юрия, просил сообщать, что кушают дети, как здоровье матери, рассказывал о том, как у него болят зубы. В общем, его письма почти ничем не отличаются от взволнованных посланий любого начинающего папы к маме о своем первенце. Да и предмет описания тоже — чем ребенок пописал, что съел, что означает то или иное красное пятнышко на его коже… Круг интересов и проблем абсолютно универсален и в XVI веке, и в наши дни. Единственный нюанс — ни одно из этих писем не написано Василием собственноручно. Все он диктовал своему дьяку. Значит ли это, что государь был неграмотным? В принципе, такая ситуация не исключена. Известно, к примеру, что сын Василия III Иван Грозный умел читать — но мы также не знаем ни единой буквы, написанной им собственноручно. В качестве подписи монарх прикладывал перстень с печатью.
Вообще болезни особ государева семейства были большой проблемой. Характерно, что Василий III, узнав о болезни сына, просит жену не обратиться к врачу, а поспрашивать мамок-бабок, других придворных женщин, рожавших младенцев. Где же государев лекарь? Он не фигурирует ни в одном из писем. Видимо, такой должности еще не существовало — недаром Софья Палеолог в 1490 году выписывала для пасынка врача из Италии. Несколько большее количество заморских докторов появится только при дворе Ивана Грозного, да и это будет вызвано не желанием наладить медицинское обслуживание царя, а просто общим увеличением числа иностранцев в Москве. Собственная придворная медицинская служба появится только у весьма болезненного государя Михаила Федоровича (1613–1645) — первого русского царя, который носил очки.
А как же в начале XVI века лечился русский монарх? А так же, как и все остальные: молитвой, баней, народными снадобьями. Так, сын Василия III Иван Грозный лечился от зубной боли прикладыванием к щеке зуба святого Антипия, окованного серебром. Зуб хранился в его личной молельной комнате, стало быть, бывал часто востребован… Когда у Василия III в 1533 году открылась на бедре рана, его лечили прикладыванием к ней печеного лука и смешанной с медом пшеничной муки. Все, к чему привели подобные меры, — воспаление и летальный исход.
Таким образом, жизнь человека, даже столь обеспеченного и благополучного, как государь всея Руси, была воистину в руце Божьей. Французский историк Ж. Ле Гофф, описывая средневековое общество, обратил внимание на особую психологию тогдашних людей. Их жизнь была необычайно хрупка, так как количество «факторов риска» несравнимо с нашим временем. Эпидемии, случайные отравления некачественной пищей, пожары (Василий III пережил первый крупный городской пожар, уничтоживший значительную часть Москвы, в 14 лет, в июле 1493 года), войны, несчастные случаи, а для рядовых горожан, монахов, крестьян — еще и произвол власть предержащих, когда прибить могли просто так, походя, даже не заметив… Сколь-либо серьезная болезнь почти всегда означала смерть или увечье.
Но вот эта хрупкость бытия обеспечивала особую интенсивность жизни. Люди спешили жить, спешили что-то успеть. Рано взрослели, рано заводили семью, рано совершали поступки, для которых сегодня существует гласный или негласный возрастной ценз. Люди того времени отличались от нас бо?льшим чувством остроты жизни, необходимости ее полноты.
В полной мере это относится и к жителям Московского государства времени Василия III. Можем ли мы хоть в какой-то степени приподнять завесу над их мировоззрением, моралью, поведенческими установками? И эту модель перенести — с известной долей условности — на Василия III? Наверное, кое-что здесь возможно. Как известно, все православные христиане должны были ходить к исповеди. Сохранились церковные служебные сборники XVI века, содержащие вопросы, которые священники должны были задавать прихожанам. Из этих вопросов можно установить круг нравственных проблем, волновавших людей того времени именно в личной, интимной сфере и области человеческих взаимоотношений. Причем это касалось всех, от простолюдина до великого князя. У каждого из них был свой духовный отец, исповедовавший по типовым и высочайше утвержденным и освященным образцам. В Чине исповедания есть оговорка: «…аще ли сам будет князь»[129], то есть на главу светской власти распространялись те же правила, что и на всех.
Набор грехов был основан на христианском вероучении. При этом преступлением являлся как сам проступок, так и «помышление» о нем: все равно очиститься можно было только через покаяние. На первом месте стоял блуд (разнообразные прегрешения в половой сфере), затем татьба (воровство), грабеж могил, разбой, душегубство, осуждение других, несправедливый гнев, клевета, хула, ложь, зависть и прочие «скверные помышления», ссора с другом, которая не закончилась примирением, лукавство, лень, тщеславие, жадность, сребролюбие, насилие, немилосердие, языческие верования («к волхвам ходишь»), нарушение клятвы или неправедная клятва (особенно «именем Господним»), неправедный суд за взятку. Прегрешением было при передаче исказить смысл слов князя. Знание лекарственных трав и зелий приравнивалось к «отравам бесовским» и также запрещалось.
К грехам также относились злословие в адрес родителей и церкви (а также болтовня и смех в церкви во время службы). Нельзя было бить священника и монаха и выгонять его из своего дома. Порицались опоздание на церковную службу или тем более ее пропуск без уважительной причины. Само собой, жестко порицалось недержание постов. Отдельно выделялось такое прегрешение, как напиваться «до блевотины» (или «до беспамятства»), чревоугодие, объедение, веселые пиры с плясками и гуслями (как и вообще скоморошьи песни и игра на музыкальных инструментах). К числу экзотических грехов относились «помочиться на восток», «смех до слез», мазание калом или обливание мочой одежды окружающих из неприязненных побуждений, питье взрослыми женского молока, потребление в пищу мяса медведя и бобра, умывание молоком и медом с целью кого-нибудь потом напоить оскверненным напитком. Надлежало каяться в толковании снов, в нанесении ударов по лицу, плевании в лицо, рот и нос.
Убийство наказывалось епитимьей до пяти лет, но примечательно, что в некоторых списках убийство в бою, на войне тоже считалось грехом, достойным церковного наказания. То же касалось случайного убийства разбойника или вора — за них надо было нести покаяние.
Главный круг вопросов, которые задавали при исповеди, касался проблемы телесной чистоты. Прежде всего интересовались, каким образом прихожанин лишился девственности: было это в законном браке или нет и естественным или противоестественным путем. Дальше шли вопросы, со сколькими женщинами он спал, были ли это чьи-то жены, или вдовы, или блудницы, или принужденные силою рабыни, или — самое тяжкое — монахини. Следующий ряд вопросов был посвящен гомосексуальным связям. Пассивный грех считался менее тяжким, активная роль — бблыним согрешением, а хуже всего было сочетание этих ролей. Затем шли вопросы о половых сношениях с животными и о мастурбации («ручной грех»), которая разделялась на самоублажение и использование для этого чужих рук, что еще хуже, потому что грешат двое. Здесь в одном из списков Чина исповеди стоит примечательная ремарка: «…якоже некде князи творят с собою и иных губяще». Видимо, развлечения при княжеских дворах иногда приобретали своеобразный характер…
Вслед за этим исповедник начинал спрашивать, имел ли прихожанин половые сношения с родственниками, очень подробно перечисляя всю родню от братьев и сестер до родителей и их родственников. Следующим согрешением считалась связь с женой, «как с мужчиной» (анальный и оральный секс). Причем если жене нравилось, наказание было втрое большим (три года епитимьи против одного года, если муж заставил жену). Такой же запрет и такая же система наказаний (троекратного в случае, если женщине нравился этот вид половой связи) касались позиции «женщина сверху».
Видимо, здесь играли роль определенные гендерные стереотипы: мужчина не должен занимать даже в сексуальных позах подчиненное положение, а всегда обязан доминировать. Что же касается запретов на оральный, анальный секс, мастурбацию, гомосексуализм, то они запрещались, так как отрицался любой вид сексуальной связи, ставящий своей целью греховное ублажение плоти, но не деторождение. Можно было только с женой, только в разрешенные церковью дни и только для зачатия ребенка. Все остальное являлось грехом. Даже «…язык в рот втыкать жене» и просто спать голым.
Нельзя было иметь половую связь в субботу вечером и в святые праздники, в среду и пятницу. Не подобало кусать и хватать женщин и мужчин за груди и половые органы. Церковному наказанию подлежал также человек, не умывшийся после сношения и грязными руками берущий еду и питье. Половым преступлением считалось наступить кому-то на ногу (видимо, форма заигрывания в той же церкви между прихожанами и прихожанками, стоявшими толпой во время службы). Сюда же относилось подмигивание. Грехом было посещение «сонмища», где собирались «блудные бабы», причем не важно, было ли результативным это посещение. Запрещалось иметь половую связь с пьяной собственной женой, надо было подождать, пока она протрезвеет. Особо запрещались половые связи с иноверцами.
Развод был разрешен, но за второй брак прихожанин уже нес церковное наказание, а в случае третьего брака он нес пятилетнюю епитимью, причем ему запрещалось во время службы заходить в храм, он должен был стоять «у церкви»[130].
В XVI веке выделяются также отдельные списки «Вопросов вельможам». Судя по формулировке первого вопроса («Не изменил ли еси государю великому князю…»), некоторые можно отнести к правлению Василия III, потому что здесь еще не фигурирует царский титул. Вельможу спрашивали, не изменял ли он государю и не умышлял ли подобной измены через клятву верности — крестное целование; не морил ли свою челядь «ранами великими, наготою и босотою», не доводил ли своих «рабов» и подчиненных до самоубийства; не судил ли неправедно и не брал ли «мзды»[131].
Насколько данные тексты могут характеризовать нравы российского населения в первой половине XVI века? Думается, что вполне могут, хотя и с известными оговорками. Понятно, что если вопросы задавались, то, значит, имелись прецеденты — спрашивали только о том, что в принципе могло быть. Для средневековья характерно повышенное, болезненное, обостренное внимание к проблеме телесного греха — и именно ему посвящены самые подробные разделы вопросников.
Другое дело, что некоторые вопросы не стоит абсолютизировать и распространять на все общество. Ведь что такое вопросник в чину исповеди? Это рабочий экземпляр, написанный каким-то священником в качестве пособия для себя и своего круга. Несмотря на общепринятую основу — Чин Иоанна Постника — текст очень сильно варьировался. Его правили в соответствии с собственными представлениями, а также имевшими место прецедентами. Нередко происходила путаница. И поэтому в одних текстах считалось грехом мочиться на восток, а в других — на запад… Ко многим пунктам надо относиться с осторожностью и не отождествлять сексуальные фобии конкретного попа с типичными особенностями половой жизни россиян XVI века.
Можно ли как-то увязать эти тексты с нравственным обликом Василия III? Вопрос довольно сложный. С одной стороны, кажется нелепым, чтобы государя спрашивали, мочился ли он в молоко с целью потом им кого-нибудь напоить. С другой — из истории взаимоотношений сына Василия III, Ивана Грозного, со священником придворного Благовещенского собора Сильвестром мы знаем, что духовные лица в своем контроле могли быть очень дотошными. Иван IV жаловался, что от него требовали отчета во всем: что он ест, как он спит, что делает с женой и прочее, «до малейших и худейших». Терпение царя в конце концов лопнуло, и Сильвестр закончил свои дни в ссылке в Кирилло-Белозерском монастыре. Но этот сюжет подтверждает, что священники особо не стеснялись вмешиваться в интимную жизнь даже таких суровых правителей, как Иван Васильевич Грозный.
Существовал ли особый чин исповеди для государей? Да, но появляется он довольно поздно, в первой трети XVII века, и выглядит достаточно официозно. А список помещенных в нем вопросов — это просто какая-то летопись прегрешений русских монархов от Василия III до Василия Шуйского (1606–1610). Царей спрашивали, сколько раз они разводились и меняли жен (Василий III и Иван IV), не постригали ли свою жену в монастырь (они же), не захватывали ли престол насилием и неправдою (Борис Годунов, Лжедмитрий), не казнили ли кого неповинного (тут можно перечислить всех монархов XVI века, исключая разве что слабоумного Федора Ивановича), не нарушали ли они международных договоров (все нарушали), не обижали ли церковь (все обижали) и т. д.[132] То есть перед нами явно какая-то парадно-официозная декларация, которая мало может помочь нашей книге.
Нам представляется, что в эпоху Василия III только происходило становление особого социального статуса великого князя и государя всея Руси. И он исповедовался по общему чину. Если в чинах исповеди XIV–XV веков еще содержатся упоминания о князе, что подтверждает применимость этих вопросников к исповеди власть предержащих, то что такого должно было случиться в начале XVI века для изобретения особого, «деликатного» чина исповеди для великого князя московского и всея Руси? Думается, здесь все зависело от персоналий. Понятно, что духовниками Василия III могли стать только умные священнослужители, знавшие, когда и что можно и нужно сказать. Что, впрочем, не отменяет рисуемого в исповедальных вопросниках общего фона нравов эпохи.
Когда мы говорим о русских землях в средневековье, надо помнить, что вплоть до их объединения в единое Российское государство степень различия между ними иной раз была довольно велика. Разными были и внешнеполитические, и экономические ориентиры. Обращая внимание на экономики Северо-Западного региона — Новгородской и Псковской земли, — мы видим, что в XIV–XV веках они были теснейшим образом связаны с Прибалтикой. Если пользоваться терминологией знаменитого французского историка Фернана Броделя, треугольник «Новгород — Псков — Ливония» составлял в каком-то смысле особый «мир-экономику»[133]. Ливония была посредником в новгородско-псковской торговле с Европой, посредником необходимым, поскольку собственные возможности для морской торговли были ограничены. У русских имелись торговые корабли, но они плавали в основном по рекам и в акватории Финского залива. Дальние, заморские торговые экспедиции были редкостью. Чаще всего русские купцы с товаром добирались до Европы сушей через Великое княжество Литовское.
В свою очередь, ливонские города были очень заинтересованы в торговле с Новгородом и Псковом, без которой само существование Ливонии во многом теряло смысл.
Здешние крупные торговые центры — Ревель, Рига, Дерпт и другие — процветали. Насколько велики были их торговые связи с Новгородом и Псковом, какова вообще была доходность балтийской торговли? Картина получается крайне занимательной. Европейские купцы по документам имели очень низкий процент прибыли — от 5 до 22 процентов, но в основном не более 5–6 процентов[134]. Эта картина никак не стыкуется с тем значением, какое современники придавали балтийской торговле, и с теми богатствами, которая она наглядно приносила (что видно из городского роста того же Любека, Ревеля, Риги, который происходил явно не за счет пятипроцентной прибыли). Получается некая загадка — если купцы перепродавали в Любеке товар, купленный в Новгороде, почти по той же цене, то зачем они вообще занимались этой торговлей?
Разгадка кроется, с одной стороны, в психологии купечества того времени, а с другой — в особенностях торговых операций. Средневековая этика требовала так называемой «равной цены»: за сколько купил, за столько и продал. Сверхприбыли в 20, 50 и тем более 100 процентов считались греховными. Прилично было получить за свои труды лишь небольшой процент. Однако буквальное соблюдение таких этических принципов делало бы торговлю невыгодной.
Поэтому изобретались различные приемы, как прятать прибыль. Одним из них была дифференциация мер веса, длины и объема. И. Э. Клейненберг показал, что в разных пунктах в одну и ту же меру вкладывалось разное содержание. Например, шиффунт воска в Новгороде содержал 480 фунтов, в Ливонии превращался уже в 400 фунтов, а в Любеке — в 320![135] Разница в 160 фунтов потом продавалась отдельно и составляла чистую прибыль, при этом купеческая этика как бы соблюдалась, поскольку цена почти не менялась. Аналогичную картину рисует Н. А. Казакова: ласт импортируемой соли в Ревеле ганзейцы определяли в 15 мешков, но в Новгороде он превращался уже в 12[136].
Кроме того, существовала практика так называемых «наддач» (upgift), которые ганзейцы взимали практически со всех товаров: это пробы, образцы товара (отломанные куски воска, меха «на пробу»), которые брались бесплатно, как бы в качестве проверки товара, и часто составляли довольно значительные объемы. Поскольку эти предметы не были куплены — то они официально не включались в приобретенный товар и их последующая продажа составляла нигде не учитываемую чистую прибыль купца и при этом никак не нарушала средневековую этику.
Этика «справедливой цены» парадоксальным образом сочеталась с допустимостью правила «не обманешь — не продашь». Обмен, обвес, всучивание гнилого товара под видом первоклассного неэтичным не считались, а, наоборот, свидетельствовали об искусности купца. Русские источники пестрят обвинениями в адрес и ганзейских, и ливонских купцов в подобных нарушениях. В 1488 году, когда новгородский наместник Ивана III приказал, страшно сказать, взвешивать ганзейские товары, — это вызвало буквально взрыв беспокойства в Ливонии и Ганзе, бурную переписку и подготовку специального посольства в Москву с просьбой сохранить «старину», не взвешивать заморские бочки с медом и мешки с солью, а продавать по традиционным единицам товара — мешкам и бочкам, без контроля за весом содержимого.
Русский великий князь нашел прекрасный ответ — он заявил, что немцам никто не запрещает продавать товар без взвешивания. А вот новгородцам без взвешивания нельзя совершать торговые сделки. Так что если немцы найдут в Новгороде покупателя на товар без взвешивания — то пожалуйста, пусть торгуют, как хотят. А не найдут — придется соблюдать установленные для них правила…
Недаром с конца XV — начала XVI века главными пунктами требований новгородцев при заключении договоров с Ганзой были как раз требования установления четких и однозначных трактовок единиц мер и весов, их унификация между Новгородом и ганзейскими городами. Так же сокращались и регулировались размеры «наддач», «колупания воска» и т. д. Однако Новгородской республике, боявшейся помешать торговле с Ганзой и Ливонией, так и не удалось настоять на своих требованиях. «Колупание» и наддачи были отменены только Москвой в 1494 году, и в свойственной Московскому государству крутой манере: никто не запрещал немецким купцам «колупать», брать наддачи и т. д. Только вот русский купец, который разрешит делать это с продаваемым им товаром, наказывался штрафом в две гривны или битьем кнутом. То, чего Новгород добивался десятилетиями, оказалось сделано одним росчерком пера великокняжеского наместника…
Таким образом, на рубеже XV–XVI веков в благополучном процветании ливонской посреднической торговли зазвучали тревожные нотки. Мало кто тогда мог предполагать, что это был сигнал скорого, буквально в течение полувека, заката и гибели Ливонии. А причина заключалась как раз в разрушении прибалтийского «мира-экономики». Присоединение Новгорода к Русскому государству в 1471–1478 годах быстро привело к изменению его отношений с Ливонией. Как было показано в вышеприведенных примерах, европейские купцы стремительно почувствовали разницу между торговлей с Господином Великим Новгородом, самостоятельной феодальной республикой, и с Новгородом — центром Новгородского уезда Московской Руси. Пиком кризиса был разгром новгородского двора немецких купцов в 1494 году. Ливонцы так и не поняли, за что на них обрушились репрессии и зачем русские разорвали торговые связи.
Отношения с Новгородом, таким образом, сильно изменились. Оставался Псков. Хотя Псковская республика, в отличие от Новгородской, издревле имела прочные союзные связи с Москвой и симпатизировала Калитичам, она дорожила своей независимостью и входить в состав подданных Ивана III, а затем и Василия III не спешила. Независимость же основывалась на прочной экономической базе — торговых связях с Прибалтикой.
Москва, как и в случае с Новгородом, хотела взять эту высокодоходную сферу под свой контроль. Методы для этого были избраны политические. В феврале 1507 года 73 ганзейских города (в том числе ливонские) обратились к Василию III с просьбой о возвращении товаров, конфискованных в 1494 году при разгоне ганзейского двора в Новгороде. В ответной грамоте Василий III назвал условием возобновления переговоров с Ливонией и Ганзой расторжение ливонско-литовского военного союза и выплату компенсации по потерям русских купцов.
В 1509 году истек шестилетний срок русско-ливонского перемирия. Переговоры прошли по очень неудобной для ливонцев схеме, которую они считали унизительной. Все решилось на переговорах в Москве в марте 1509 года. Перемирие было продлено на 14 лет начиная с 25 марта 1509 года. Но для его оформления требовалось заключить три договора: новгородско-ливонский, псковско-ливонский и псковско-дерптский. Тем самым в дипломатической сфере, казалось бы, сохранялась некая правовая иллюзия самостоятельности северо-западных земель. Но на практике это правило унижало Ливонию: получалось, что ее послы заключают мир не с государем Василием III, а с мелкими местными администраторами, управляющими отдаленной провинцией далекой Московии… Ливонцы неоднократно требовали прекратить эту издевательскую практику, но Москва твердо стояла на соблюдении старых обычаев.
Важным успехом русской дипломатии в 1509 году было включение в текст новгородско-ливонского соглашения обязательства Ливонии разорвать союз с Великим княжеством Литовским и не заключать его впредь. Договором также подтверждалась ливонско-русская граница «по старине», как в предыдущих договорах.
Поскольку этим пунктом договора убиралась главная проблема русско-ливонских отношений, Москва пошла на возобновление ливонской торговли. В договор были внесены пункты из новгородско-ливонских договоров 1421, 1448, 1481, 1493 годов о свободе торговли в Ливонии для новгородских купцов, об условиях взимания пошлин с русских негоциантов в ливонских городах, об ограничении возможностей для немцев «колупать воск», об унификации мер и весов в Новгороде и немецких городах и др. Ливонским купцам гарантировались свободный проезд и торговля в Новгородской земле всеми товарами, кроме соли. Накладывались ограничения также на иностранную торговлю крепкими спиртными напитками в Новгороде.
Новым здесь был запрет на торговлю солью, значение которого трудно переоценить. Он был связан с общей политикой Российского государства в 1509–1510 годах, направленной на запрет импорта соли в связи с развитием собственной соледобывающей промышленности. Аналогичный запрет был включен в 1510 году в русско-ганзейский договор; поступление соли из Литвы и Швеции на рубеже XV–XVI веков также было ограничено, а потом и прекращено. И для Ливонии, и для Ганзы это был серьезнейший удар — недаром ходила поговорка, что Ревель «построен на соли».
Другим успехом русской стороны в новгородско-ливонском договоре 1509 года стало внесение изменений в юридический статус торговцев за рубежом. Традиционно каждая сторона судила гостей по своим законам. Теперь же местной юрисдикции подлежали только незначительные преступления и гражданские иски до десяти тысяч рублей. Тяжелые преступления и более крупные гражданские тяжбы должны были рассматриваться совместным русско-ливонским судом, который бы собирался на одном из островов на Нарове. Подтверждались также неприкосновенность русских церквей в ливонских городах и наказания за повреждения бороды у русских купцов (что рассматривалось как особое оскорбление).
Псковско-ливонский договор 1509 года сходен. В нем повторяются статьи о сохранении границы «по старине», о разделе районов рыболовства на Чудском озере (здесь была немного ограничена зона рыболовства Ливонии — ее рыбакам запрещалось ловить рыбу в Псковском озере и вступать на озеро Клитсар). По случаям нарушения границы также учреждался совместный суд на рубеже. Устанавливалась свобода торговли, отменялись для псковичей внутренние ливонские пошлины («колоды»), ливонские власти не имели права назначать цены на псковские товары и даже не могли препятствовать рубке леса псковичами на реке Эмбах. В свою очередь, ливонцам гарантировалась свобода торговли в Пскове всеми товарами, кроме соли и крепких спиртных напитков. Псковские власти не могли устанавливать цены на ливонские товары. «Колупание» воска разрешалось в небольших масштабах, причем «отколупленный» воск немцы должны были вернуть. Зато взимание «весчего» в Пскове для немцев было «по старине». Ливонцы обязывались освободить псковских купцов с товарами, а псковичи — отдать конфискованный товар ливонскому послу.
Принципиально новым являлся запрет и для ливонских, и для псковских властей устанавливать цены на товары гостей и ограничивать срок их пребывания. Также важно подчеркнуть, что псковские купцы получили право розничной торговли на иностранной территории и освобождение от части таможенных пошлин — льготы, которые иноземцам обычно не предоставлялись.
Псковско-дерптский договор 1509 года вводил перемирие на 14 лет. Подтверждалась старая псковско-ливонская граница и вводились правила торговли, сходные с вышеизложенными («чистый путь», отмена «колоды», право розничной торговли, право гостевой торговли, свобода от таможенных сборов). Дерптские купцы получали только право свободного проезда, а в остальном псковские торговцы имели преимущество. Специальными статьями гарантировалась защита русских церквей в Дерпте, вводился совместный суд и т. д. Кроме того, дерптский епископ подтвердил обязательство платить Пскову дань. Этот пункт, фигурировавший в договорах с 1463 года, на практике не выполнялся. Происхождение так называемой Юрьевской дани (Юрьев — древнерусское название Дерпта) таинственно и теряется во мгле веков. Но Россия считала пункт о дани важным — не в смысле денег (их все равно не платили), а как знак того, что дерптский архиепископ признает свое подчиненное положение от Пскова.
Почему в 1509 году Ливония согласилась с таким нарушением своих прав? За счет чего Василий III добился столь впечатляющего дипломатического успеха? По всей видимости, причиной податливости было то, что правительство Василия III, в отличие от местных властей Пскова, не очень-то дорожило балтийской торговлей. Ведь вопреки очевидной выгоде Россия почти на 20 лет, с 1494 по 1509 год, разорвала на Балтике свою торговлю с Ганзой, легко пошла на экономические санкции против Ливонии, требуя для себя беспрецедентных льгот. Русские купцы легко переключались на торговлю с Данией и Швецией (через Ивангород и Выборг) и на торговлю сухопутным путем с Великим княжеством Литовским. Для ливонцев же и ганзейцев потеря русского рынка была более чувствительной. И Ливония, и Ганза были готовы согласиться на льготы для русских, лишь бы они восстановили в Новгороде ганзейский двор и везли свои товары через ливонские порты.
Россия не спешила возобновлять торг. В 1510 году она потребовала вернуть «пограбленные» у русских купцов товары, отпустить пленных, выплатить компенсации погибшим, возвратить и очистить «полаты» и церкви русских негоциантов. Важным требованием было соблюдение церемониала, согласно которому именно Ливония должна просить о мире и возобновлении торга — прислать «челобитье».
Теперь все зависело от русско-ганзейских переговоров, которые и состоялись в 1510 году. Россия требовала запретить ввоз и торговлю солью, ограничить юрисдикцию местных судов делами до десяти рублей, гарантировать неприкосновенность русских церквей и «концов» в немецких городах. Н. А. Казакова справедливо замечает, что русские «концы» были только в ливонских городах, но не в германских, и этой статьей Россия при Василии III намечала проникновение в собственно немецкие города[137].
Таким образом, Москва интенсивно вмешивалась в экономическую и политическую жизнь северо-запада Руси. Собственно, псковский голос в этих событиях не очень-то и слышен. Присоединение Пскова к Московскому государству было уже во многом формальностью. Но для этого все же требовались некоторые действия, символические и юридические акты. Тем более что у Василия III к Пскову был персональный счет. В 1499 году псковичи не пустили его у них княжить и поддержали Дмитрия-внука. Такое не забывается. И теперь у Василия III появился шанс объяснить Пскову, кто на Руси главный.
Весной 1509 года псковский наместник великого князя Петр Васильевич Шестунов был смещен и заменен на князя Ивана Михайловича Репню Оболенского. В этом назначении можно усмотреть определенную провокацию: как горестно писал псковский летописец, «был тот князь лют до людей». Если рассматривать дальнейшие события, то можно предположить, что их сценарий был продуман заранее: назначение злого, жестокого и несправедливого наместника ставило псковичей в положение, когда они непременно на него пожаловались бы великому князю. А уж он должен был принять решение. А решения могли быть разными. Ведь государь мог счесть, что в конфликте виноват Псков, а князь Репня — агнец божий и верный слуга государя…
Неизвестно, была ли эта интрига продумана или Василий III действовал, что называется, «по ситуации». Но псковичи попали в расставленную ловушку. 23 сентября 1509 года Василий III выехал из Москвы в Новгород и прибыл туда 26 октября. Если верить московскому летописцу, к нему тут же приехал князь Репня с жалобой на непослушание псковичей. Василий III послал в Псков грамоту с требованием исправиться и во всем слушаться наместника. В ответ из Пскова прибыла делегация посадников и бояр во главе с Юрием Елисеевичем Копыл ой. Они привезли встречную жалобу, уже на Репню Оболенского и его бесчинства.
Если верить псковским источникам, то Копыла пожаловался первым. Василий III принял его благосклонно, обещал во всем разобраться и «держать» Псков «по старине», «жаловати и боронити, якоже отец и деды наши». Дальнейшая история в московских и псковских хрониках излагается по-разному. Суть разногласий в количестве взаимных жалоб, поданных друг на друга, и последовательности визитов жалобщиков. Единственное, что очевидно, — среди самих псковичей не было единства. Летописец пишет о насилии, которое чинили бояре и посадники «молодым псковичам», а посадник Леонтий вообще подал государю челобитную, что главный злодей и обидчик — его коллега Копыла, глава псковской делегации.
Копыла объявил, что единственный шанс добиться справедливости — это коллективно пожаловаться на Репню, иначе великий князь того оправдает, а во всех грехах обвинит Псков. Девять посадников и купеческие старосты приехали в Новгород. Но 6 января 1510 года они были арестованы по приказу Василия III. Если верить московской летописи, это произошло после того, как князь Репня предъявил доказательства «бесчестья», которое было ему со стороны псковских посадников и бояр. Одновременно из Пскова приехали «многие простые люди, каждый о своих обидах и нуждах, бить челом государю: иные на наместника Репню, а иные на помещиков новгородских, а иные на своих же псковичей».
Стало ясно, что этот мутный конфликт может быть урегулирован только вмешательством третьей силы, центральной власти. Тогда-то Василий III и заявил, что Псковская республика ликвидируется, вече распускается навсегда. Вечевой колокол снять! Вся власть в Пскове и его десяти пригородах переходит в руки двух великокняжеских наместников, присылаемых из Москвы. Если Псков примет эти условия — так и быть, государь не будет посылать на него войска.
Арестованным посадникам и купеческим старостам выбирать не приходилось. Они согласились со всеми условиями и присягнули на верность великому князю. В Псков выехал государев дьяк Третьяк Долматов с ультиматумом: до 16 января он должен живой и здоровый вернуться в Новгород и сообщить, что республика приняла все условия. 13 января 1510 года было созвано последнее вече в истории Пскова. На нем и объявили волю Василия III. Псковичи растерялись. К войне с Москвой никто готов не был. А другого способа отстоять вольности не существовало. Горожане сломались. Они стояли на вечевой площади и со слезами смотрели, как снимают вечевой колокол.
15 января Третьяк Долматов и посадник Кузьма Сысоев приехали в Новгород к Василию III и сообщили, что дело сделано. Псков у ног великого государя. Теперь можно было позволить себе триумф. В тот же день в Псков выехали дети боярские во главе с князем А. В. Ростовским и конюшим И. А. Челядниным для приведения населения к присяге Василию III. Также они должны были подготовить город для торжественного въезда государя. Для этого были выселены жители шести с половиной тысячи дворов Среднего города Пскова. Псковичи гадали, зачем московскому правителю столько пустого места.
Василий III въезжал в покоренный город торжественно. Расстояние между Новгородом и Псковом примерно в 200 километров он преодолевал пять дней: выехал 20 января, вступил в Псков 24-го. Перед городскими стенами его встретила толпа народа с иконами и дарами во главе с посадником Иваном Кротовым. 27 января Василий III вызвал к себе к Большой судной избе посадников, бояр, купцов и зажиточных горожан, всего несколько сот человек. Неизвестно, какие чувства обуревали этих людей. Возможно, привыкшие к псковским вечевым традициям, они надеялись на какой-то диалог. Но великий князь к ним даже не вышел. Вместо него явились А. В. Ростовский и И. А. Челяднин, которые объявили государеву волю: все собравшиеся должны с семьями навсегда покинуть Псков. Если верить псковской летописи, к высылке приговаривались 300 лучших семей. Причем выслали их уже 28 января, дав на сборы всего один день.
В пустой Средний город была поселена тысяча новгородских детей боярских, которые составили гарнизон города. Из Москвы прибыли 15 человек — специалистов по перечеканке денег и перерасчету таможенных пошлин, а для усиления гарнизона — 500 московских пищальников и воротники, занявшие ключевые пункты псковских укреплений. С десяти городов центра России, включая Москву, были «сведены» 300 купеческих семей и поселены в пустые дворы в Среднем городе. Таким образом, Василий III просто физически поменял прослойку купцов, торговавших с Прибалтикой. В Псков прибыли люди с совершенно другой психологией, деловыми ухватками, незнакомые с псковскими традициями.
Это был разгром и конец трехчастного балтийского мира-экономики (Новгород — Псков — Ливония). Из трех его частей две радикально поменяли свой облик. Это означало, что гибель Ливонии тоже не за горами.
Присоединение Пскова — еще одна акция из серии «трагедии непонимания» русской истории. У псковичей была своя правда, правда независимой городской республики, со своими политическими и культурными традициями. У Москвы — своя, правда развивающегося государства, нуждавшегося, как любой молодой организм, в пище для роста. Псковские городские верхи не сотрудничали с литовцами, как это было в Новгороде, а всегда ориентировались на Москву. Тем не менее это не спасло их от расправы. Единственным плюсом было то, что со Псковом обошлось без пролития крови. Высылка местной торговой элиты в данной ситуации была наименьшей ценой, которую требовалось заплатить. Никого не казнили и даже постарались особо не разорить. Понятно, что на новом месте приходилось все начинать заново, но все же это была высылка в Москву и центральные уезды, в места, где можно жить, а не в гиблые земли. Ее смысл был именно в том, чтобы разорвать скрепы, связывавшие Псков с балтийской торговлей и делавшие из него прибалтийский мир-экономику. А вместо этого навсегда привязать к Москве, к единому Русскому государству.
Сами псковичи восприняли случившееся как трагедию. Псковский летописец писал: «О славнейший из городов великий Псков, почему сетуешь, почему плачешь. И отвечал град Псков: как мне не сетовать, как мне не плакать? Прилетел на меня многокрылый орел, крылья полны когтей, и взял меня от ливанского древа кедра, наказание от Бога за грехи наши, и землю нашу пусту сотворил, и град наш разорил, и людей наших пленил, и торжища наши разгромил… а отцов и братьев наших разлучил, и сослал туда, где ни отцы, ни деды, ни прадеды не бывали». В 1567 году игумен Псково-Печерского монастыря Корнилий, комментируя давние события, писал: Псков «был пленен не иноверными, но своими единоверными людьми. И кто от этого не восплачет и не возрыдает?»[138].
Как можно расценивать присоединение Пскова? Для республики это была утрата независимости, прекращение самостоятельного пути развития, выпадение из балтийского мира-экономики. Началась новая жизнь, жизнь пограничного города Российского государства, его северо-западного форпоста. Как показали ученые, это вызвало даже кратковременный рост городского строительства в Пскове. Если за 100 лет между 1404–1508 годами в Пскове было построено 38 церквей, то за 17 лет с 1516-го по 1533-й — 17. В 1517, 1524, 1525–1526 годах перестраивались городские укрепления[139]. Для единой России приращение богатой северо-западной республикой имело, конечно, прогрессивное значение.
Псковская история содержала в себе еще один примечательный эпизод. Во время псковского похода Василий III составил свое первое в жизни завещание. Остается загадкой, кого он объявлял наследником престола — в 1533 году при составлении второго завещания великий князь приказал уничтожить первоначальный текст. Детей у него не было, но в 1509 году эта проблема еще не вытеснила из сознания государя все остальные и не превратилась в болезненную. Отдавать престол братьям? По традиции Василий Иванович должен был поступить именно так. Но слишком уж непростые отношения сложились внутри великокняжеской семьи. Историк А. А. Зимин предполагал, что Василий хотел отдать престол своему зятю Петру, крещеному татарскому царевичу, брату ханов Абдул-Латифа и Мухаммед-Эмина. Именно Петр не раз официально назначался местоблюстителем трона на Москве во время отъездов Василия III[140]. Но положение татарских царевичей при московском дворе всегда было зависимым, и не стоит обманываться их формально высокими местами в иерархии — они их занимали потому, что считались «царями», то есть по статусу были автоматически выше русской знати. Однако за весь XVI век нам неизвестно ни одного татарского князя или «царя», который был бы в русской политике самостоятельной политической фигурой, обладал бы реальным весом, при этом числясь на службе у московских государей. Все они — марионетки, которых использовали в своих целях великие князья. И в обход братьев завещать столь ничтожному государственному деятелю московский престол? Имея в виду, что братья с этим решением категорически не согласятся и неизбежны усобица и война? На чью поддержку мог рассчитывать в этой ситуации крещеный татарский царевич? Так что кандидатура царевича Петра вызывает большие сомнения.
Осенью 1512 года из Великого княжества Литовского пришла трагическая весть. Сестра Василия III, вдова Александра Ягеллончика, великая княгиня Елена была арестована и брошена в тюрьму. Ее схватили во время поездки из Вильно в браславское имение и обвинили в подготовке бегства в Москву. Поводом послужило то, что она отослала вперед себя свои пожитки, — это сочли признаком намерения совершить побег. Арест был постыдным: виленский воевода Миколай Радзивилл, Троцкий воевода Григорий Остикович и дворецкий Войтех Клочко, «взяв за рукава», силой вывели Елену из церкви, нарушив древний закон о неприкосновенности в храме. Княгиню привезли сначала в Троки, потом в Бирштаны. Там она и умерла между 29 января и 26 февраля 1513 года. Возможно, ей помогли умереть — в документах упоминается некий «человек», который давал ей «лихое зелье».
Собиралась ли Елена бежать на самом деле? Это неизвестно. Против нее говорят донос ее дворецкого, отправка казны поближе к границе и выход к границе в районе Браслава русских войск под командованием М. Ю. Щуки Кутузова, М. С. Воронцова и А. Н. Бутурлина, двигавшихся со стороны Великих Лук. С другой стороны, донос мог быть и ложным. Браслав принадлежал Елене, здесь на Замковой горе она основала монастырь с церковью Святой Варвары, где часто проводила время после смерти мужа, великого князя Александра. Почему бы ей не перевозить свое имущество, как заблагорассудится? Маневры русских войск вблизи литовской границы — вообще вещь довольно обыденная. Зачем для обеспечения бегства выдвигать к границе подразделения под командованием целых четырех воевод? По идее, побег, напротив, должен быть скрытным. Это же не войсковая операция по освобождению заложников на территории противника…
Арест Елены послужил поводом к войне. Именно поводом, потому что причин и так было предостаточно. Границы оставались неурегулированными. Местные дворяне, пользуясь тем, что центральные власти обеих стран смотрели на подобные вещи сквозь пальцы и даже негласно поощряли, вовсю нападали друг на друга. Обе стороны жаловались на самовольные захваты деревень, грабежи, увод людей и скота. Только в одной Полоцкой земле русскими было захвачено 14 волостей. Проблема была в том, что население территорий, отошедших к Москве в начале XVI века, видимо, еще до конца не осознало, что их включение в состав России — это всерьез и надолго. Но и русская сторона относилась к ним потребительски, как к трофею. Словом, граница должна была стабилизироваться и быть признанной всеми сторонами не только на уровне официальных перемирных грамот, но и в глазах приграничного населения. А вот этого к 1512 году еще не произошло.
Василий III отказался выдавать Михаила Глинского, что создавало для Литвы опасный прецедент. Эдак любой амбициозный аристократ мог затеять вооруженный мятеж и потом бежать в Россию и чувствовать себя абсолютно безнаказанным. Добрую волю не хотели демонстрировать обе стороны: плененные в предыдущих порубежных войнах и русские, и подданные Великого княжества Литовского в 1510 году все еще сидели в заточении и обмен пленными раз за разом срывался. Большие трудности испытывали купцы: в 1511–1512 годах имели место их аресты с товарами и на территории Великого княжества, и в России. Василий III постоянно — и небеспочвенно — подозревал Сигизмунда I в намерении заключить военный союз с Крымом против Москвы и в науськивании хана на Русь. Естественно, что такая угроза и откровенно враждебная позиция раздражали. Словом, все указывало на неизбежность новой войны. И подьячий Васюк Всеславский повез в Литву грамоту Василия III, в которой тот объявлял, что «складывает» с себя клятву соблюдать перемирие. Это означало объявление войны.
В этой кампании Василий III делал ставку на внезапность и упреждение возможного военного союза Литвы и Крымского ханства. До 26 октября 1512 года он еще вел переписку с Сигизмундом I, требуя отпустить Елену. Тщетность призывов к справедливости и милосердию польского короля была очевидна. 14 ноября русская конница во главе с князем И. М. Репней Оболенским и И. А. Челяндиным выступила в направлении Смоленска. Им приказали сжечь окрестности города и, не начиная осады, идти под Оршу и Друцк. На соединение с ними от Великих Лук шли полки под началом В. С. Одоевского и С. Ф. Курбского. 19 декабря 1512 года в поход выступила государева армия во главе с самим Василием III. В январе 1513 года началась осада Смоленска.
Каким образом Смоленск оказался в составе Великого княжества Литовского и почему он стал главной целью Василия III? Самостоятельное Смоленское княжество выделилось еще при князе Ростиславе Мстиславиче (1127–1159). Оно росло и крепло, и в начале XIV века смоленские князья обрели статус «великих». Первым великим князем в Смоленске был Иван Александрович (между 1313–1340 годами). Однако смоляне испытывали сильное давление со стороны соседней Литвы и неоднократно на некоторые периоды оказывались в зависимости от нее (конец XIII века, 1360–1365 годы и т. д.). Последние упоминания смоленского князя с великокняжеским титулом относятся к 1372 (Святослав Иванович) и 1386 годам (Юрий Святославич). Окончательный переход Смоленска под власть Великого княжества Литовского (1404) пресек развитие Смоленской земли как самостоятельного государства. Юрий Святославич Смоленский отъехал в Москву, принял подданство Калитичей, а смоляне сдались Витовту[141].
Факт перехода Юрия Святославича на службу Калитичам давал им основания претендовать на вотчину Юрия — Смоленск. То есть действия Василия III были, с его точки зрения, абсолютно легитимны. Он боролся за возвращение своей старинной вотчины, коварно отнятой супостатом.
Насколько Смоленск был интегрирован в состав Великого княжества Литовского? Большинство населения было православным, но православие, особенно в восточных землях, было нормой для Литовского государства. Даже в столице — Вильно — православных храмов в первой половине XVI века было чуть ли не больше, чем костелов (по подсчетам Е. Охманьского, к середине XVI века 15 православных и 14 католических церквей)[142]. Сторонники православия чувствовали себя в Литве в то время спокойно и уверенно. Проблемы начнутся ближе к концу XVI века и будут связаны с Брестской унией, союзом части православного духовенства с католиками. А при Василии III религиозный фактор ни в коей мере не сближал Россию и православных подданных Великого княжества Литовского и не вырабатывал у последних промосковских чувств.
Как и все крупные городские центры Литовской державы, Смоленск имел привилегии, узаконенные специальной королевской грамотой — привилеем. Первый привилей был получен в 1404 году, второй — около 1442 года, последний датируется 1505 годом, как раз накануне Смоленской войны Василия III. В этих документах гарантировались неприкосновенность церковного имущества, исполнение права завещания, описывался порядок разрешения споров и конфликтов среди горожан (при этом запрещались арест и заключение за мелкие преступления). Смоляне освобождались от ряда государственных повинностей: выделения подвод и коней, платы за тамгу (клеймение коней) и т. д. Особым указом 1500 года смоляне на 15 лет были освобождены от уплаты мыта — торговой пошлины. Специальные статьи привилея 1505 года обещали не держать в Смоленске литовские корчмы и уравнивали в правах князей, бояр и панов смоленских с литовскими. Король не имел права «вступаться» в старинные вотчины смоленской знати[143].
Такие права и не снились горожанам в Московском государстве. Они делали городское население Великого княжества Литовского местными патриотами куда лучше любых лозунгов и идеологий. Горожане стояли насмерть и сопротивлялись российским войскам потому, что присоединение к Москве означало бы для них утрату выстраданного статуса, в какой-то степени завоеванного с оружием в руках, — так, второй привилей 1442 года Смоленск получил как знак примирения с королем после восстания в 1440 году за восстановление независимого Смоленского княжества. Лояльность смолян была куплена, но цена оказалась высокой и устраивала обе стороны. Поэтому появление в 1512 году под стенами Смоленска войск Василия III было воспринято горожанами достаточно единодушно: пришел враг, и надо отражать его нападение. Никаких братских чувств между славянами Великого княжества Литовского и Московского государства не возникало.
Многое в этом походе было впервые. В предыдущих войнах с Литвой таких крупных крепостей еще не брали. Государь впервые выполнял роль главнокомандующего в столь серьезном походе. Наконец, русская армия только набиралась опыта в ведении столь масштабных боевых действий в зимних условиях. Видимо, в силу этого осада оказалась неудачной. У поместной конницы прекрасно получились привычные действия: «загоны», кавалерийские рейды с разорением и грабежом незащищенных деревень и окрестностей городов. Дети боярские прошлись по округе Орши, Друцка, Борисова, отдельные отряды дошли до Минска, Витебска и Браславля. А войска покорного Москве князя Василия Шемячича Новгород-Северского, если верить победным реляциям, даже сожгли посады Киева.
А вот под Смоленском Василий III простоял шесть недель, но крепость так и не взял. Она была удачно расположена, подходы к ней перекрывали река и болота. Крепость окружали ров и высокий вал. Стены были сложены из четырехугольных дубовых срубов, набитых изнутри землей и глиной. Снаружи они также были обмазаны глиной, чтобы их нельзя было поджечь зажигательными снарядами. Город штурмовали днем, псковские пищальники пытались атаковать ночью. Для куража им выкатили несколько бочек вина. По стенам била осадная артиллерия. Но самая крупная восточная крепость Великого княжества Литовского оказалась москвичам не по зубам.
Русская летопись поход прокомментировала кратко: Василий III «…граду Смоленску многие скорби и убытки поделал и земли Литовской много пленив, возвратился»[144]. За этими словами крылась горечь неудачи. Иностранные источники писали, что под Смоленском погибло до 11 тысяч русских, примерно одна шестая всего войска. Это, видимо, вымысел — говорить об участии в осаде шестидесятитысячного московского войска было бы явным преувеличением. 60 тысяч воинов на марше, из которых большинство конных, обоз, артиллерия на конной тяге — все это означает огромную цифру в 150–200 тысяч коней. Где бы они все разместились под Смоленском и что бы ели шесть недель? Думается, что реальные размеры русской армии, равно как и смоленского гарнизона, были гораздо меньше. На это указывает и мобильность полков Василия III, вряд ли бы возможная при перемещениях столь значительных людских и конных масс.
Сигизмунд I в переписке с родственниками хвастался, что русский монарх бежал из-под Смоленска, лишь только заслышал о приближении огромного польско-литовского войска. Но в других источниках нет сведений ни о каком войске, выдвинутом на помощь Смоленску. Смоляне отбились сами. А Сигизмунд 14 марта писал в Рим и просил организовать против русских крестовый поход силами христианского мира… Видимо, тут перед нами случай, когда король хотел приписать себе чужие лавры.
Сняв осаду, Василий III вернулся в Москву и практически сразу, уже 17 марта 1513 года, принял решение о повторном походе. К нему готовились обе стороны. Прежде всего, были нужны европейские военные специалисты. Их наймом в Силезии и Чехии занялся порученец Михаила Глинского некий Шляйниц. Примечательно, что нанятых рейтаров провезли через Ливонию, которая всегда выступала за блокаду Русского государства, недопущение в него военных товаров и специалистов. Запреты и рекомендации относительно блокады исходили от Священной Римской империи («в руки варваров не должно попадать современное оружие»), но именно она в 1513 году через Любек прислала отряд пехоты и несколько итальянских специалистов по осаде крепостей…
Великое княжество Литовское тоже готовилось к продолжению войны. С марта по сентябрь 1512 года подряд вышли несколько указов о сборе чрезвычайных налогов, о созыве войска. Эффект оказался невелик, способность к мобилизации была слабой стороной Великого княжества Литовского, паны саботировали королевские распоряжения. Несколько большие перспективы сулила дипломатия — 5 сентября 1512 года литовский посол в Крыму подписал союзный договор, по которому хан Менгли-Гирей обещал отвоевать у Василия III земли, потерянные Александром Ягеллончиком, и передать их Сигизмунду I. Если уж не получалось собрать свое войско, можно было попробовать добиться успеха чужими руками.
Но татары были уж очень каверзным союзником. В том же 1512 году, пообещав напасть на Россию, они вместо этого обрушились походом на дружественную Литве Валахию. Сигизмунд пытался выяснить, почему произошла такая внезапная смена ориентиров, но нарвался на отповедь татарского посла, который пустился в пространные рассуждения: «А с чего король взял, что Валахия — его друг? Хану виднее, кто кому друг, кто враг»[145]. Словом, стало ясно, что направление удара татар целиком и полностью зависит от их собственных соображений, союзные договоры им не указ. Такое «плодотворное» партнерство не могло остановить русского натиска на Смоленск.
На этот раз в Москве решено было наступать летом — осенью, в более привычное и удобное время. Кампания началась 14 июня 1513 года. Армия под началом Василия III двинулась в направлении Смоленска через Боровск. 11 августа от Великих Лук и Дорогобужа в направлении Полоцка вышли войска князя В. В. Шуйского и Д. В. Щени. Первым к Смоленску прибыл отряд под командованием бывшего псковского наместника И. В. Репни Оболенского и окольничего А. В. Сабурова. Начались погромы смоленских посадов. Литовские войска под началом воеводы и смоленского наместника Юрия Глебовича организовали вылазку, но под городом «на валах» были разбиты.
Сигизмунд I объявил, что войско, увы, не собрано, надежда только на наемников, а их нанимать некогда. Поэтому спасение Смоленска есть дело самих смолян. Тем временем на помощь осаждающим подошли полки Михаила Глинского и татарского царевича Ак-Доулета. А 11 сентября в поход из Боровска выступил сам Василий III. 22 сентября он пришел под Смоленск. Осада длилась четыре недели, сопровождалась интенсивным артиллерийским обстрелом города. Литовские источники говорят о 80-тысячном войске под стенами города и еще 24-тысячном под Полоцком и 8-тысячном под Витебском[146]. Это, конечно, завышенные цифры, но войско, видимо, было значительным.
Однако вновь Смоленск выстоял. Есть свидетельства, что горожане испытывали большую нужду и даже съели всех лошадей, но готовы были скорее съесть друг друга, чем сдаться. Население проявило большую стойкость, за ночь восстанавливая то, что русская артиллерия разрушала днем. Василий III неоднократно посылал в город грамоты с призывом к сдаче, обещая милости и льготы. Но ему не верили. Смоленск не хотел превратиться в уездный город Московской Руси и готов был для этого стоять насмерть.
Из успешных действий российских войск надо отметить «загоны» под Оршу, Мстиславль, Кричев и Полоцк. Но не более того. Русским довольно успешно противодействовали литовские отряды под командованием Константина Острожского. Московский летописец писал, что на этот раз «всю землю пленили», не уточняя деталей. Ни одной крепости взять не удалось. Мало того, Острожский своими контрударами практически снял осаду и отогнал русские войска от Витебска, Полоцка, Орши. А столь хорошо получающиеся кавалерийские рейды по незащищенным деревням и городским окрестностям погоды не делали — с их помощью нельзя было выиграть войну.
И здесь проявилась твердость характера Василия III. Осада Смоленска была снята 1 ноября 1513 года. На обратном пути московские войска пытались с налета взять Оршу, но в этот год им совершенно не везло. 21 ноября Василий вернулся в Москву. Поездил по монастырям, посетил свою отдаленную резиденцию Новую слободу. Переварил горечь второго провала, переосмыслил ситуацию. И уже в феврале 1514 года отдал распоряжение готовиться к третьему походу. В конце этого месяца, не откладывая дела в долгий ящик, через Дорогобуж в направлении Смоленска двинулись войска под командованием Д. В. Щени.
Некоторые меры предпринимал и Сигизмунд I, несколько смущенный упорством русского монарха. Он дважды, в 1512 и 1513 годах, присылал в Москву гонцов за грамотой на проезд в Россию больших послов. Грамота выдавалась, но король в положенный срок послов не отправлял. Переговоры для него были лишь способом затянуть время. В марте 1514 года было решено ввести поголовщину — специальный налог на наем польских солдат (жолнеров): грош с крестьянина, два гроша с бояр, злотый с урядника. В апреле начался сбор наемников. Но все делалось как-то вяло. Показателен пример: в ноябре 1513 года, когда второй поход был уже закончен, в Вильно из Кракова наконец-то прибыла долгожданная польская поддержка: аж 30 бочек пороху! (Хотя они, конечно, не пропали и пригодились во время третьего похода.) В 1514 году Корона наняла для войны с Россией аж 2064 конных и две тысячи пеших наемников[147]. Такими силами можно было разгонять отдельные отряды русской кавалерии, промышлявшей «загонами» вдали от основных сил. Но, скажем, предотвратить или снять осаду Смоленска нечего было и пытаться. Так и случилось: во время осады Смоленска отряд наемников под командованием некоего Спергальдта засел в Орше и время от времени делал вылазки и нападал на небольшие разрозненные группы русских. Этим военная помощь Смоленску и ограничилась.
С упорством, достойным лучшего применения, Великое княжество Литовское продолжало наступать на те же самые грабли в отношении Крымского ханства. Сигизмунд I почему-то решил, что фактическое предательство татар в 1512 году было случайным недоразумением, и 2 февраля 1514 года вновь заключил союз с Крымом. Правда, на этот раз король не надеялся на самостоятельные походы татар и 28 февраля попросил хана прислать воинов для совместного похода в составе литовского войска. Слух о продвижении к Киеву десятитысячного отряда татар страшно воодушевил Сигизмунда. Однако татары разбили станы в поле у Черкас и простояли там всю войну, время от времени посылая в Вильно гонцов с изъявлением полной преданности королю. Причина была проста: Василий III в татарской политике оказался более искусным. Он сумел договориться с ногаями, чтобы те «пощипали» крымские улусы. И хан держал войска против нападений ногаев, а отряд под Киев был послан лишь для видимости.
Сигизмунд I допустил роковую ошибку, доверившись человеку, который своим предательством лишил Великое княжество Литовское Смоленска. В истории третьего штурма 1514 года убеждаешься в правильности знаменитого лозунга «Кадры решают все». Сигизмунд сменил Юрия Глебовича на Юрия Сологуба, который уже был смоленским наместником в 1503–1507 годах. Новый воевода принялся истово и демонстративно поднимать моральный дух смолян. 9 апреля он вместе с епископом Варсонофием привел горожан к присяге королю. В Кракове и Вильно были довольны и одобрительно качали головами. Однако именно Сологуб, громче всех кричавший о верности монарху и готовности воевать с московитами до победного конца, дрогнет при первых выстрелах русских орудий, предаст город неприятелю и позже будет казнен в Литве за измену.
А вот Василий III, напротив, основную ставку сделал на полководческие и дипломатические таланты Михаила Глинского. Расчет был на то, что князь-эмигрант сумеет лучше договориться со своими былыми соотечественниками, зная их сильные и слабые стороны. Как оказалось впоследствии, эти надежды блестяще оправдались.
Михаил Глинский со своим отрядом с тысячу человек кочевал в окрестностях Смоленска уже с апреля 1514 года. Князь не столько воевал, сколько вступал в переговоры с местными жителями, пугая их нашествием московской армии и суля всяческие блага в случае перехода на службу государю всея Руси. Сам Василий III выступил из Москвы 8 июня. Первыми к окраинам Смоленска вышли полки Б. И. Горбатого, М. В. Горбатого Киселки, конюшего И. А. Челяднина. В июле, после прибытия главных сил, осада началась. Ни Вильно, ни Краков ничем не помогли городу. Лишь 24 мая, когда русские уже были под Смоленском, объявили сбор ополчения, причем срок сбора назначили на 24 июня. Сроки, естественно, соблюдены не были. Пока ополчение («посполитое рушанье») собиралось, пока комплектовались полки и намечались маршруты похода, Смоленск пал.
Василий III на этот раз сделал ставку на долговременный изнуряющий обстрел города. Польские источники писали, что в русском войске было от 140 до 300 орудий. Смоленск был буквально расстрелян ураганным артиллерийским огнем. Летописец рисует драматическую картину: «И пушки и пищали большие вокруг города установив, повелел бить по нему со всех сторон, и приступы великие чинить без перерывов, и огненными зарядами внутрь города стрелять. И от стрельбы пушек и пищалей, и от людского крика и вопля, и от ответного огня защитников города земля восколебалась, и от дыма людям друг друга видно не стало, и весь город был в огне и дыму, казалось, что он на облаках дыма поднимается на небо»[148]. Огонь был столь плотным, что русское ядро влетело в ось канала ствола литовской пушки, и та взорвалась прямо на позиции.
Смоленск к такой плотности огня оказался не готов. В городе начались пожары. Горожане набивались в храмы, молили Господа о спасении от московских варваров. Была сочинена даже специальная церковная служба покровителю города — святому Меркурию Смоленскому. Но Небеса отвернулись от смолян. Юрий Сологуб вскоре после начала канонады запросил перемирия на один день. Василий III отказал, обстрел продолжился. Тактика была избрана верная: пока военные действия касались собственно войск и стоявшего на стенах гарнизона, Смоленск держался крепко. Но теперь жители видели, как пылают их дома, как гибнет нажитое поколениями имущество, как прячутся в погребах и под деревьями их жены и дети, как волокут под руки в укрытие беспомощных стариков… Крепкие стены уже не были защитой и преградой. Ядра крушили храмы, к молитвам которых Небо оказалось глухим. И Смоленск дрогнул. Жители захотели прекращения огня любой ценой, вплоть до сдачи города.
Переговоры от имени смоленского епископа Варсонофия и воеводы Сологуба вел боярин Михаил Пивов. Со стороны Василия III в них участвовали дворянин И. Ю. Шигона Поджогин и дьяк Иван Телешев. Психологическую обработку смолян вовсю вел Михаил Глинский, убеждавший, что Василий III намерен стоять под городом целый год и все время его обстреливать, а вот если горожане сдадутся, то государь прольет на них дождь таких благ, которые и не снились при Сигизмунде… Есть сведения, что Василий III не поскупился и на подкуп гарнизона. Польский король в письме своему брату, венгерскому королю Владиславу, со злостью писал о преступлении и вероломстве наемников и трусливых смоленских аристократов[149].
Сигизмунд ошибался: дело было не столько в вероломстве и трусости, сколько в усталости жителей. Три года войны, три осады подряд… Каждый раз русские войска беспрепятственно доходили до смоленских стен, хозяйничали в округе. А это означало, что город третий год подряд зависел от ввоза продовольствия извне, поскольку сельская округа была разорена. Где, спрашивается, король? Где войска Великого княжества? Неужели вся помощь — это несколько сотен наемников, готовых перепродаться при серьезной опасности? Почему никто не спешит на подмогу, не пытается снять осаду, отбросить врагов-московитов от смоленских стен? Третий год смоляне рассчитывали только на себя, силы таяли, а Василий III, напротив, в каждый поход все наращивал давление. И он смог перейти какую-то невидимую черту, за которой Смоленск дрогнул. Дрогнул, когда стало ясно, что с московитами дешевле договориться, чем воевать. И что помощь Сигизмунда не придет. Надо самим искать пути собственного спасения.
Город был сдан 30 или 31 июля (по разным данным). Ворота открылись, делегация городских властей была принята в шатре Василия III и обедала с ним. А 1 августа состоялось торжественное праздничное вступление русского монарха в покоренную крепость. Правда, Смоленск сумел добиться очень выгодных условий капитуляции: 10 августа Василий III в полном объеме подтвердил все права и привилегии горожан, основанные на привилее 1505 года. Он даже обещал не делать массовых переселений в другие города и не переселять в Смоленск и округу московских детей боярских. Другой вопрос: сколь долго город сумеет сохранить эти льготные условия? Выселения «подозрительных лиц» из Смоленска вглубь России начнутся уже осенью 1514 года, после поражения под Оршей. Но говорить о безоговорочной капитуляции смолян все же нельзя: они сдались не по своей воле, но на своих условиях.
Великий князь торжествовал. Взятие Смоленска было пиком его успехов, самой крупной военной победой. Она переломила ситуацию на западном направлении: если к Ивану III отъезжали литовские князья с вотчинами, то к его сыну приходили на поклон проситься в его государство целые города. 7 августа на Мстиславль выступили полки М. Д. Щенятева и И. М. Воротынского. Не дожидаясь начала боевых действий, князь Михаил Мстиславский «бил челом» о приеме в службу вместе со своей вотчиной. Поступок его объяснялся просто: «…его бояре и горожане Мстиславля помогать ему в обороне не захотели». Бесспорно, это было вызвано впечатлением от падения Смоленска. М. М. Кром справедливо указал, что Смоленская крепость была узловым пунктом обороны всего Верхнего Поднепровья[150]: отсюда в мелкие крепостицы поставлялось вооружение, боеприпасы, присылались войска, наемники и т. д. Смоленск координировал действия по обороне целого региона. И теперь мелкие города и крепости оказались звеньями разбитой цепи. 13 августа с просьбой о переходе в подданство Василию III обратились делегации горожан Кричева и Дубровны. Их торжественно приняли в состав Московского государства.
Однако на этом успехи закончились. Мало того, начались неприятности. Первым их доставил Михаил Глинский. Князь, видимо, рассчитывал на высокие награды и почести как герой «Смоленского взятия». Судя по всему, он хотел стать властителем Смоленска, возможно, на правах удела.
Нам не совсем ясны обстоятельства «дела Глинского» 1514 года. Официальная летопись рисует картину, согласно которой «князь великий послал слугу своего князя Михаила Глинского со многими людьми беречь свою отчину город Смоленск и другие города», а тот изменил, вступил в тайный сговор с литовцами, «ссылался с королем и с его панами и наводил их на великого князя людей, а сам хочет бежать в Литву». Об обстоятельствах падения и ареста Михаила Глинского ходили легенды, отразившиеся в переписке того времени и в записках имперского посла Сигизмунда Герберштейна. Они содержат романтическую и поучительную историю, как Михаил Глинский будто бы заявил Василию III: «Великий князь Московский, я сегодня дарю тебе крепость Смоленск, которую ты давно желал приобрести, что же ты даришь мне?» Василий якобы издевательски ответил, что дарит Глинскому Великое княжество Литовское — пожалование, конечно, абсолютно иллюзорное. Глинскому было на что крепко обидеться. Вот тут-то, как писал Герберштейн, князь Михаил и решил вернуться в Литву. Он вступил в переписку с королем Сигизмундом I и даже добился присылки охранной грамоты. Но у него возникло сомнение: не является ли эта грамота ловушкой, способом заманить его в Литву, где ему обрадуется лишь королевский палач? И перебежчик потребовал прислать еще грамоту-подтверждение. Ее послали с королевскими советниками, немецкими рыцарями Георгием Писбеком и Иоанном фон Рехенбергом. Однако интенсивные перемещения гонцов привлекли внимание русской разведки, и гонца удалось перехватить. Вскоре был схвачен ничего не подозревающий Глинский, который со своим небольшим отрядом мирно следовал параллельным курсом вместе с основными силами русской армии по направлению к Орше[151].
На самом деле, история здесь запутанная, и не стоит безоговорочно доверять ни Герберштейну, ни дипломатической переписке, ни русской летописи. Первое, что бросается в глаза, — явная вымышленность речи Глинского к Василию III. Помимо ее откровенной театральности, она содержит принципиальную ошибку: Глинский никак не мог обратиться к государю всея Руси «великий князь московский». Он не остался бы на свободе уже после одного такого обращения. А вот европейский автор, особенно из Польши или Литвы, где Василия III иначе как «великим князем московским» и не называли, выдумывая диалог, употребил бы именно это выражение. А раз слова Глинского искажены в одном месте — где гарантия, что они правильно переданы в остальном и что вся сцена не придумана от начала до конца?
Более вероятно здесь другое: князь Михаил крупно разошелся с Василием III в оценке своего вклада в победу, оказался обижен, сказал много ненужных и энергичных слов, о которых незамедлительно донесли государю… Словом, Глинскому быстро разъяснили, что на Руси бывает с нескромными героями.
Тайные контакты Глинского с литовской стороной, несомненно, имели место. Они подтверждаются многочисленными свидетельствами источников. До чего конкретно стороны успели договориться, что было ценой прощения Глинского и что он рассчитывал получить в Литве, — мы точно не знаем. Но так или иначе, покоритель Смоленска на многие годы оказался в заточении. Для Василия III это тем более было приятно, что теперь лаврами победителя не надо было делиться ни с кем.
В 1515 году в Риме вышло несколько сочинений, рассказывающих, как был спасен христианский мир. Спасителем выступала Польша, форпост католического Запада против варваров с Востока. Король Сигизмунд и его рыцари встали живым щитом и остановили русских схизматиков, мечтавших потопить в крови Европу. Итальянские читатели на разные лады произносили непривычное слово: «Орша»[152]. А в римских храмах служили благодарственные молебны о том, как были побеждены враги имени Христова. Так польская пропаганда сумела преподнести Европе свою победу над московитами в сражении 8 сентября 1514 года. Русская армия под командованием М. И. Булгакова и И. А. Челяднина была разбита на поле между Оршей и Дубровной, на реке Крапивне, притоке Березины.
Тревожные звоночки для Василия III стали раздаваться сразу же после взятия Смоленска. 27 августа люблинский староста Ян Пилецкий разбил русский отряд под Борисовом. 1 сентября разгрому подвергся второй отряд, некоего Кислицы. 30 августа Сигизмунд скомандовал выступление от Борисова основных сил. Относительно их размеров мнения историков расходятся. Упоминающаяся в источниках цифра в 33–35 тысяч, несомненно, завышена: в первой половине XVI века самое большое «посполитое рушание» в Великом княжестве Литовском собиралось в 1529 году — по вычислениям Тадеуша Корзона, 24 446 человек[153].
Под Оршей войск было меньше. Историк А. Н. Лобин подсчитал состав действующей здесь армии Великого княжества Литовского: польские войска (наемники и «охочие») составляли больше половины армии: наемники гетмана Я. Сверчовского (первый отряд — 2063 «коня» и две тысячи пехоты; второй отряд — 1600 «коней» и тысяча пехоты), хоругви панов из Великой и Малой Польши: Кмитов, Тесчинских, Тарновских, Зборовских, Остророгов, Чарнковских, Зарембовских и других (всего 13 хоругвей) под командованием Я. Тарновского; придворная хоругвь В. Самполинского (около 500 коней). Литовские войска состояли из магнатских почт (К. Острожского, Ю. Радзивилла, Ю. Полубенского и др.) и «посполитого рушения» (не менее девяти поветовых хоругвей, а также «сила жемойиская»). Всего получается примерно 16 тысяч человек: около девяти тысяч поляков и семь тысяч литовцев. До Орши их дошло даже меньше: примерно четыре тысячи остались в Борисове вместе с королем[154].
Командовали войсками литовский гетман князь Константин Острожский, гродненский староста Юрий Радзивилл и начальник королевской стражи Войцех Самполинский. Польскими наемниками в составе войска руководил староста теребовльский и ропчицский Ян Свирчовский, а польскими добровольцами — Ян Тарновский.
Русскую армию вели воеводы: главный воевода М. И. Булгаков Голица, воевода передового полка И. Темкин Ростовский, Н. В. Оболенский, большого полка М. И. и Д. И. Булгаковы, полка правой руки А. И. Булгаков, полка левой руки А. Оболенский. На соединение с Булгаковым шли полки под командованием И. А. Челяднина. Польская пропаганда после победы трубила о том, что под Оршей было разбито 80 тысяч московитов. На самом деле все гораздо скромнее: по убедительным подсчетам А. Н. Лобина, наиболее правильно определять численность русской армии не более 12 тысяч.
Маневры русских войск под Оршей ставили целью прикрыть Смоленское направление от возможного контрудара Сигизмунда I. Василий III справедливо сомневался, выдержит ли город четвертую осаду, теперь уже в исполнении польско-литовских войск. Армия М. И. Булгакова и И. А. Челяднина встала у бродов на реке Крапивне. Однако Острожский, который прибыл сюда с армией 7 сентября, не стал ломиться в лоб, форсируя реку под огнем, а обошел русские силы выше по Днепру на 15 верст и переправил войска по мосту, сделанному из лодок, бочек и плотов. Этот марш-бросок удался столь легко потому, что внимание Булгакова и Челяднина было приковано к отрядам легкой литовской кавалерии, которые демонстративно передвигались на другом берегу реки и готовились к переправе. Отвлекающий маневр был выполнен блестяще, затем конница также перешла реку на глазах неприятеля. Таким образом, вся армия Острожского к утру 8 сентября благополучно переправилась и построилась напротив русской в боевой порядок. Он назывался «старым польским»: в центре находилась пехота с артиллерией и тяжелая рыцарская конница, а по флангам — легкая кавалерия. За правым крылом, в еловом лесу, был резерв из пехоты и артиллерии.
После небольшой перестрелки московские полки под началом Булгакова перешли в наступление правым флангом, ставя своей целью опрокинуть левое крыло противника. Командовавший последним Войцех Самполинский с поляками пытался контратаковать, но без особого результата. Воодушевленные успехом воеводы повели дворянскую конницу вперед, но напоролись на огонь польской артиллерии. Самполинский трижды контратаковал и трижды был отброшен. Но натиск русских постепенно слабел, полякам помог резерв, вовремя введенный Острожским в бой и ударивший со стороны центра. Попытка Челяднина атаковать левым флангом не нанесла противнику существенного урона, но больше навредила русским, растянув их силы на большей линии противостояния. К тому же атакующие, увлеченные преследованием притворно бежавших врагов, попали под огонь стоявшей в засаде польской артиллерии. Русский конный отряд, уклоняясь от огня, оказался прижат к берегу реки Крапивны и полностью уничтожен.
Ответный удар польско-литовских войск во главе с тяжелой рыцарской польской кавалерией нарушил боевые порядки русской армии. Стоявшие впереди полки дрогнули и подались назад, смешавшись с резервами и превратив четкое построение в хаотичную массу. Большой урон наносил огонь польской артиллерии. Ситуация вышла из-под контроля, командовать и перестраивать полки было невозможно, и началось отступление, во многом похожее на бегство. В бою погиб воевода И. Темкин Ростовский, в плен попали М. И. и Д. И. Булгаковы, И. А. Челяднин и другие воеводы, командиры и рядовые дети боярские. Русский летописец винил в поражении московских воевод: Булгаков и Челяднин соперничали и неприязненно относились друг к другу, поэтому в нескольких моментах сражения Челяднин «в зависти» принципиально не стал оказывать помощь полку Булгакова, и наоборот. С поля боя первым побежал Челяднин, в то время как Булгаков со своими воинами «много» бился с противником. Но действия Челяднина оголили тыл, и тем он «князя Михаила выдал».
Поражение было несомненным. Правда, его масштабы польско-литовская сторона сильно завысила. В победных реляциях называлась цифра в 30 или 40 тысяч убитых московитов, что в два-три раза превышает число всех русских воинов, бывших под Оршей. Военное значение сражения не очень велико: катастрофа под Оршей не привела к потере Смоленска. Правда, сам Василий III при известии о поражении проявил, мягко скажем, осторожность и незамедлительно уехал из Смоленска в Дорогобуж. Что поделать, мужественный в придворных интригах, великий князь побаивался прямой физической угрозы. И при малейших признаках ее приближения бежал. Срочный отъезд в Дорогобуж — это далеко не последняя «эвакуация» Василия III с возможного поля битвы.
Константин Острожский с шеститысячным отрядом дошел до Смоленска. Но его встретили развешанные на стенах трупы местных жителей, которые хотели сдать город литовцам. Воевода и наместник В. В. Шуйский сумел перехватить грамоты Острожского, арестовал возможных переметчиков (их возглавлял епископ Варсонофий) и приказал повесить их на городских стенах с внешней стороны, с которой ждали Острожского; повешены они были вместе с полученными подарками за клятву верности Василию III: «…которому князь великий дал шубу соболью с камкой и с бархатом, того в шубе повесил, а которому князю или пану дал ковш серебряный или чарку серебряную, и он, привязав подарок к шее, так того и повесил»[155]. Самого Варсонофия вешать не стали (владыка все-таки), но арестовали и выслали сперва в Дорогобуж, а затем пожизненно заточили в Каменский монастырь на Кубенском озере.
Именно тогда Василий III и приказал применить меру, всегда успешно срабатывавшую при присоединении новых земель: выселить из города социальную верхушку, лучших людей, перевести их в Москву (почетная ссылка), раздать смоленским боярам земли в центральных уездах страны. А в освободившиеся дома и городские усадьбы поселить московских детей боярских. Эта мера оказалась, как всегда, эффективной. Смоляне больше бунтовать не собирались. Городские верхи присмирели, а плебсу было в общем-то все равно, в чьем подданстве находиться. Штурмовать такую крепость, как Смоленск, с шеститысячным отрядом было немыслимо. Острожский отступил, при этом потеряв часть обоза.
Главный результат Оршанской победы — это то, что и поляки, и жители Великого княжества Литовского после досадных неудач и потерь наконец-то поверили в себя. Показателем перелома в сознании было то, что города, недавно без боя перешедшие на сторону Москвы, — Мстиславль, Кричев, Дубровна, — тут же сменили ориентацию и попросились обратно в Великое княжество Литовское.
Недаром большое батальное полотно (доска, масло, 162 на 232 сантиметра) с изображением Оршанской битвы 1514 года, написанное немецким художником из круга Лукаса Кранаха Младшего в 1534–1535 годах[156], выставлено на почетном месте в Национальном музее Варшавы. Как отметил польский исследователь этой картины 3. Жигульский, «Битву под Оршей» часто сравнивают с другими знаменитыми картинами той эпохи: «Битвой Александра» Альбрехта Альтдорфера и «Битвой при Заме» Юрга Бре, но «они были созданы в основном чистым воображением, в то время как „Орша“ близка к репортажу. Она вызывает сравнения с такими славными памятниками истории, как колонна Траяна, ковер из Байе или серия гобеленов с битвой при Павии в неаполитанском музее Каподимонте»[157].
Картина уже в XVI веке играла важную роль в пропагандистской войне Польши против России. Резонно предположение, что ее замысел был связан с успешными переговорами Ягеллонов и Габсбургов в 1515 году. С помощью этой картины Польша демонстрировала, как в кровопролитном бою она спасла христианский мир от нашествия варваров с Востока. Вбрасываемые в Европу польские пропагандистские сочинения, распространявшиеся в Священной Римской империи на германских и итальянских землях, преследовали ту же цель.
Идеологическая роль Оршанской битвы 1514 года совершенно неожиданно воскресла в наши дни. В 1992 году белорусские националисты предложили сделать 8 сентября днем воинской славы Белоруссии, потому что в этот день именно белорусы разбили армию Василия III. Комментарии здесь излишни.
Династия Ягеллонов, к которой принадлежал король Польский и великий князь Литовский Сигизмунд I, в начале XVI века приобрела в Европе большую силу. Владислав II Ягеллон был королем Венгерским (1490–1516), Чешским (1471–1516), Хорватским (1490–1516). Его сменит Людовик II, король Чехии и Венгрии (1516–1526). Таким образом, роду Ягеллонов принадлежали огромные владения в Центральной и Восточной Европе.
У кого много добра, у того немало врагов. Соперниками Ягеллонов были Габсбурги, династия, правившая в Священной Римской империи. Еще со времен Ивана III Москва пыталась сблизиться с Габсбургами и заключить союз как раз на ниве совместного противостояния Ягеллонам. То есть для Москвы главным был мотив: «Будем дружить против нашего общего врага». Позиция империи была гораздо сложнее. Конечно, враг Ягеллонов — наш друг. Но друг какой-то сомнительный: империя считала себя центром христианского мира, а тут некие схизматики. В то же время ценность русского «друга» в военном отношении не вызывала сомнений, и казалось очень полезным использовать его в антимусульманской лиге в качестве ударной силы против турок. Дело за малым: надо добиться решающего влияния на русскую политику, контролировать ее и, насколько возможно, направлять в собственных интересах. Московиты хотят сотрудничать? Отлично! Они варвары и все равно не поймут, что ими манипулируют…
17 июня 1509 года в Москву доставили грамоту императора Максимилиана от 19 февраля, в которой он называл Василия III «другом нашим возлюбленным». Цесарь писал о просьбе Любека и ганзейских купцов восстановить торговые отношения с Россией. Инициатива к сближению, таким образом, исходила от германской стороны. Василий III уловил полученный сигнал и 9 августа отправил Максимилиану письмо, в котором в качестве жеста доброй воли давал согласие на восстановление в Новгороде ганзейского торгового двора, разоренного по приказу Ивана III в 1494 году[158]. Правда, переговоры о его открытии затем велись с новгородцами, и они всячески под разными благовидными предлогами затягивали решение вопроса. Но все равно начало смягчению отношений между Россией и империей было положено.
Другим добрым знаком для христианского мира была наметившаяся довольно неожиданно симпатия между Россией и Немецким (Тевтонским) орденом в Пруссии. Времена Александра Невского, когда рыцари и русские резали друг друга в борьбе за Прибалтику, остались в далеком прошлом. Прямых конфликтов с тевтонцами не было довольно давно. Зато общий враг опять-таки имелся. После поражения в Тринадцатилетней войне с Польшей (1454–1466) орден понес серьезные территориальные потери и оказался в частичной зависимости от Польской короны. «Дружить вместе» против Польши ему было особо не с кем; за несколько веков к северным крестоносцам у многих стран и народов накопились свои счеты, а Священная Римская империя в военном отношении была маловыгодным союзником.
И тогда орден попытался установить контакты с Россией. Свою роль тут сыграл Михаил Глинский, имевший связи и знакомства во многих домах Европы. Осенью 1510 года к Василию III прибыл саксонец Христофор Шляйниц, который должен был договориться о приезде больших орденских послов. Миссия оказалась удачной: Глинский заверил Шляйница в скором нападении России на Великое княжество Литовское и в том, что Москва поддержит орден в его противостоянии с Польшей. Правда, на обратном пути посольство было ограблено и разведка Сигизмунда I выкрала бумаги Шляйница. Из них в Кракове стало известно о воинственных планах Василия III. Впрочем, катастрофы не произошло — всем было и так ясно, что Россия рано или поздно нападет на Литву. В сентябре 1511 года Василий III послал в Пруссию грамоту, обеспечивавшую свободный проезд орденского посольства на Русь.
Настойчивость России в войне за Смоленск и налаживание дружеских связей с Тевтонским орденом вызвали одобрение Максимилиана. Император находился не в лучшем расположении духа из-за неудачи в женском вопросе. Он давно строил свою политику на опутывании соседей сетью династических браков, привязывая их к империи родственными связями. По результатам Пресбургского мира 1491 года признавались притязания Максимилиана на Венгрию. В 1506 и 1507 годах были заключены брачные договоры о предстоящей свадьбе внуков Максимилиана и детей венгерского короля Владислава Ягеллона. Однако в 1510 году венгерская аристократия решила изменить этим договоренностям и выдать замуж принцессу Анну Владиславовну за венгерского магната Иоанна Запольи. И тогда, в случае смерти хилого и болезненного Людовика, сына Владислава, именно Запольи претендовал бы на корону, а Максимилиан оставался с носом. Чтобы добиться своего, венгры делали ставку на Ягеллонов — Сигизмунд I был женат на Барбаре, сестре Иоанна Запольи.
Император увидел в этих брачных планах прямую угрозу положению Габсбургов в центре Европы. Поскольку повлиять на ситуацию не получалось, он выдвинул проект создания широкой антиягеллонской коалиции в составе Священной Римской империи, Тевтонского ордена, Дании, Бранденбурга, Саксонии, Валахии и России. 2 февраля 1514 года Василий III принял в Москве имперского посла Георга Шнитценпаумера фон Зоннег, который привез особое послание Максимилиана.
Германский кайзер звал Василия III вступить в союз против Польши. Для его заключения предполагалось провести специальный конгресс в Дании, куда приглашались русские дипломаты. Из этого следует, что император не хотел воевать, а все разговоры о военном союзе имели своей целью оказать психологическое давление на Ягеллонов. Собственно, и сам конгресс, и демонстративное создание коалиции служили акцией устрашения и предназначались для того, чтобы Ягеллоны одумались и не мешали брачным комбинациям венского двора.
Россия и Германия делили Европу. Как и в XX веке, это сопровождалось заключением договора о дружбе и военном союзе. Империя признавала права России на Киев и русские земли в составе Великого княжества Литовского, а Россия обещала поддержать Габсбургов в их борьбе с Ягеллонами за земли в центре Восточной Европы. Император признал Василия III монархом, равным себе, — в договоре он именовал его титулом кайзер, то есть цесарь, император. Это был грандиозный успех. Фактически Россия входила в Европу на правах союзника крупнейшей западной державы, Священной Римской империи.
Но был один нюанс, о котором Василий III не знал. Имперский дипломат превысил свои полномочия. Судя по инструкции, данной Шнитценпаумеру, ему вменялось только предварительно договориться о союзе и заручиться согласием России, но не заключать никаких договоров, тем более такого многообещающего содержания. Трудно сказать, почему посол зашел столь далеко. Может быть, он хотел этим выслужиться, может быть, уступил давлению нетерпеливого московского монарха, желавшего договор «здесь и сейчас». Так или иначе, Шнитценпаумер заключил договор, Василий III на нем присягнул, и теперь оставалось только Максимилиану его ратифицировать.
Польская дипломатия засуетилась. Альянс России и империи ничего хорошего Ягеллонам не сулил. В апреле 1514 года на Петроковском сейме было решено задобрить Максимилиана демонстративным замирением с Тевтонским орденом. Но польский посол Рафаил Лещинский, несмотря на роскошный подарок императору — 160 соболиных шкурок, был принят очень холодно. Максимилиан скептически отнесся к намерениям Польской короны самостоятельно урегулировать тевтонский вопрос и напомнил, что только он, император, является высшим арбитром в спорах Польши и ордена. Тогда посольство в поддержку Сигизмунда I прислал венгерский король Владислав Ягеллон. Максимилиан был очень доволен, расценив это как готовность Венгрии идти на уступки. Правда, он продолжал настаивать на имперском суде в тевтонском вопросе, причем Сигизмунд должен был заранее дать обязательство признать любое решение суда.
Дело, кажется, налаживалось. И тут выяснилось, какую свинью подложил императору Шнитценпаумер. Ведь по заключенному им договору империя теперь находилась в военном союзе с Россией. А Россия воевала с Короной из-за Смоленска. И верная союзническому долгу империя должна вмешаться в этот конфликт. И это тогда, когда все так хорошо складывалось и, казалось бы, было решено дипломатическим путем!
Ратифицировать договор было нельзя, но и отказываться от ратификации тоже нельзя — Василий III просто не понял бы подобных дипломатических кульбитов. Он выступил в третий Смоленский поход, рассчитывая на военную помощь империи и ее удар по Польше, что сковало бы силы Ягеллонов и не позволило бы оказать помощь Смоленску. Речь шла уже не об абстрактных принципах, а о конкретных действиях в конкретной ситуации. Империя воевать за русские интересы не хотела категорически, она рассчитывала на обратный вариант — чтобы Россия воевала за ее интересы. Ради этого, собственно, все и затевалось. И надо же такому случиться, чтобы русские всех опередили и начали войну раньше!
Поэтому решено было, всячески заверяя Россию в любви и дружбе, предложить ей другой, более мягкий вариант договора. Шнитценпаумер попал в опалу. Император решил, что имперский посол превысил полномочия и включил в договор обязательства, которые христианский мир не должен нести перед московскими варварами. Главное, что вычеркнул Максимилиан, это обязательство империи быть военным союзником России. Кроме того, он претендовал на роль арбитра — имперские представители должны были разобрать конфликт Сигизмунда и Василия III и выработать условия для их примирения. 4 августа русские послы, обескураженные таким поворотом событий, без ратифицированного договора, но с новой императорской грамотой отбыли в Москву. С ними ехали императорские послы Яков Ослер и Мориц Бугшталер. 1 декабря 1514 года они прибыли в Москву, но новые переговоры прошли безрезультатно. Василий III был оскорблен самим фактом самовольного изменения текста, на котором он уже принес присягу. Кроме того, его возмутило желание императора встать над схваткой и судить Россию с Польшей. Кому, спрашивается, был нужен такой судья? Император, что, претендует на власть над Русью и хочет указывать, с кем ей воевать и на каких условиях с кем мириться? Переговоры прошли в обстановке взаимонепонимания и завершились провалом. Русско-германский альянс не состоялся.
Империя вздохнула с облегчением. Почему? Здесь роковую роль для Василия III сыграло поражение под Оршей, скорее даже не само поражение, а та антимосковская пропаганда, которую Польша обрушила на Европу. Во-первых, всячески посрамлялась русская армия. Распространялись слухи о десятках тысяч убитых и множестве пленных. В подтверждение своих слов Сигизмунд послал русских пленных в подарок римскому папе и венгерскому королю. Во-вторых, умело разыгрывалась религиозная карта. Поляки указывали, что фактически спасли христианский мир, католическую Европу от нашествия схизматиков. Ну а в-третьих, всячески обыгрывалась тема русского варварства, звериной жестокости, тирании, ненависти к культуре и «латинянам» и т. д. Польская пропаганда преуспела в том смысле, что Максимилиан заколебался. Василий III уже не казался ему столь выгодным союзником.
Справедливости ради надо сказать, что провал был частично вызван глубокой пропастью между европейской и московской правовой культурой. Собственно говоря, Максимилиан предложил Василию III обычную имперскую практику. В Европе империя не раз выступала международным арбитром именно в подобных спорах. Этим пользовались и Тевтонский орден, и Польша, и Дания, и другие. Сторона, считавшая себя ущемленной, могла подать императору протест (протестацию) — и дело рассматривалось специальным судом. Его решения не всегда соблюдались сторонами, но, конечно, победа в суде придавала большие моральные стимулы и легитимные основания, например, для последующей войны. Никто при этом не считал, что император — глава христианского мира — покушается на чей-то суверенитет и что его суд кого-то ущемляет и унижает. Напротив, к нему апеллировали как к высшему авторитету.
Русской дипломатии подобная практика была абсолютно чужда. Весь правовой опыт Василия III протестовал против подобной ситуации; среди русских князей кто судит, тот и господин, хозяин положения. Поэтому Москва гневно отвергла такую процедуру, которая вообще-то на международной арене ее возвышала. Ведь распространяя на Россию в русско-литовском конфликте право разбирательства императора, Максимилиан тем самым вводил ее в европейское правовое поле, делал частью Европы, христианского мира. Василий же усмотрел здесь коварство, каверзу. Что ему такие юридические тонкости, международное право? Ему были нужны гарантии военного союза против Ягеллонов. Прямые и недвусмысленные. А империя предпочитала сперва говорить языком дипломатии и юриспруденции, а потом уж воевать. Поэтому стороны не договорились, да и при такой разнице политических культур не могли договориться.
Максимилиан предпочел помириться с теми, с кем говорил на одном политическом и правовом языке, то есть с Ягеллонами. Летом 1515 года состоялся Венский конгресс, в работе которого приняли участие сам император, польский король Сигизмунд I и венгерский и чешский король Владислав. Ягеллоны уступили требованиям империи: было достигнуто соглашение, что после смерти Владислава права на Чехию и Моравию перейдут к наследникам Максимилиана. Наследники получались очень просто: на том же конгрессе стороны заключили договор о женитьбе Людовика, сына Владислава, на внучке Максимилиана Марии и Фердинанда, внука Максимилиана, на дочери Владислава Анне. Третья внучка Максимилиана, итальянская принцесса Бона Сфорца, была отдана в жены самому Сигизмунду I. Ягеллоны были в восторге от брачных перспектив, Максимилиан на радостях заявил, что готов с польским королем «пойти и в рай, и в ад».
Политической составляющей решений Венского конгресса были отказ империи от поддержки территориальных претензий Тевтонского ордена к Польше (в общем-то, вполне обоснованных — после Тринадцатилетней войны Корона аннексировала огромные орденские земли) и обещание имперского посредничества в урегулировании споров с Россией, в частности, в возврате Смоленска.
Европейские дипломаты могли договариваться о посредничестве и переделе континента сколько угодно, но реальная судьба Восточной Европы всегда решалась не в Вене или Риме, а на полях сражений. После Оршанской битвы русско-литовская война продолжалась до 1522 года. Правда, крупномасштабных боевых действий не было. Кампания приняла привычные формы взаимных набегов, грабительских рейдов, погромов окрестностей городов и т. д. В 1515 году московские войска сожгли Браслав и Друю, а литовские отряды разоряли Северскую землю. Ян Сверчовский во главе литовского отряда сжег посады Великих Лук и Торопца. Русская кавалерия прошла рейдом под Мстиславль (полки Б. И. Горбатого и С. Ф. Курбского), Витебск (полк В. Д. Годунова) и Полоцк. Псковский наместник А. А. Сабуров взял Рославль. В 1516 году московские дворяне под командованием А. Б. Горбатого хозяйничали в окрестностях Витебска, а литовские нападали на Гомель.
В 1517 году Сигизмунд I запланировал крупную войсковую операцию, целью которой был захват псковских пригородов — системы крепостей, оборонявших подступы к Пскову. Противник был известный, в XV веке литовцы и ливонцы неоднократно воевали под стенами этих крепостей, иногда их брали, иногда терпели поражение. Речь идет о крепостях Опочка, Воронич, Красный городок, Велье и др. Они все однотипные — одиноко стоящее укрепление (большие посады были только у Опочки и Воронича) на холме круглой или овальной формы, с валами и деревянными стенами и башнями по периметру и небольшими (в несколько десятков или сотен человек) гарнизонами. Практически все городищенские холмы сохранились до нашего времени, и сегодня можно посетить эти места боевой славы.
Сигизмунд I лично прибыл в Полоцк для смотра войска. К литовской коннице были приданы отряды наемников из Чехии и Польши. Общее командование поручили князю К. И. Острожскому. Однако войска завязли уже под первой крупной крепостью — Опочкой. Ее обороной командовал наместник В. М. Салтыков. Крепость была расположена на острове, крутые валы уходили прямо в воду. Все это делало ее практически неприступной. Штурм за штурмом заканчивался одним и тем же — нападавших расстреливали на лодках и плотах во время переправы, а тех, кто добирался до основания валов, сбрасывали в воду с городских стен. Русские источники писали о пяти-шести тысячах убитых врагов под Опочкой. Цифра, вероятно, преувеличена, но потери и в самом деле были чувствительными. (Польские источники, преуменьшая масштабы поражения, говорят о 60 убитых и 1400 раненых. Истина, как всегда, где-то посредине.) Недаром Сигизмунд I, узнав о неудачах Острожского, в сердцах обозвал Опочку «бесовым селом».
Острожский, чувствуя, что войску нужен хоть какой-то успех, послал небольшие отряды на штурм соседних менее укрепленных крепостей — Велье, Воронина, Красного городка. Но и там все нападения были отбиты. На помощь псковским пригородам двинулись отряды из Великих Лук — воеводы Ф. В. Оболенского, вставшего под Изборском, и И. В. Ляцкого, обосновавшегося в крепости Владимирце. Воеводы начали успешно совершать рейды, перехватывать оторвавшиеся от основных сил литовские отряды и уничтожать их. Когда стало известно о выступлении на помощь Опочке основных сил под командованием А. В. Ростовского, Острожский бросил все осадные орудия и спешно отступил к Полоцку.
24 октября 1517 года Василий III в Кремле принимал победные реляции от псковских воевод. Это было тем более кстати, что в русскую столицу как раз прибыло очередное литовское посольство Яна Щита и Богуша Боговитиновича, с очередными требованиями о возврате Смоленска. И теперь Василию III было что им сообщить. Поэтому великий князь радостно щурился, разглядывая унылые фигурки литовских дипломатов у подножия его трона.
Переговоры 1517 года имели некоторую специфику. В Москву прибыл имперский посол Сигизмунд Герберштейн. Одной из целей его миссии было исполнение обещания, данного императором Максимилианом королю Сигизмунду I об имперском посредничестве в установлении мира между Польшей, Литвой и Россией. Василий III не возражал, ему было даже интересно попробовать, как выразились бы сегодня, «новый формат» переговоров. Большая европейская политика все больше приоткрывала свое лицо, и это было любопытно и поучительно. Тем более что Василий III, стоявший на русских традициях ведения переговоров, переиграл гостей по всем статьям. Он отказался начинать разговор, пока литовские войска не будут отведены от Опочки. Послы прибыли в Москву 3 октября, а Василий III принял их только 29 октября, когда получил известие об успехе в Псковской земле его воевод. Понятно, что это сразу придало переговорам характер диалога победителя и побежденных.
Послы, видимо под влиянием Герберштейна, сразу же попытались перевести разговор в глобальный контекст противостояния христианского мира язычеству и мусульманству. Разве перед лицом такой великой опасности для веры пригоже двум христианским государям заниматься сварами между собой и тратить силы на взаимное уничтожение на радость врагам Христовым? Дипломаты Василия III охотно согласились, что, конечно, непригоже. Но ведь это Россия стоит за христианство, борется с Крымским и Казанским ханствами. А вот Сигизмунд I как раз уличен в науськивании крымских татар на Русь — какой же он борец за христианский мир? Именно польский король является виновником войны. И он должен искупить вину — выдать панов, виновных в смерти сестры Василия III великой княгини Елены, отдать Киев, Полоцк, Витебск и те города, которые князь Александр Ягеллончик передал своей жене Елене Ивановне. Вот тогда и наступит справедливый и прочный мир! Литовцы в ответ обвинили Василия III в клятвопреступлении — он начал войну вопреки существующим договоренностям, и потребовали отдать им Псков, Новгород, Смоленск, Вязьму, Северские города и т. д.
Посредничество Герберштейна было дезавуировано предъявлением текста русско-имперского договора 1513 года, подписанного Шнитценпаумером. В нем говорилось о военном союзе России и империи против Сигизмунда и о том, что империя признает права России на Киев, Полоцк и Витебск. Герберштейн разволновался: ситуация в самом деле получалась пикантной. Он начал горячо убеждать, что Шнитценпаумер превысил полномочия, что император на самом деле такого не подписывал, а затем произнес загадочную фразу: «Делал бы, да не умею, среднего пути не знаю, вы, бояре, говорите высоко, и послы Сигизмунда короля говорят высоко, а среднего пути не знаю». После чего попросился домой, к императору. Посредническая миссия явно не задалась.
Русские дипломаты применили беспроигрышный прием, которым не раз успешно пользовались впоследствии: резко задрать планку требований, чтобы потом за счет ее снижения выторговать те малые уступки, ради которых, собственно, и велись переговоры. Требуя Киев, Полоцк и Витебск и доведя этими требованиями литовскую делегацию до нервного состояния, дипломаты Василия III добились того, чего хотели: о Смоленске уже никто не вспоминал. На страницах посольской книги, содержащей запись дебатов, много споров о том, кто первым нарушил крестоцелование — Сигизмунд или Василий III, много препирательств о Киеве и других городах, но тема Смоленска не звучит вообще. Поэтому, когда, ко всеобщему облегчению, Василий III заявил, что только по просьбам Герберштейна и исключительно из любви и уважения к Максимилиану отказывается от Полоцка и Витебска, все вздохнули с облегчением. Но ход был за литовской стороной — от нее тоже требовался жест доброй воли, надо было от чего-нибудь отказаться. А от чего? Потеря Северских городов и Верховских земель была уже признана после войны 1507–1508 годов. Остался только Смоленск…
Признать это означало провалить миссию. И 10 ноября Герберштейн прислал Василию III пространное письмо, в котором обосновывал необходимость возвращения Смоленска. Он назвал бездоказательными обвинения в адрес Сигизмунда I в клятвопреступлении, нарушении существовавших договоренностей, связях с Крымом и наведении татар на Русь. По мнению Герберштейна, если король и платил татарам, так только выкупая мир для себя, но вовсе не науськивая их при этом на других христианских государей. Василий III должен доказать всему миру, что он взял Смоленск не из-за корысти и охоты до чужого добра, а из благородных побуждений, борясь за правду, как он ее понимал. Он доказал свою силу в этой борьбе — так пусть же теперь сделает жест и вернет Смоленск, что его весьма возвысит в глазах христианского мира. Этот поступок принесет Василию славу индийского царя Пирра, который вернул римлянам 200 пленных, или славу Максимилиана, который вернул венецианцам взятую Верону{5}. Тогда и император, к тебе «дружебнейший», станет еще «дружебнее».
Аргументы были слабоваты. «Дружебнейший» император не далее как несколько лет назад коварно обманул с выгодным для России договором. Мнение христианского мира для московского государя было весьма трудно воображаемым понятием, и, кроме того, он имел весьма размытые представления о царе Поре / Пирре и возвращении Вероны. Василию III было ясно одно: посредник Герберштейн на самом деле играет на стороне Сигизмунда I. К тому же Василия III задело пренебрежительное отношение к судьбе его сестры Елены, невнимание имперского посла к фактам переговоров Сигизмунда I с Крымом, его откровенное нежелание вникать в сложные перипетии развития владельческих прав монархов Восточной Европы на ту или иную землю. От Василия III хотят демонстрации благородства — но где же эта демонстрация со стороны Сигизмунда? 12 ноября 1517 года переговоры были завершены, литовских послов «бездельно» отправили из Москвы. Государь подтвердил, что он тоже хочет мира, но выдвинутые литовской стороной условия неприемлемы. Смоленска он не отдаст. Войны не боится. Герберштейн страшно переживал. Посольская книга так передает его слова: «Я трудился и делал и не нашел посредничества, и если была бы на это надежда — я бы еще трудился, но никто этого не хочет». Он написал еще одно письмо Василию III, в котором рассказал об обстоятельствах возвращения Вероны (раз русский государь их не знает), много рассуждал о правовой стороне спора о наследстве Елены Ивановны, даже обещал добиться выдачи виновных в ее гибели (если удастся договориться по главным вопросам). Он потому не верит в роль Сигизмунда I в науськивании татар на Русь, оправдывался Герберштейн, что эту клевету на благородного польского короля возвели татарские пленные — разве им можно верить? Далее шли рассуждения о роли монарха в истории и о том, как бы возвысил возврат Смоленска Василия III[159].
В конце своей миссии Герберштейн от имени императора Максимилиана попытался заступиться за Михаила Глинского и попросил отпустить того к императору. Ему ответили, что этого никак нельзя: князь в очередной раз меняет веру: был православным, стал католиком, теперь опять хочет в православие. Духовенство испытывает, насколько искренне его желание и не хочет ли он через возврат в православие облегчить свою тюремную участь. Пока этот важный вопрос не выяснится, Глинского отпустить невозможно, иначе можно ненароком и его душу загубить. 22 ноября 1517 года, так и не добившись успеха ни в одном вопросе, Герберштейн уехал из Москвы.
В 1518 году Россия решила нанести удар по Великому княжеству Литовскому. Из Великих Лук на Полоцк была отправлена рать под командованием В. В. Шуйского, из Смоленска «воевать Литовскую землю» послали М. В. Горбатого, из Стародуба — С. Ф. Курбского, из Белой в направлении Витебска — А. Д. Курбского и А. Б. Горбатого. Трудно сказать, ставились ли перед войсками какие-то значимые стратегические цели, кроме грабительских рейдов и традиционных акций устрашения. Распыление сил и множество направлений удара свидетельствуют в пользу рейдового характера похода. В. В. Шуйский сжег полоцкие посады, но столкнулся с активными контратаками литовских войск, понес большие потери и отступил. М. В. Горбатый в своем рейде зашел далеко вглубь Литвы — как хвастались воеводы, «по самую Вильню», не дойдя до нее 30 верст. С. Ф. Курбский громил окрестности Слуцка, Минска, Новогрудка и Могилева; А. Д. Курбский и A. Б. Горбатый в который раз уже в эту войну разоряли посад Витебска. Ни один литовский город взят не был.
Из кампании 1518 года Василию III больше всего понравились отчеты о прорыве к Вильно. Поэтому в 1519 году было приказано поход повторить, причем в этот раз Вильно объявлялся целью нападения. 1 августа в Литву пошли рати B. В. Шуйского из Смоленска, М. В. Горбатого из Ржевы и Дорогобужа, С. Ф. Курбского из Северских земель. На этот раз к боевым действиям были привлечены служилые татары из Городца под командованием Ак-Доулета. Ближайшими целями стали окрестности Могилева и Минска. Основные бои развернулись вокруг Логойска, Минска, Молодечны, Крево, Ошмян, Борисова. До Вильно основные русские войска не дошли, хотя отдельные конные отряды отчитались в том, что выходили в окрестности литовской столицы. Поход носил традиционный разорительно-устрашающий характер и был недолгим: уже 11 сентября полки через Вязьму начали возвращаться домой.
Собственно, если не считать мелких пограничных столкновений, на этом история русско-литовской войны 1512–1522 годов заканчивается. В январе 1520 года Василий III выступил с инициативой мирных переговоров. Момент был выбран удачный: Великое княжество Литовское подверглось сильному нашествию крымских татар, и ему было явно не до войны. 23 августа литовское посольство было принято государем. К 1 сентября стороны договорились: мира не заключать, только временное перемирие; Смоленск при этом будет записан «в московскую сторону», но взамен Литва отказывается от обмена пленными. Перемирие заключить на будущий год, когда в Москву приедут великие литовские послы[160].
После долгих проволочек 9 сентября 1522 года литовские послы П. С. Кишка, Б. Боговитинович и И. Горностаев подписали в Москве перемирие на пять лет. 14 сентября Василий III присягнул на перемирных грамотах. Россия оставляла за собой Смоленск с волостями; Великое княжество Литовское этого не признавало, но временно прекращало вооруженную борьбу за возврат утраченных земель. России не удалось добиться возвращения пленных: было обещано лишь, что с них снимут «тягость», то есть выпустят из заточения, снимут кандалы и разрешат жить в поселениях. Но трагическая судьба этих людей стала платой за Смоленск: Литва тем самым хоть в малом, но вставила шпильку Москве (несколько сотен пленных в литовском плену не имели никакого военного значения, это были чистой воды упрямство и мелкая месть со стороны Сигизмунда I). Василий III счел, что это допустимая жертва за успех.
Государства-изгои легко находят друг друга. Статус России на международной арене в конце XV — начале XVI века еще не был определен: другие страны и «международное сообщество», под которым тогда понимался так называемый «христианский мир», только решали, куда поместить на воображаемой карте мира эту невесть откуда взявшуюся страну. Реакция европейцев на восход России очень точно передана словами немодного нынче классика: «Изумленная Европа, в начале правления Ивана (Ивана III. — А. Ф.) едва знавшая о существовании Московии, стиснутой между татарами и литовцами, была ошеломлена внезапным появлением на ее восточных границах огромной империи, и сам султан Баязид, перед которым Европа трепетала, впервые услышал высокомерную речь Московита»[161].
А вот статус Немецкого ордена, увы, был уже более чем определен. Эпоха рыцарских орденов ушла в прошлое. Причины, по которым они когда-то создавались, были изжиты. Серьезных союзников у ордена не осталось: слишком много крови было пролито в XIV–XV веках на берегах Немана, Вислы, Преголи, чтобы рассчитывать на мирные отношения с соседями. Ненависть к тевтонцам была впитана поколениями поляков, литовцев, славянского населения Великого княжества Литовского на генетическом уровне. А союзники требовались, хотя бы для того, чтобы занять денег. На Священную Римскую империю — казалось бы, союзника по определению — надежды было мало. Любой, кто имел с ней дело в XVI веке, быстро убеждался, что просьбы о деньгах вызывают только бурные дебаты на рейхстагах. При этом легко стать разменной монетой в политических играх Габсбургов. Союзник был нужен более практический.
На этой почве началось сближение России и Тевтонской ветви Немецкого ордена, о чем мы уже говорили в предыдущей главе. После провала русско-имперского договора 1513 года и странных результатов переговоров с империей в 1514 году Василий III 22 мая 1515 года обратился к гроссмейстеру ордена Альбрехту Гогенцоллерну с предложением заключить военный союз против Королевства Польского. Великий магистр был настольно обрадован этим предложением, что совершенно не обратил внимания на то, что оно исходит от схизматиков — тех, с кем, по идее, после истребления язычников орден должен бороться по определению. Но в Кенигсберге было не до религиозных тонкостей. Рыцари с трудом осмысляли то крайне двусмысленное положение, в котором они оказались в результате решений Венского конгресса 1515 года, союза Ягеллонов и Габсбургов. Ведь его решения фактически развязали руки Польше: император, получив права на Чехию, совершенно определенно дал понять, что Пруссия лежит в сфере польских интересов и его устраивает этот обмен. Остановить Польшу мог только один противник — Россия. Если Корона будет испытывать трудности в войнах с русскими, то ей будет не до ордена.
14 декабря 1515 года тевтонский дипломат Д. Шонберг составил инструкцию для орденской посольской службы, которую можно считать декларацией основных принципов политики Кенигсберга на восточном направлении. Главная цель, говорилось в ней, не допустить мира России и Польши. Пусть они все время враждуют и воюют. Иначе, если только они помирятся, у Польши сразу же высвободятся силы для агрессии против ордена, и ему конец. Кроме того, русские — богатые, и надо у них просить денег. Хорошо бы еще они прислали войска для войны ордена с Короной.
Шонберг прибыл в Москву 24 февраля 1517 года. Он рассыпался в комплиментах, называл Василия III «вельможным, непобедимым царем всея Руси, начальником и господином». Однако требования предъявил явно завышенные. Орден просил у Василия III 30–40 тысяч конницы «на помощь магистру» для войны с Польшей — но это было бы большинство боеспособных частей русской армии в первой четверти XVI века![162]
Василий III был несколько смущен активностью Шонберга — молодая русская дипломатия успела привыкнуть к тому, что все уступки и шаги навстречу вырываются с боем и реализуются только в том случае, когда партнер по переговорам признает твою силу. Здесь же немцы сами были на все согласны и выпрашивали деньги и воинов. Так ведет себя слабое, ничтожное государство. Поэтому Василий III засомневался, а не уронит ли он своего достоинства союзом с орденом, и даже предъявил Шонбергу список вопросов, чтобы тот доказал высокий статус магистра ордена, его признание полноценным правителем со стороны других европейских монархов. Шонберг сумел отстоять доброе имя Гогенцоллернов, но сама ситуация весьма показательна.
Правда, орден не хотел брать на себя обязательства совместно с Россией воевать с Польшей. Ведь Смоленская война была еще официально не закончена, и в случае взятия таких обязательств рыцари должны были незамедлительно напасть на своего соседа — а это наверняка привело бы к печальным последствиям для самого ордена. Шонберг просил о другом: чтобы Россия помогла материально, дала денег и войска, а орден сам проведет войну с Польшей. Москве это было не очень выгодно — какой ей, собственно, прок от того, что рыцари отобьют у поляков несколько замков?
Поэтому Василий III согласился предоставить помощь — дать денежный кредит, которого хватит для набора десяти тысяч пеших и двух тысяч конных воинов в германских землях. Но оговорил помощь одним существенным условием: магистр и рыцарское войско сперва должны доказать свою дееспособность, то есть выиграть несколько сражений и вернуть земли, утраченные орденом. Помогать имеет смысл сильным. Тут поражает эффективность работы русских информаторов: дело в том, что сбор денег (на войско, на оборону и т. д.) с их последующим исчезновением неизвестно в чьих карманах был характерной для ордена финансовой махинацией. И почти наверняка русский кредит растворился бы бесследно. Правда, условие, которые выдвинул Василий III, выглядело несколько издевательским — если бы у ордена были силы, он бы справился и сам, без помощи Москвы.
Так или иначе, 10 марта 1517 года русско-орденский договор был подписан. Стороны взяли-таки на себя взаимные обязательства вступления в войну, если кто-то из участников договора начнет воевать с Польшей или Литвой. 11 марта для ратификации договора вместе с Шонбергом в Кенигсберг выехал посол Д. Д. Загряжский[163]. В переговорах с магистром он категорически отстаивал условие Василия III: финансирование армии ордена начнется тогда, когда эта армия продемонстрирует свою эффективность на поле брани. Альбрехт пытался дезавуировать это условие, даже послал в Москву еще одну миссию, Мельхиора Рабенштейна (был в столице с 25 августа по 20 сентября 1517 года). Денег снова не дали.
Постепенно обе стороны снижали планку претензий. В марте 1518 года посетивший Москву Шомберг просил деньги для найма хотя бы тысячи солдат. Василий заявил, что требуемая сумма давно лежит в Пскове и будет отправлена в Кенигсберг по первому известию, что орденская армия выступит в поход и перейдет границу Польши. 22 апреля в Пруссию выехал русский посол Елизар Сергеев. Он вскоре сообщил, что орден к войне не готов. Вину за это дипломат возложил на двойную политику великого магистра: с одной стороны, договариваясь с Россией о войне против Польши, он, с другой стороны, пытался решить «польский вопрос» через переговоры с Короной при посредничестве Священной Римской империи. Как раз примерно в это время в Кенигсберге прошли переговоры Альбрехта с папским легатом Николаем Шомбергом (братом Дитриха). Орден требовал вернуть захваченные Польшей земли, легат сочувственно кивал, но при этом объяснял, что никто не сможет заставить Корону вернуть столь лакомые куски и вообще роль Польши в борьбе с мусульманским миром велика, и гроссмейстеру надо бы поумерить пыл.
Последний, третий визит Шомберга в Москву состоялся в марте 1519 года. На этот раз он исполнял посредническую миссию — привез буллу римского папы Льва X. Подробнее речь о ней пойдет ниже. Что же касается русско-прусских отношений, то Шомберг должен был выяснить, не собирается ли Россия мириться с Великим княжеством Литовским. Узнав, что не собирается, посол 27 марта с облегчением уехал домой. 3 апреля вслед ему отправилось русское посольство К. Т. Замыцкого и дьяка Истомы Малого. В результате переговоров планы сторон наконец-то начали воплощаться. 2 августа Альбрехт выслал Василию III грамоту о готовности немедленно напасть на Польшу. 16 августа в Пруссию уехал гонец В. А. Белый с известием, что войска Василия III вошли в Литву, а в сентябре в орден была направлена долгожданная ссуда для найма тысячи воинов.
Воодушевленный Альбрехт 28 ноября 1519 года объявил Короне войну. Целью был возврат утраченных земель, так называемой области Королевской Пруссии, и, если получится, — захват Гданьска, крупного торгового порта на Балтике. Война началась удачно для ордена — были опустошены окрестности нескольких городов, захвачен ряд небольших населенных пунктов. К 15 января у Польши было отнято три замка и семь местечек[164]. Но через короткое время рыцари поняли, что сунули палку в осиное гнездо, разворошили его, а добивать противника нечем. В военном отношении Польша всегда была более развитой, чем Литва. Сигизмунд I довольно быстро собрал войска и двинул их к Торуни близ границы орденских владений. Альбрехт умолял Москву срочно дать еще денег для найма вожделенных десяти тысяч пехоты и двух тысяч конницы. На что Василий III резонно замечал, что он свою часть договора выполнил с лихвой: в 1519 году русские войска активно воевали в Литве и полностью сковали ее силы. Ссуду на тысячу воинов он дал вообще до начала боевых действий. Что же касается остальных денег, то для их получения надо продемонстрировать более выдающиеся успехи, чем взятие нескольких замков. 24 апреля 1520 года в грамоте к Альбрехту Василий III поставил точку в отношениях с орденом, огласив окончательные условия выделения финансовой помощи: она будет оказана лишь после того, как тевтонцы отобьют у Польши все потерянные города и начнут наступление на Краков. Вот тут-то, на решающей стадии войны, Россия им поможет. С равным успехом Василий III мог требовать от ордена взятия Солнца или Луны — поставленные задачи были совершенно не по зубам одряхлевшей рыцарской организации. Максимум, на что мог рассчитывать гроссмейстер в виде совсем уж небывалой милости великого князя, — вторая ссуда еще на тысячу воинов.
14 июня 1520 года посол Альбрехта Юрген Клингенбек привез в Москву известие, что без немедленной финансовой помощи, оказанной в полном объеме, орден падет. Польские войска хозяйничают на его земле и уже угрожают Кенигсбергу. В июле Василий III послал с гонцом А. Моклоковым вторую ссуду на вторую тысячу воинов, но это уже не могло спасти положения. 23 июля Альбрехт в последний раз обратился с просьбой о присылке всей суммы, потому что орден потерял уже половину владений. Василий III отказал: вкладывать деньги в гибнущее государство не было смысла. 5 апреля 1521 года Тевтонский орден подписал с Польшей четырехлетнее перемирие. А 15 августа 1525 года на главной площади польской столицы Кракова, у стен городской ратуши и торговых рядов Сукенниц последний великий магистр Тевтонского ордена и первый герцог Пруссии Альбрехт Гогенцоллерн принес клятву на верность королю Сигизмунду I Старому. Прусская ветвь ордена была секуляризирована и превратилась в Прусское герцогство, вассальное Ягеллонам.
В Польше до сих пор данное событие считается одним из величайших триумфов в ее истории. На площади у Сукенниц, в месте, где колени надменного тевтонца коснулись краковской мостовой, расположена мемориальная доска с надписью: «Прусская присяга». Польский художник Ян Матейко, создавший серию исторических картин, написал полотно о событиях 1525 года. Когда гитлеровцы в 1939 году вошли в Краков, они устроили за этой картиной форменную охоту, стремясь уничтожить саму память о немецком позоре. Но польские патриоты спасли картину и после изгнания оккупантов опять выставили ее как символ польской славы и победы славянства над Немецким орденом.
Активные контакты Тевтонского ордена, и в частности Д. Шомберга, с московским двором имели еще одно последствие. Шомберг почему-то вынес из общения с московскими боярами стойкое впечатление, что они готовы принять католичество. Трудно сказать, что здесь сыграло свою роль: прусскому послу что-то не так перевели или он принял московское хлебосольство и боярские любезности по отношению к иностранцу за любовь к католической церкви вообще? Или же посол просто выдал желаемое за действительное, чтобы его внимательнее слушали при европейских дворах? Так или иначе, слух пошел по «христианскому миру». Им чрезвычайно заинтересовались как в Священной Римской империи, так и при дворе римского папы.
Причин столь пристального внимания к возможному обращению русских схизматиков было две. Как уже говорилось, еще с конца XV века империя вынашивала планы вовлечения России в антимусульманскую лигу, чтобы использовать ее боевую мощь для войн с Турцией. Но как завлечь эту могучую, но, к сожалению, диковатую Московию в стан своих союзников? В 1486 и 1491 годах Москву дважды посетил имперский посол Николай Поппель. Он привез совершенно потрясающее предложение: император Священной Римской империи милостиво соглашается включить Россию в качестве провинции в состав своей великой державы. Он готов пожаловать Ивана III титулом короля, управителя этой провинции, с условием, что страна обратится в католичество. В знак закрепления этого союза предлагался брак одной из дочерей Ивана III с баденским маркграфом Альбертом. При этом Поппель требовал немедленно показать ему девушку, чтобы определить, будет ли она «достаточно дородна и сего великого дела достойна».
Эта миссия закончилась полной катастрофой. Бояре обращались с Поппелем в таком тоне, будто он привез не королевскую корону, а предложение занять место шута при венском дворе. Поппель получил категорический отказ по всем пунктам и уехал, так и не поняв, почему Русь отвергла столь щедрые милости германского императора.
Такие попытки в конце XV века предпринимались неоднократно, но каждый раз имели одинаково провальный результат. И вот теперь, отчаявшись обратить в католичество Ивана III, империя и Рим принялись за его сына, Василия III.
Здесь надо остановиться и на второй причине повышенного интереса империи к этому вопросу. Для нее в конце XV — начале XVI века наступили трудные времена. Углублялся кризис Ганзы, подрывавший экономику германских городов. Были частично потеряны Голштейн, Пруссия, Силезия, Богемия и Моравия, нарастало ожесточенное соперничество с Ягеллонами, к 1475 году из-за саботажа городов провалилась попытка реформы государственного устройства на основе реанимации франкской имперской модели. Нарастало федералистское движение, оппозиционность центральной власти князей и городов, а император, по образному выражению К. Лампрехта, «бродил из одной страны Центральной Германии в другую, где свирепствовали междоусобия и взаимное недоверие»[165]. Усиливалась турецкая угроза. В 1517 году антимусульманское движение в Европе возглавили папа Лев X, французский король Франциск I и император Священной Римской империи Максимилиан, разославшие воззвания ко всем христианским государям. Они разработали трехэтапный план борьбы с Турцией: 1) сколачивание коалиции, в которую должны войти даже вассальные Турции Молдавия и Валахия и татары; в том же году будут взяты турецкие причерноморские крепости Килия и Аккерман; 2) на второй год армия французского короля захватит Адрианополь — ключевую крепость на пути к Стамбулу и еще какой-нибудь крупный турецкий порт; 3) на третий год «христианский мир» заключит союз с персами, и они помогут завоевать Стамбул[166]. План выглядел скорее экзотическим, чем реалистичным, и, конечно, из этой затеи ничего не вышло. В марте 1518 года империя и папа занялись созданием очередной антитурецкой коалиции, во главе которой предполагалось поставить польского короля Сигизмунда I.
Особую окраску событиям придавала Реформация — вызов католическому миру. Последний явно проигрывал свои позиции в Европе протестантству, но искал способы компенсировать потери прихожан. Пошатнувшуюся гегемонию, провозглашенную в булле папы Бонифация VIII («мы провозглашаем, что в видах спасения римскому папе подчинено каждое человеческое существо»), надо было реанимировать путем расширения сфер влияния. И восточные соседи были для этого идеальным потенциальным объектом.
В этих условиях и произошло открытие России, которое сопровождалось вспыхнувшими в Европе надеждами на обновление и расширение католического мира через новую страну — Московию. Германский мир не принимал участие в открытии Нового Света, и поэтому проникновение на восток стало для Священной Римской империи ее колониальной задачей и перспективой, а Московия — ее Новым Светом. Контакты с русскими освещались светом высокой миссионерской цели — обратить московитов в истинную, католическую веру. Это был феномен, получивший у историков название «Открытие России Европой» (подробнее о нем мы поговорим чуть позже).
Таков был исторический контекст, в котором активизировались контакты Василия III с императорским двором и римскими папами. О союзе против турок говорил в 1517 году во время своей первой поездки в Россию Сигизмунд Герберштейн, но эти предложения на фоне стараний имперского посла отнять у России Смоленск выглядели блекло и не были восприняты всерьез.
4 июня 1518 года папа Лев X направил Василию III буллу с приглашением участвовать в крестовом походе против турок и вступить в лоно католической церкви[167]. Содержание письма оказалось бы неожиданным для московского государя. Из него он узнал бы, что папе достоверно известно о необоримом желании русского монарха принять католичество и проникнуться «истинным учением». Этим его душа просветлилась бы и получила прощение от Бога. Папа обещал в этом случае свое покровительство и милости, которые Василий III не в состоянии и представить. Правда, булла до Москвы не дошла.
Зато 27 июля 1518 года в Москву прибыли имперский посол Франческо да Колло и папский легат Антоний де Конти. Они привезли известия о переменах в «христианском мире»: 13 марта папа Лев X провозгласил «эру мира» между всеми христианскими государями. Им теперь возбранялось воевать друг с другом, а все силы надлежало бросить против наступления мусульман. 20 апреля с призывом об этом к Василию III обратился император Максимилиан. А Россия, Польша и Литва ведут себя в высшей степени неприлично: воюют между собой из-за мелких интересов и амбиций, пренебрегая великими проблемами «христианского мира»! Им необходимо помириться и рационально использовать свои армии в интересах всех христиан.
Трагическое непонимание между европейскими посланцами и Василием III во всей красе проявилось уже в первом приеме дипломатов при дворе. Да Колло очень нервничал и быстрее хотел донести до Василия III главные задачи своей миссии. Он говорил образно, красиво, рассказывал о нападениях турок, о том, что мусульмане захватили уже четыре патриарших церкви, семь азиатских церквей, к которым обращался в своем Апокалипсисе святой апостол Иоанн, Гроб Господень и т. д. Василий III дождался, пока ему переведут начало речи, после чего вскочил и возмущенно заявил: неужели император Максимилиан, его брат, не передал ему привета? По русскому обычаю посол должен был начать выступление именно с приветственных слов. А да Колло так хотел перейти к сути, что забыл об этом. Услышав, наконец, имя Максимилиана, Василий успокоился, снял корону и сидел с непокрытой головой, пока не прозвучали необходимые слова. Посол опять хотел вернуться к главной теме, но московский государь прервал его и спросил, здоров ли император. А потом последовало заявление, что о делах дипломат пусть расскажет боярам, а все, что нужно самому Василию III, он уже узнал… В смысл посольства он не стал вникать, и никакой реакции на волнующие слова о необходимости спасения мира разочарованный венецианец так и не дождался[168].
Конечно, это была определенная дипломатическая игра. Русская посольская служба сознательно сбивала гостей демонстративной приверженностью к ритуалу, чтобы смутить их, запутать — вдруг растерявшийся европеец выболтает тайные, сокровенные сведения? Да и добиться своей цели для дипломата, со всех сторон скованного ритуальными ограничениями, становилось затруднительно. Для тех, кто выдерживал пытку ритуалом, полагалась вторая пытка — московское застолье. У посольской службы была такая работа, которая называлась «поить посла». Да Колло в ужасе описывает, как на обеде у великого князя его заставляли пить медовуху («против воли и без аппетита»). Человека, воспитанного на итальянских винах, можно понять.
Но когда итальянцы с облегчением вернулись с пира к себе на подворье, их ждал сюрприз: накрытый стол, ломящийся от еды и напитков, и радостные физиономии русских дворян, сообщивших, что праздник продолжается. И опять отказаться было нельзя — тосты то за Василия III, то за Максимилиана — попробуй тут не выпей. Может быть международный скандал. Общепринято мнение — послов специально поили, чтобы они спьяну выбалтывали секреты. Но в этот день да Колло и его спутникам повезло: их русские собутыльники больше интересовались дармовой выпивкой, чем имперскими секретами. Поэтому они напились раньше гостей, и обрадованные дипломаты, понимая, что еще чуть-чуть, и настал бы предел их алкогольной прочности, побыстрее убрались из-за стола…
Да Колло пришлось постичь многие тонкости русской дипломатии: бесконечные пиры, поездки на охоту, поездки в великого князя и медовуха, медовуха, медовуха… Отказываться и не участвовать было нельзя, поскольку такие мероприятия давали шанс подобраться на пиру поближе к Василию III и завести разговор об императоре Максимилиане и нуждах «христианского мира». Которые могли бы иметь успех, если после доброй охоты и чарки медовухи у великого князя будет хорошее настроение. Правда, посол добился немногого. Василий III с любопытством интересовался у да Колло, понял ли иноземец, в чем величие и мощь России. Тот, пользуясь случаем, выторговал право на сбор информации о стране (любой дипломат всегда немножечко шпион), надо же понять, в чем источник величия… И ему разрешили посетить несколько городов и достопамятных мест, позволили встречаться и беседовать с любыми людьми, принимать и расспрашивать гостей. Правда, расспросы впрок не пошли. Да Колло смущенно пишет, что, несомненно, у него создалось впечатление мощи, но в чем именно она состоит и откуда проистекает — этого он бы не мог сказать.
Миссия да Колло тем не менее была результативнее многих аналогичных посольств. Он преуспел больше, чем Герберштейн: Василий III согласился на годичное перемирие с Великим княжеством Литовским. Он подтвердил верность принципам, изложенным в договоре с Максимилианом 1513 года, и всячески заверил послов в доброжелательном отношении к империи.
Как водится, самые главные слова были сказаны да Колло на ухо в самый последний момент. 4 января 1519 года, уже в день отъезда из Москвы, послам на память о великом князе вручили позолоченные и серебряные вазы (в дополнение к полученным ранее подаркам: кафтанам, расшитым золотом, на соболиной подкладке, шкуркам соболя, горностая и барсука, лошадям, саням, рыбам, меду и деньгам). Когда венецианец уже садился в седло, Василий III шепнул ему на ухо, что он готов передать литовский вопрос на рассмотрение Максимилиану и поддержит его решения.
Что Василий III имел в виду — неизвестно. Ведь не возврат же Смоленска… Узнать это невозможно: пока окрыленный надеждами да Колло возвращался домой, 22 января 1519 года в Вельсе умер император Максимилиан. Смерть монарха в средневековье означала необходимость подтверждения или пересмотра всех ранее достигнутых договоренностей. Все надо было начинать сначала.
Выпавшее из рук да Колло знамя подхватил уже знакомый нам прусский дипломат Дитрих Шомберг. В марте 1519 года, в свой третий визит в Россию, он привез очередные щедрые предложения римского папы: если Русь примет католическую унию, то всем русским купцам будет предоставлена свобода торговли по всей Европе, русская митрополия станет отдельной патриархией (под эгидой папы, естественно), русский государь будет коронован из рук папы и станет монархом «христианского мира», а после этого, конечно, его армия просто будет обязана принять участие в священной борьбе против мусульман. Шомберга, как обычно, вежливо выслушали, сочувственно покивали и отправили домой с крайне туманными ответами.
В ноябре 1519 года Лев X отправил на Русь своего легата Захарию Феррери. Речь опять шла о принятии католичества и вступлении в антимусульманский союз в обмен на пожалование Василию III королевского титула. Но Феррери до Москвы не доехал — его задержал польский король Сигизмунд I, с неудовольствием взиравший на дипломатические маневры Рима вокруг московских «варваров-схизматиков». Зато в конце 1519 года с письмом от папы до Василия III добрался другой итальянец — генуэзец Паоло Чентурионе. Он прекрасно провел время в России, пользуясь тем радушным приемом, который описывал да Колло, и уехал очень довольный, с благожелательным, но ни к чему не обязывающим письмом Василия III римскому папе и выпрошенной лично для себя привилегией на торговлю на Балтике.
Тем временем положение на юге Европы становилось все более тревожным. В феврале 1521 года началось турецкое наступление на Белград. А за Белградом был Дунай — то есть в случае успеха турки выходили к этой артерии Европы. Вот тут-то во всей красе проявилось нехорошее качество европейских монархов: каждому из них хотелось, чтобы мир спасала чья-нибудь другая армия, а он бы тем временем горячо молился за победу ее оружия и потом с чистой совестью, как участник борьбы с мусульманами, пожинал бы плоды этой победы. Венгерский король Людовик II Ягеллон, которому деваться было некуда (турки шли на его владения), стал просить помощи у «христианского мира». Но император Карл V в 1521 году увлеченно воевал с Францией, ему было не до турок. Папа Лев X ответил коротко, что папская казна пуста и остается только уповать на милость Небес. А австрийский эрцгерцог Фердинанд прислал отряд наемников, когда боевые действия уже закончились. Остальные монархи не помогли вообще ничем.
28 августа 1521 года Белград был взят. До столицы Священной Римской империи — Вены — оставалось 150 километров. Как говорится, можно было начинать панику…
Европейским монархам здравого смысла хватило ненадолго. В 1521 году император Карл V заключил военный антитурецкий союз с римским папой и английским королем Генрихом VIII. К этому союзу предлагалось присоединиться Польше, Венгрии, Дании, Португалии и Савойе. Возможно, приглашение посылалось и Василию III. Но, судя по посольству Якова Полушкина 1522 года, великий князь отделался традиционными доброжелательными, но пустыми фразами. А антитурецкая коалиция не прожила и года. Уже в 1522 году римский папа Климент VII создал новый союз — Священную лигу. Главным врагом для нее объявлялись вовсе не турки, а император Карл V. Папу поддержали Венеция, Швейцария и Англия.
В обстановке этого разброда и шатания в 1524 году Климент VII предпринимает одну из последних попыток заманить Василия III в союзники. В Москву прибыл посол Паоло Чентурионе. Он благоразумно не поднимал вопроса о вступлении России в антиосманскую лигу (в свете последних дипломатических кульбитов в Европе это породило бы слишком много неприятных вопросов), но предлагал королевский титул в обмен на католическую унию. Василий III ответил обычно: вежливо, любезно, но неопределенно-отрицательно. При этом государь всячески демонстрировал заинтересованность в развитии отношений и в дальнейших переговорах: в Италию поехал русский посол Дмитрий Герасимов. Русские дипломаты, Иван Засекин и дьяк Семен Борисов, отправились и в Священную Римскую империю, где в самом Мадриде добились аудиенции у императора Карла V и заставили его произнести слова о возобновлении союза с Русью.
Хладнокровная позиция России особенно раздражала на фоне развивающейся европейской катастрофы. 26 августа 1526 году при традиционном отсутствии помощи со стороны монархов «христианского мира» в битве при Мохаче погиб венгерский король Людовик II Ягеллон, а его армия была уничтожена. В июле 1526 года в Москву приехало совместное папско-имперское посольство в составе уже известного нам Сигизмунда Герберштейна, графа Леонардо Ногароли и епископа Джованни Франческо Питуса. Они в последний раз обратились к Василию III с уже навязшим в зубах набором приглашений: замириться с Польшей, принять католичество, вступить в антитурецкую лигу, принять королевскую корону… Переговоры, как обычно, завершились ничем.
Ответное русское посольство к римскому папе испытало массу эмоций, наблюдая за злоключениями владыки «христианского мира». 5 мая 1527 года бурбонский герцог Шарль, воевавший на стороне императора Карла V, взял Рим, нанеся тяжелый удар папской Священной лиге. Климент VII бежал в Орвието, и здесь, в месте, далеком от римских папских покоев, принимал русских послов Еремея Трусова и дьяка Тимофея Шарапа Лодыгина. 6 января 1528 года дипломаты сумели скрасить бедственное положение папы, поцеловав у него на приеме туфлю и подарив черных соболей на шесть тысяч дукатов. Но была совершенно очевидна правота Василия III, не пожелавшего связываться с таким партнером.
В последние годы правления Василия III было еще несколько мелких русских посольств в Европу, но они уже не играли никакой роли. Наверное, здесь стоит подвести черту и ответить на недоуменные вопросы, которые уже наверняка накопились у читателя. Почему Европа так упрямо предлагала России одни и те же условия — считая с 1480-х годов, на протяжении почти пятидесяти лет? Почему прожженные западные дипломаты, искушенные в самых хитрых интригах, в отношении России выступали наивными младенцами и пытались уговорить ее на то, на что она никогда бы не согласилась? Почему Россия поддерживала эти инициативы, каждый раз крайне благожелательно отзываясь на них, но при этом не сделав ни полшага навстречу Европе? Ответ на эти — и другие — вопросы крайне важен, ибо здесь кроется разгадка мучительной тайны: почему Россия так и не стала частью Европы и в чем корни европейской русофобии?
В книге американского историка Ларри Вульфа, посвященной истории постижения Западом самобытных и своеобразных культур народов Восточной Европы в XVIII веке, содержится примечательная мысль: «Если бы России не было, Западу следовало бы ее выдумать»[169]. Иными словами, Европе в XVIII веке, в эпоху Просвещения, нужен был некий образ «антиевропы», на противопоставлении которому можно было лучше выделить и возвысить европейскую культуру, систему ценностей и т. д. И на эту роль — роль своего антипода — Западом и была избрана Россия. При этом, в общем-то, не столь важно, насколько критика европейцами ужасных реалий русской жизни и «кошмарной тирании» соответствовала действительности — Западу был нужен некий носитель тирании, рабства, варварства и прочих «неевропейских» черт, и их заранее приписывали России, не очень заботясь об адекватном описании этой страны и ее народа.
Принципиально соглашаясь с мыслью Л. Вульфа, я все же настаиваю, что этот процесс начался не в эпоху Просвещения, а гораздо раньше. И его начало приходится на так называемое «Открытие Европой России» в конце XV — первой половине XVI века, то есть как раз на время Ивана III и его сына Василия III. Термин «открытие» (а современниками ставились в один ряд открытие России, Нового Света, морского пути вокруг Африки в Индию и т. д.) правомерен применительно к восприятию этого события в сознании «христианского мира» в описываемую эпоху. Никогда раньше «русская тема» не переживала столь бурного переосмысления европейскими интеллектуалами. Они определяли место России на воображаемой карте мира — и в итоге нашли такое, что последствия этого мы не можем преодолеть до сих пор.
Открытие Западом Русского государства при Василии III — это прежде всего сочинение Европой самой себя, поиск христианским миром своей историко-культурной идентичности в эпоху Возрождения. Причем этот поиск осуществлялся по определенной схеме. Он связан с более ранней по времени возникновения моделью восприятия Европой Востока. По словам Э. Саида, «Восток помог найти дефиницию Европе, или тому, что мы называем Западом»[170]. Перед нами неоднократно изученный учеными прием: формирование представлений о другом как способ самопознания. Причем, что важно, характер этого самопознания заключался не только в том, что мир-контрагент наделялся чертами, которые европейская цивилизация не имела или не хотела бы иметь. Каждому участнику этих отношений заранее присваивалась определенная роль в системе «Европа — Восток», «Европа — Россия». И пересмотр этой роли в западном сознании по многим позициям с XV века не произошел до сих пор. Некоторые ее элементы по-прежнему определяют место России в мире в исторической памяти Старого (а теперь уже и Нового) Света.
Как европеец узнавал неевропейца? Западный мир, в общем-то никогда не испытывавший масштабной оккупации со стороны внешнего врага (все волны агрессии — и арабская, и монгольская, и турецкая — так или иначе гасли на окраинах континента), сам вырабатывал модель, по которой ему строить отношения с другими странами и народами. По замечанию философа В. Л. Цымбурского, Европа смогла «осуществить для себя стремление всех цивилизаций — вступать в контакты с чужеродным миром исключительно на собственных условиях»[171]. Поэтому и отношение к другим народам для Запада было обусловлено не столько объективным обликом «чужих», сколько собственно европейским самосознанием.
Для европейского средневекового менталитета при столкновении с чужим миром было характерно его осмысление «по аналогии», то есть через сравнение с каноническими образами и понятиями. Источниками последних являлись прежде всего Священное Писание, труды теологов, а также события древней и церковной истории — неисчерпаемый эмпирический фонд для дискурсивной практики.
Первый раз этот механизм дал сбой при столкновении европейцев с мусульманским миром. Чтобы понять ислам, Запад не мог найти подсказки ни в античных текстах, ни в Библии — мусульмане в них не упоминались. Отсюда и попытки привлечь для осмысления восточной темы уже знакомые понятия — «варвары», «иудеи». Возникает и обоснованное Бедой Достопочтенным определение мусульман как агарян, потомков библейского Исмаила. Из античности было заимствовано описанное Э. Саидом самоощущение европейцев как «особого человечества на особой земле», со всех сторон окруженной варварами (прежде всего это противопоставление относилось к азиатским соседям).
К восточному сопернику Запад применил свои представления о врагах вообще. Конечно, европейские теории, связанные с осмыслением магометанства, были зачастую фантастичны. Чего стоит только одна идея о сексуальных привилегиях мусульман (многоженстве, гаремах) как специальном инструменте разрушения христианства! Но они, в принципе, закладывали направление развития практики осмысления проблемы «неевропейских народов».
С XIV века на Западе в отношении Востока нарастает ксенофобия и определение его как принципиального врага «христианского мира», источника физической угрозы. Рост турецкой агрессии в XIV–XV веках (в 1354 году османы вышли на европейский берег Дарданелл, а с 1365 года их временная столица располагалась уже в европейском Адрианополе) подтверждал правильность подобной позиции. Турок, как новых пришельцев с Востока, Европа воспринимала по той же схеме Одновременно с ростом эсхатологических настроений (подкрепляемых падением в 1453 году Константинополя) возникают идеи… использования турок в интересах христианского мира. Речь идет о знаменитом письме 1460 года Энея Сильвия (римского папы Пия II) турецкому султану Мехмеду И, завоевателю Константинополя. Послание замечательно тем, что в нем султану предлагается… обращение в христианскую веру. Тогда он станет «императором греков и всего Востока» и величайшим человеком своего времени. Однако вторжение османов в земли, находящиеся под юрисдикцией Священной Римской империи, показало утопичность подобных призывов. И в XVI веке Турция однозначно трактуется как смертельный враг христианского мира, хотя при этом в политической практике с этим врагом не гнушались сотрудничать (например, франция).
Эпоха Великих географических открытий, появление Нового Света вызвали дополнение данной модели восприятия европейцами чужого мира. К ней добавилась колониальная идея, родившаяся из христианского миссионерства в сочетании с экономическими потребностями Запада, открывшего для себя новый источник развития в освоении заморских земель. Оказалась востребованной античная колониальная история, что проявилось в резком росте интереса к творческому наследию древнегреческих и римских историков и географов.
Данный колониальный подход проявлялся прежде всего в том, что Запад воспринимал любой нехристианский мир как младший, недоразвитый мир, как стадию, через которую Европа уже прошла. Поэтому в подходе к другим культурам главенствовала уверенность в необходимости запуска механизма культурной интеграции, вытекавшая еще из исторической практики усвоения варварами-германцами ценностей древнеримской цивилизации. То есть любая «младшая цивилизация» при столкновении со «старшей», европейской, должна у нее учиться.
А если она оказывается абсолютно невосприимчивой к культурному воздействию, не хочет усваивать его или усваивает на понятный только ей самой лад? Значит, перед Европой принципиально чуждый тип культуры, развивающийся по каким-то своим законам, «закрытая цивилизация», с которой и разговор должен быть соответствующий, как с принципиально чуждым и враждебным миром. Но отсюда с неизбежностью вставал вопрос: а что есть «чужой» мир? Естественным ответом на него было сосредоточить в этом мире все, что противоположно европейской культуре: чужой мир рисовался как «антикультура», сосредоточение греха, порока, грязи, мерзости и прочих «антиценностей» христианского мира.
Таким образом, благодаря контактам с чужими (как с исламским миром, так и с Новым Светом) у европейцев к эпохе Возрождения сформировалась определенная модель восприятия иных миров. Открытие чужих народов и стран первоначально предполагало попытку их осмысления «по аналогии», через библейские и исторические образы. Одновременно возникали идеи, как данных «чужих» можно сделать своими через их приближение к Европе, включение тем или иным способом в христианский мир. Параллельно шло изучение новых соседей. Как правило, этот процесс заканчивался осознанием того, что «чужие» все-таки, по терминологии П. Багге, «существенно другие»[172]. Они в принципе невосприимчивы для культурного влияния. И их нужно тем или иным способом колонизировать или обезопасить, сделать слугами или союзниками.
Все это мы видим в настойчивых попытках интегрировать государство Василия III в Европу через католическую унию, предложение королевской короны, включение в состав антимусульманской лиги, навязывание юридического посредничества Священной Римской империи в международных делах. Иными словами, в первой трети XVI века Россию изо всех сил затаскивали в Европу. Предлагали стать одним из европейских государств и разделить все их ценности: католицизм, верховенство папы и императора и т. д. Россия не захотела терять себя путем отказа от веры и от самостоятельности в политике. Значит, она «существенно другая». Дальше включался механизм ее осмысления как «антиевропы», и к середине XVI века Россия — уже идеологическое пугало Европы, ужасная страна…
Но неужели до конца XV — начала XVI века европейцы ничегошеньки не знали о России? В XV–XVI веках Россию для Европы открывали путешественники, купцы, дипломаты, то есть главные действующие лица эпохи Великих географических открытий. Но не меньшую роль, чем «практики», в этом процессе сыграли «теоретики» — европейские географы, историки и теологи, которые никогда не были в далекой Московии, но составили ее первые описания и карты. И здесь принципиально важно, какое место западные кабинетные ученые отводили новой стране на карте мира.
После трудов античных ученых европейцы знали главные русские географические ориентиры — Рифейские и Гиперборейские горы, из которых вытекали реки — Борисфен (Днепр), Танаис (Дон) и Ра (Волга). Считалось, что практически всю территорию от Дуная до подножья Рифейских гор покрывает таинственный Герцикский лес, начинающийся еще в Германии. Античные авторы были уверены, что данные пространства населяют многочисленные варварские народы, у которых нет ни единого предводителя, ни общего государства. Собирательным названием для них было «скифы» или «сарматы».
Развитие географической мысли в период средневековья было шагом назад по сравнению даже с данной концепцией. Вплоть до XV века доминировала так называемая «монастырская география», главным образцом творчества которой были Марра Mundi — карты, руководством к созданию которых послужила цитата из Книги Иезекииля: «Сия глаголет Адонаи Господь: сей Иерусалим, посреди языков положих его, и страны, яже окрест его» (5: 5). Их авторы видели мир в виде Т-образного креста, вписанного в круг. Стороны креста образовывали реки Танаис (Дон) и Нил, а вертикаль креста — Средиземное море. Сегментами же выступали части света: Азия (верхний сегмент, отделенный от Европы Танаисом и от Африки Нилом), Европа и Африка (разделенные Средиземным морем). Вокруг этих частей света простирался Мировой океан. В перекрестии же размещался Иерусалим — центр мира.
На ранних картах (например, Эбсторфской 1234 года) отдельные русские города (Киев, Полоцк, Смоленск, Новгород) были расположены «в правой руке Христовой», в сегменте, образуемом Танаисом и Средиземным морем, то есть в Европе. С XIV века на итальянских портоланах, происходящих из итальянских колоний в Крыму, Причерноморье фигурирует также в составе Европы (карты Каригнано и Пиззигано, списки 1320–1456 годов, так называемый атлас Медичи, 1351 год, и др.). Среди объектов на этих картах значатся реки Дон, Днепр, Волга, Нева, территории Кумания (Земля кочевников), Газария (в устье Дона), Сарматия, Земля амазонок, Рифейские горы, Северный Ледовитый океан и у побережья Балтики — Курляндия и Новгород.
Большой интерес для ментальной географии представляет собой так называемая Францисканская карта 1350–1360-х годов, составленная неким монахом из Кастилии. Он никогда не совершал своего путешествия, а изучил каталонские карты мира, а потом нарисовал собственную карту Европы, как он себе ее представлял. В районе Танаиса у него располагалась воображаемая империя Sara, за Невой — царство вечного холода, страна Siecia. В целом география получилась абсолютно фантастическая, единственным русским объектом, который можно соотнести с реальностью, был Новгород.
Особый статус последнего города на средневековых картах, видимо, был порожден его известностью как торгового центра. На карте бенедиктинского монаха из Зальцбурга Андреаса Васпергера (1448) огромное изображение Новгорода занимало все пространство от Азовского до Балтийского морей. При этом восточнее Новгорода располагались Рифейские горы, за которыми жили каннибалы, а также народы Гога и Магога. То есть восток Европы, согласно Васпергеру, состоял из Новгорода и земель, заселенных дикими народами-людоедами.
К XV веку можно отнести первые изображения собственно России на картах Европы. Причем она однозначно помещается в европейский знаковый контекст. На карте Андреа Бианко 1436 года нанесена imperio Rosie magna, находящаяся за Доном и Волгой. Ее соседом выступают imperatori Tartarorou. Карта Бианко интересна своими условными знаками — крупные государства обозначены символическими фигурами правителей в шатрах, на троне и с коронами. Так изображены императоры: русский, татарский и два романских (один помещен на Среднем Дунае, другой на Балканах), а также Trabexonsa (на месте Византии). Рисунки императоров идентичны — по одежде, короне и символам власти это стилизованный европейский правитель.
Важным этапом в развитии знаний о восточных рубежах Европы было составление в 1457–1459 годах карты Фра Мауро. Границей Европы и Азии у него выступает Волга, на которой расположены Rossia Bianko и Paluda Rossia. На Дону находилась Rossia Negra, на Оке — Moscovia, между Доном и Днепром — Lituania. Среднее Поднепровье с Chio (Киевом?) на карте обозначено как провинция Raxan, севернее которой нанесена провинция Maxar. Между Днепром и Днестром лежит Gothia. Видимо, Фра Мауро принадлежит честь одного из первых разделений на карте Московии и России, правда, в данном случае в фантастическом контексте: Московию он отделял от мифических России Белой и России Черной[173].
В связи с реанимацией птолемеевской традиции в конце XV века перед географами эпохи Возрождения встала проблема Сарматий. На восьмой карте Европы у Птолемея перед Доном и Рифейскими горами нанесена Европейская Сарматия, а за Доном — Азиатская. Последняя дана в подробностях на второй карте Азии. Таким образом, ученый авторитет четко обозначил пределы европейского мира и даже субъект, который лежит «наполовину в Европе, наполовину в Азии» — Сарматию. К ней в XV веке относили земли Польши, Литвы, Московии. Это, наверное, первое формулирование парадигмы о «срединном положении» России между двумя антагонистическими мирами.
Освоение птолемеевской традиции в эпоху Возрождения не было буквальным, а скорее происходило на уровне соблюдения форм и номенклатуры понятий. Практически сразу же началась, по выражению Л. Багрова, «диффузия птолемеевской географии»: на карты античного ученого наносились современные границы, очертания, страны и народы, которые на первых порах соседствовали с андрофагами и амазонками. Постепенно подборка античных карт вытеснялась работами географов XV–XVI веков, однако, что важно, при этом нумерация карт повторяла структуру Птолемея. И заданные им параметры европейских и азиатских пределов перешли в средневековье. Например, на Генуэзской карте 1457 года между Днепром и Доном находится Sarmatia prima, на Волге — Sarmatia Secunda. Даже на карте мира 1507 года Мартина Вальдземюллера, одной из первых, где был одновременно изображен и Старый, и Новый Свет, еще нет ни Московии, ни России, зато нанесены Европейская и Азиатская Сарматии. В последней находились Татария и Страна амазонок.
Постепенно происходила разработка новой номенклатуры стран и народов Востока Европы. В 1490 году в переиздании Птолемея Генрихом Мартеллом Германусом на карте Европейской Сарматии у подножия Рифейских гор мы видим Ducatus Moschovie. На карте 1491 года Конрада Певтингера нанесена Sarmatia terra in Europa, с которой соседствуют Ливония, Новгород и Великое княжество Литовское (Magnus Ducatus), а также Псковское королевство (Pleslov regnum). Северо-восточнее Новгорода и Пскова расположена Белая Русь (Russiae Albae pars). На юго-западе, в Среднем Поднепровье и на Днестре, ей противополагается Красная Русь (Rubea Russia). На карте Иеронима Мюнстера 1493 года также разделены Руссия (находящаяся по соседству с польской Подолией) и Московия[174].
В конце XV — начале XVI века с подачи польских ученых и политиков в ментальной географии восточных пределов Европы намечается новая тенденция: Россию пытаются вытеснить за пределы Европы, в Азию. Как показал Э. Клюг, один из первых подобных случаев — комментарии краковского магистра Яна из Глогова к переизданию Птолемея, в котором Московия была однозначно записана в Азиатскую Сарматию[175].
Необычайный интерес представляет собой аллегорическое изображение Европы в тексте под названием «Introductorium cosmographiae» (около 1507 года), происхождение которого также связывают с Яном из Глогова или его кружком. Европа нарисована в виде драконоподобного существа, у которого крылья — Ирландия и Англия, ноги — Балканы, Италия и Испания, а туловище — Франция, германский мир, Польша и Литва. Дракону-Европе противостоит Медведь-Азия, в которой центральное место занимает Московия. «Медвежья символика», как мы видим, характерна для России с начала XVI века до наших дней.
В подготовке карты 1507 года Маркуса Бененентана, вышедшей вместе с очередным выпуском Птолемея, принимали участие польские картографы (в том числе Бернард Ваповский и представители копернианской школы). Они также постарались вытеснить Московию в Азию. Ducatus Moscovia было помещено за Рифейские горы и Герцинский лес, которые и отделили его от Russia Alba. Город Москву поляки нанесли на северном склоне Рифейских гор, возле Ледовитого океана. Даже Татария оказывалась ближе к Европе, чем Московия.
Поскольку поляков как непосредственных соседей Московии трудно заподозрить в незнании истинного положения вещей, перед нами явное стремление изгнать Россию из Европы. Представляется правильным мнение Э. Клюга, что именно поляки в XVI веке распространяли на Западе миф об азиатской и варварской Московии, антагонисте христианского мира, впоследствии подхваченный в других странах.
По замечанию С. Мунда, в XV веке земли восточнее Одера и Вислы представлялись Западу сказочным регионом, «пространством мечты», где пролегал путь трубадуров, странствующих рыцарей и купцов[176]. Но и для земель к востоку от Одера и Вислы нашелся свой Колумб, правда, в облике кабинетного ученого. Краковский профессор Матвей Меховский видел свою миссию в том, чтобы совершить, пусть на бумаге, Великое географическое открытие для Европы: Московии и ее соседей. Он писал: «Южные края и приморские народы вплоть до Индии открыты королем Португалии. Пусть же и северные края с народами, живущими у северного океана к востоку, открытые войсками короля Польского, станут известны миру»[177]. Заявленные в 1517 году открытия польского исследователя были удивительными: например, он говорил, что Рифейских гор не существует. Это вызвало буквально взрыв эмоций у просвещенных европейцев. Известный деятель Реформации Ульрих фон Гуттен писал нюрнбергскому гуманисту Пиркгеймеру о потрясении, которое испытал, когда услышал, что Рифейских гор нет: «О, что за время! Как движутся умы, как цветет наука!»
Открытие Московии для европейцев выразилось в появлении в конце XV — начале XVI века целой серии сочинений, посвященных описанию России и предлагающих формы сотрудничества христианского мира с этой страной. На обратном пути из Персии в 1474–1477 годах венецианский посол Амброджо Контарини посетил Московию и опубликовал отчет об этой поездке в 1487 году в Венеции под заголовком «Questo е el viazo misier Ambrosio Contarin ambasador de la illustrissima signoria de Venesia al signor Uxuncassam re de Persia» (переиздан в 1524 году). Между 1488 и 1492 годами Иосафат Барбаро написал «Путешествие в Тану» (издано в 1543 году). В 1486 году в миланской придворной канцелярии был записан рассказ московского посла, опубликованный только в 1957 году. В 1503 году появилось «Подробное разъяснение о расположении, нравах и различиях скифского народа». В апреле 1514 года на Латеранском соборе с докладом «О народах рутенов и их заблуждениях» выступил гнезнинский архиепископ Ян Лаский. В 1517 году в Кракове вышел уже упоминавшийся трактат Матвея Меховского «О двух Сарматиях», издававшийся до 1600 года 23 раза. Посетивший Россию в 1518–1519 годах имперский посол Франческо да Колло оставил записки, увидевшие свет только в 1603 году. В 1523–1525 годах трактат о Московии на основе рассказов дипломатов и купцов создал Альберт Компьенский (в XVI веке издавался в 1543, 1559, 1564, 1574, 1583 годах), в 1525 году — Павел Йовий, чье произведение в XVI веке публиковалось в среднем раз в два года (за 1525–1600 годы известно 30 изданий)! В 1525–1526 годах вышло первое издание трактата Иоганна Фабри «Религия московитов, обитающих у Ледовитого моря» (переиздано в 1541 году и частично вошло в сочинение Яна Лазицкого «О религии, жертвоприношениях, свадебном и похоронном обряде русских, московитов и татар», 1582 год)[178].
Альберт Компьенский с восторгом писал папе Клименту VII: «Если тот евангельский пастырь, подлинно великий Понтифик, наместником коего ты, Климент, являешься среди нас, с такой старательностью и заботливостью искал одну заблудившуюся овцу из ста… то кому непонятно, сколько усердия действительно должен приложить верховный пастырь Церкви, когда не одна из ста, но многие сотни заблудших душ желают возвратиться в стадо Христово? Вот почему не могу надивиться, о чем же думали предшественники Твоего Святейшества, которые доселе не обращали внимания на этот весьма многочисленный народ московитов».
Альберт представлял посрамление протестантов, воображая, как «народ дальней Скифии, почти что из другого мира, придет к послушанию Римской церкви, между тем как лютеране, неистовствуя и безумствуя, в злобе и умопомрачении восстали против достоинства и власти сей церкви». В случае обращения русских «мы найдем… выгоду более несомненную и славу более истинную и более христианскую, чем в том случае, когда бы мы оружием победили всех турок, всю Азию и, наконец, всю Африку… Благодаря же этому союзу с московитами многие сотни тысяч душ возвратились бы в стадо Христово без [употребления] оружия и [пролития] крови»[179].
Европейские авторы первой половины XVI века чуть ли не с благоговением описывали стремление московитов к святости и чистоте веры. Иоганн Фабри построил свой трактат на противопоставлении стереотипного взгляда и «истинного положения вещей»: начинает он со слов, что «едва ли какой другой народ доселе имел более худую славу в отношении религии». А затем приводит подлинную похвалу отношению московитов к вере: в отличие от европейцев они не допускают никаких ересей, благородно покровительствуют несчастному и бессильному константинопольскому патриарху, если кто-то не ходит на исповедь, «того предают анафеме, и все гнушаются общения с ним до такой степени, что не дозволяют входить в храм»[180].
Фабри так описывал свои впечатления от знакомства с благочестием православной Московии: «Услыхав об этом, мы были так потрясены, что, охваченные восторгом, казались лишенными ума, поскольку сравнение наших христиан с ними в делах, касающихся христианской религии, производило весьма невыгодное впечатление». Альберт Компьенский говорил о русских: «Во многом они, как кажется, лучше нас следуют Евангелию Христа». Он писал о Василии III:
«Хотя мы считали его схизматиком и почти язычником и много раз выступали против него с оружием, тем не менее в деле спасения нашего и Христианской церкви он выказал себя в большей мере христианином, чем наши государи, которые похваляются титулами христианских, католических и защитников веры… Этот схизматик так радеет о нашем спасении, что отправил того, который должен пробудить нас (посла с предложением антитурецкого союза. — А. Ф.), словно погруженных в летаргический сон, и убедить иной раз вспоминать о собственном спасении, и, наконец, позаботиться о наших делах… Более того, сей государь, которого мы вправе были опасаться как смертельного врага, предлагает в нашу защиту себя и весь народ свой. А наши христианские государи совершенно не думают о том, как оказать помощь христианскому миру, который они сами своими раздорами погубили… поэтому, если оценивать прежде всего по делам, а не по обманчивым титулам, то окажется, что он [московит] является воистину христианским государем, а наши с их пышными титулами будут признаны хуже язычников и схизматиков»[181].
По верному замечанию О. Ф. Кудрявцева, «Русь, не знающая тяжелых религиозных потрясений, свято чтущая церковную традицию, та самая Русь, в православном населении которой доселе видели схизматиков и вероотступников, теперь представлялась чуть ли не последним оплотом истинного христианства»[182]. Обращение русских правителей под пером европейских авторов напоминало сюжеты из святоотеческой литературы и житий святых, повествующие о внезапном прозрении недавних нечестивцев.
Описание Московии у авторов первой половины XVI века отражает целый ряд западных стереотипов, принятых при изображении чужого мира. Во-первых, это мир закрытый, замкнутый, в отличие от европейской открытости, — общим местом во многих сочинениях является рассказ о «затворенности» Московии, в которую невозможно попасть без дозволения русских. Во-вторых, это мир сильной государственной власти, московиты безоговорочно повинуются своему правителю, даже в таких «трудных» вопросах, как отказ от пьянства. Франческо да Колло утверждал, что русскому государю все настолько преданы, «что, если он прикажет кому пойти и повеситься, бедняга не усомнится немедленно подвергнуть себя таковому наказанию». Преданность русских государю достигает немыслимых масштабов: «Нет другого народа, более послушного своему императору, ничего не почитающего более достойным и более славным для мужа, нежели умереть за своего государя. Ибо они справедливо полагают, что так они удостоятся бессмертия» (И. Фабри). Во времена Василия III при сравнении с европейской анархией такое послушание властям вызывало умиление и восхищение. При Иване Грозном то же самое назовут «бесчеловечной тиранией».
В-третьих, русские рисуются как люди, сохранившие первобытную чистоту и простоту нравов: «У них считается великим и ужасным злодеянием обманывать и обделять друг друга, прелюбодейство, разврат и распутство редко встречаются в их среде. Противоестественные пороки им совершенно неизвестны, о клятвопреступлениях и богохульствах у них не слыхать» (Альберт Компьенский). Необычайно развито почитание родителей. Русские целомудренны и свято чтут обеты, «гнушаются прелюбодейства, пожалуй, в большей степени, нежели мы» (И. Фабри). Фабри помещает целый панегирик нравам «рутенов» в сравнении с загнивающим германским миром: «Ибо где у [рутенов] обнаруживается корень жизни, там наши немцы скорее находят смерть; если те — Евангелие Божие, то эти воистину злобу людскую укоренили; те преданы постам, эти же — чревоугодию; те ведут жизнь строгую, эти же — изнеженную; они используют брак для [сохранения] непорочности, наши же немцы совсем негоже — для [удовлетворения] похоти; и не вызывает никакого сомнения то, что если у них [совершение] таинств уничтожает бремя грехов, то, к прискорбию, у наших пренебрежение таинствами увеличивает это бремя. Что касается государства, то те привержены аристократии, наши же предпочитают, чтобы все превратилось в демократию и олигархию»[183].
О. Ф. Кудрявцев связывает, и по всей видимости справедливо, с подобной идеализацией нравов и противопоставлением чистоты туземцев порокам европейского общества влияние колониальных дискурсов, обусловленных открытием Нового Света. Он отмечает, что во многих трактатах о Московии первой половины XVI века их авторы описывали не реальные нравы московитов, а в первую очередь те устои, которые хотели бы (или не хотели бы) видеть у себя дома[184].
Это противопоставление особенностей жизни в Европе и России проявилось и в том, что облик Московии авторы эпохи Возрождения рисовали по принципу «антимира», Зазеркалья. Здесь строятся деревянные, а не каменные строения, как принято на Западе. Мало городов и замков, зато обширные леса. Фрукты почти не родятся, так как «истребляются весьма холодным дуновением Борея», зато больше всего дохода дают насекомые — пчелы. Невозделанная природа Московии иной раз дает такое изобилие, что с ним приходится бороться. Мороз и снег, которые в Европе считались препятствием к передвижению, в Московии, наоборот, спасительны, ибо быстро ехать можно только по руслам замерзших рек, являющихся лучшими и чуть ли не единственными (!) дорогами в этой стране. Да Колло писал: «Имеют сии страны зерна и фуража безмерно, несмотря на то, что земля покрыта снегом почти девять месяцев в году». На период холодов для русских, казалось, должна останавливаться жизнь: даже покойников замораживают в гробах, так как их невозможно похоронить до весны. Однако многие авторы с удивлением отмечают, что зима является для московитов временем интенсивной экономической жизни и социальной активности.
Подобное восприятие было подготовлено особенностями самого пути из Европы в Россию — десятки километров по безлюдной дикой местности, с редкими бедными селениями, без дорог, через неосвоенные леса и реки без мостов. Нередко даже самим послам приходилось принимать участие в прокладке пути, толкании саней, обороне от диких животных и грабителей и т. д. То есть европейцу, чтобы попасть в Россию, в XV–XVI веках надо было совершить подвиг путешественника, пережить приключение. Поездка в Московию считалась тяжким жизненным испытанием и даже Божьим наказанием, которого стоит избегать. Поэтому и возникало ощущение попадания в совсем другой мир.
Образ другого мира в сознании человека эпохи Возрождения и Великих географических открытий был неразрывно связан с представлениями о чудесах. И сочинения о Московии не стали исключением. По словам Йовия, «в Новгороде царит почти вечная зима и тьма весьма продолжительных ночей, ибо этот город видит Северный полюс… говорят, что в силу этого положения во время солнцестояния вследствие кратких ночей там стоит почти непрерывный солнечный жар и зной»[185]. Для создания социальных легенд привлекалась античная традиция: например, Себастиан Мюнстер писал о том, что в центре Москвы находится форум, «в середине форума есть квадратный камень; если кто-нибудь на него заберется и его оттуда не смогут силой сбросить, он обладает властью над городом»[186].
Возникали сказания о дикарях, живущих еще восточнее или севернее русских, — например, миф о пигмеях. Они живут в стране, окутанной глубоким мраком, «когда они достигают полного развития, то своими размерами едва превосходят нашего десятилетнего мальчика. Эти люди боязливы, свою речь выражают щебетанием; так что они, по-видимому, столь же близки к обезьяне, сколь своими ростом и чувствами далеки от человека надлежащих размеров» (П. Йовий).
В произведениях, посвященных открытию Московии, часто фигурируют чисто колониальные образы — странствующего рыцаря, купца, путешественника. Колониализм мышления авторов, оставивших описания России, проявился в перечислении туземных товаров, которые можно вывозить. Если для Индии это пряности, то для России это прежде всего пушнина и прочие дары природы — воск, сало, мед и т. д.
Интересно, что говоря о перспективах торговли в России, Павел Йовий вспоминает пример именно из истории колониального проникновения в Индию; он очень озабочен вопросом, насколько далеко от «скифских берегов» находится «г. Китай». Сравнение с Индией содержится и в труде Яна Лаского (1514), причем именно в колониальном аспекте: «Подобно тому, как Индии приносят славу благовония, так меха и пушнина, которыми изобилует эта область и доставляет по всему миру, прославляют Московию и приносят золото и богатство ей и самому властительному князю». Да и описания самих сделок в Московии очень напоминают контакты конквистадоров с индейцами в Новом Свете: авторы с восторгом говорят об обмене простодушными русскими на обычный железный топор стольких соболиных шкурок, сколько пролезет в отверстие, в которое насаживается топорище.
Колониализм в отношении России проявлялся и в синдроме «культурного наставника», который тоже возник очень рано. Павел Иовий особенно подчеркивал стремление и способность московитов учиться; он описывал русского, который, посетив двор цесаря Максимилиана, «вращаясь при его дворе, наполненном людьми всякого рода, и наблюдая утонченные нравы… очистил свой спокойный и восприимчивый ум от всего, что в нем было варварского». Европейцы были убеждены в готовности русских принять «правильную религию» и влиться в католический мир. Оснований для подобной уверенности было не больше, чем в свое время для веры в готовность монголов принять христианство, но, как и в XIII веке, мнение о стремлении московитов в лоно католицизма стало истиной, не подлежащей сомнению.
Вышеописанные духовные процессы в европейской мысли первой половины XVI века очень сходны с тем, что Р. Шваб и вслед за ним Э. Саид описывают как «Восточное возрождение Европы» — появление идеи «возрождения» (regeneration) Европы от Азии[187]. Работы Фабри, Йовия, Альберта Компьенского и других также могут быть охарактеризованы как выражение идеи «русского возрождения» Европы через Россию.
Западные мыслители и политики, стремясь вовлечь Московию в унию, считали, что судьба России, в случае пренебрежения Западом ее стремлением принять истинную веру, в какой-то степени повторит судьбу монголов. Подобно тому как монголы предпочли отказаться от христианства, приняли ислам и стали врагами Европы, считали они, существует опасность, что и «государь Московии окажется пренебрежительно отвергнутым всеми нашими государями, но не будет отвергнут нашими врагами, ибо нет никакого сомнения, что турки используют все возможности, дабы привлечь его на свою сторону или в союзники для войны с нами такого великого государя» (Альберт Компьенский).
Восхищение русскими сменилось резким охлаждением уже к середине XVI века. Причиной, видимо, стало упорное нежелание России принять унию и тем самым влиться в европейский католический мир. Это вызвало переход к следующей ступени западной модели отношения к «чужим» — наступило осознание того, что московиты — «существенно другие».
Данный тезис даже стал обрастать своими легендами, одну из которых привел Альберт Компьенский: будто бы русские государи неоднократно обращались к папе и императору с просьбой о союзе и унии, но все испортила алчность римского папы, который «потребовал от них огромнейшей ежегодной дани, по его словам, как знак и подтверждение их покорности, не знаю уж какие десятины и аннаты». Московиты и передумали обращаться, решив, что в Ватикане «домогаются не спасения душ или славы Христовой, но лишь имущества всех народов». Римскую церковь считал виновницей срыва унии и Фабри, который утверждал даже, что готовность к обращению демонстрировали не только московиты, но и их соседи — татары и магометане.
Москву мало интересовали «турецкие проблемы» европейских стран, равно как и судьбы католической церкви. Великий князь шел на переговоры, преследуя свою выгоду, надеясь на помощь Рима и императора в противостоянии с Ягеллонами. Возможно, если бы проекты русско-германских антиягеллонских коалиций конца XV — первой половины XVI века оказались бы реализованными, восточноевропейский мир приобрел бы иную геополитическую конфигурацию (сильные Священная Римская империя и Россия при ослабленных или вообще расчлененных Польше и Литве). И тогда по-другому бы пошла история противостояния этой новой геополитической реальности мусульманскому миру и роль Московии могла быть более весомой и соответствующей ожиданиям Запада.
Но папа и император предпочли не конфронтацию, а договоры с Ягеллонами, «не сдали» Москве Польшу и Литву. Последние же приложили максимум усилий для дискредитации Московии в глазах Запада. А поскольку Польша, как непосредственный сосед Руси, выступала для Европы главным поставщиком информации о московитах, то противостоять антирусским идеям было трудно. Тем более что поляки искусно муссировали наиболее болезненные слухи о русских: что они на самом деле не подлинные христиане. Гнезнинский архиепископ Ян Лаский по поручению короля Сигизмунда в 1514 году сделал об этом упомянутый доклад на Латеранском соборе. Разоблачая «заблуждения» религии рутенов, он наделял ее чертами варварских, чуть ли не языческих суеверий: «…в день Святого Богоявления вместо церковного источника используют, пока могут, быстротекущие реки для крещения младенцев вместо Иордана, и если какой ребенок при погружении умирает от холода или выскальзывает из рук и захлебывается, то о нем говорят, что будто он взят Ангелом на небо, и утверждается, что мир недостоин его присутствия… Священнику для очищения совести с женою сожительствующей и желающей обвенчаться достаточно того, что он обольет себя некоей заквашенной водой от макушки головы до подошвы ног… По совершении похорон их священники приказывают поцеловать могилу, а после самих похорон пируют, поедая некую кашу, благословленную самим священником… их священники впадают в неправедность, когда убивают воробья или какую-либо птицу, и они не прежде достигнут праведности, пока эта птица не сгниет совершенно у них под мышками. Таково у них наказание, которое не бывает столь суровым, если кто убьет христианина…»[188]
Именно поляки в XVI веке усердно распространяли легенды о природной вражде русских по отношению к католикам-христианам (у московитов «…заслуживает признательности и достигает отпущения грехов, если кто убьет католика римского исповедания», — писал Я. Лаский). Именно поляки в противовес итальянскому и немецкому восхищению чистотой нравов московитов писали, что русские — грязные, дикие, нецивилизованные варвары, склонные к насилию и поэтому опасные для высокоразвитых народов: «…когда знатные и богатые начинают пировать, то сидят с полудня до полуночи, непрерывно наполняя брюхо пищей и питьем; встают из-за стола, когда велит природа, чтобы облегчиться, и затем снова и снова жрут до рвоты, до потери рассудка и чувства, когда уже не могут отличить голову от зада». Именно поляки обличали перед Западом московско-татарский «обычай» продавать людей в рабство, пропагандировали идею, что московиты в культурном и политическом отношении гораздо ближе к туркам, азиатам, чем к цивилизованной Европе. И хотя в XVI веке еще неоднократно переиздавались сочинения и Йовия, и Фабри, и Альберта Компьенского, в восприятии московитов верх явно начала одерживать «скептическая школа», заложенная Бернардом Ваповским, Яном Ласким, Матвеем Меховским и др.
В 1549 году в Вене вышло первое издание «Записок о Московии» Сигизмунда Герберштейна. По выражению А. Л. Хорошкевич, это сочинение задало «в идеальном виде» «тип и форму повествования о России»[189]. Во второй половине XVI века оно выходило в среднем раз в два года, известно 22 издания. «Записки» Герберштейна во многом оказались переломными в европейских оценках восточноевропейских земель. Под пером автора, как дипломата в общем-то провалившегося (обе миссии ко двору Василия III были неудачными), вместо «подлинных христианских государей» русские правители предстали скопищем всех человеческих пороков, воистину «антиправителями»: они хитры, лицемерны, вероломны, воинственны, все время ищут повода к нападению на соседей, жестоки к побежденным. Раньше их власть над подданными вызывала умиление и одобрение, теперь же она названа «жестоким рабством»: «Всех одинаково гнетет он (Василий III. — А. Ф.) жестоким рабством… Свою власть он применяет к духовным так же, как и к мирянам, распоряжаясь беспрепятственно по своей воле жизнью и имуществом каждого… Трудно понять, то ли народ по своей грубости нуждается в государе-тиране, то ли от тирании государя сам народ становится таким грубым, бесчувственным и жестоким»[190].
Повествование Герберштейна наполнено примерами преступлений московских государей, совершенных ими для захвата, укрепления власти или даже без повода, как проявление тирании. Московиты склонны к убийствам, насилиям, грабежам. «Все они называют себя холопами, то есть рабами государя… Этот народ находит больше удовольствия в рабстве, чем в свободе».
Герберштейн одним из первых объединил «русскую» и «турецкую» опасности, зарифмовал эти народы как природных врагов Европы. По утверждению имперского посла, за раскол церкви русские ненавидят католиков «более, чем даже магометан». Причем в своем ксенофобном поведении по отношению к Западу русские ближе к мусульманам: «Кто ел с латинянами, зная об этом, должен быть очищен очистительными молитвами». Даже святые у православия и ислама могут быть общими (легенда о молитве святому Николаю одновременно русского и татарского воинов). Герберштейн уверенно поместил Москву в Азию, отказав ей в европейской локализации, которую он счел недоразумением: «…если провести прямую линию от устья Танаиса к его истокам, то окажется, что Москва расположена в Азии, а не в Европе».
Очень много внимания Герберштейн уделил описаниям повседневной морали московитов. Если до него писали о верности русских своему слову и нерушимости клятвы, то имперский посол утверждал обратное: «Как только они начинают клясться и божиться, знай, что тут сейчас же кроется коварство, ибо клянутся они с намерением провести и обмануть». Если более ранние авторы умилялись чистоте нравов, то теперь живописуется такое количество сексуальных запретов и наказаний за проступки в сфере интимной жизни, что ни о какой высокой нравственности русских речь идти не может. Описание сексуальной морали русских меняется и в других произведениях второй половины XVI века: о целомудрии больше не вспоминается, напротив, почти в каждом сочинении говорится, что «этот народ весьма расположен к Венериным [утехам] и весьма привержен к пьянству: последнее считается похвальным, первое — дозволительным…».
Признаком супружеской любви у московитов, вопреки обычаям всех других народов, является избиение мужем жены. Герберштейн писал: «Есть в Москве один немецкий кузнец, по имени Иордан, который женился на русской. Прожив некоторое время с мужем, она как-то раз ласково обратилась к нему со следующими словами: „Дражайший супруг, почему ты меня не любишь?“ Муж ответил: „Да я сильно люблю тебя“. — „Но у меня нет еще, — говорит жена, — знаков любви“. Муж стал расспрашивать, каких знаков ей надобно, на что жена отвечала: „Ты ни разу меня не ударил“. — „Побои, — ответил муж, — разумеется, не казались мне знаками любви, но в этом отношении я не отстану“. Таким образом, немного спустя, он весьма крепко побил ее и признавался мне, что после этого жена ухаживала за ним с гораздо большей любовью. В этом занятии он упражнялся затем очень часто и в нашу бытность в Московии сломал ей, наконец, шею и ноги».
Разоблачение русского пьянства становится общим местом многих сочинений. Кроме того, теперь иностранцы со смаком описывают дикость московских нравов в отношении гигиены (не моют рук перед едой, крайне неопрятны, не используют ножей и вилок, а, как дикари, едят руками) и приготовления пищи (как заметил Тирбервилль, русским все равно, как приготовлено мясо, было бы побольше водки).
Если раньше авторы писали о том, что московиты могли бы выступить образцом поведения для европейцев, то теперь, наоборот, иностранцы изображаются несравнимо выше русских. Причиной «затворения» России, по Барберини, является боязнь русских показать себя слабее иноземцев. В качестве примера он приводит легенду, как на судебном поединке некий литовец хитростью победил тяжеловооруженного русского воина, бросив ему в глаза горсть песка. «С той поры не дозволено уже иностранцам вступать в сражения с москвитянами»[191]. Герберштейн высказал уверенность в привилегированном положении в России иноземцев и их судьбоносной роли в важных событиях внутренней русской истории. В качестве примера можно привести его рассказ о немце-пушкаре, который чуть ли не в одиночку отражает нашествие крымских татар, в то время как почти все русские утратили присутствие духа и даже жалуются татарам, что это не они стреляют во врага, а самовольствующий «немец». Этот тезис был с готовностью подхвачен многими европейскими авторами.
Раз страна, несмотря на все попытки, так и не стала частью европейского мира, то теперь ее отнесли к «антимиру». На примере истории Московии показывалось, что не надо делать европейцам и что такое неевропейское поведение. Сущность своего, христианского мира европейские авторы раскрывали через описание неевропейских, отрицательных качеств у своих соседей и антагонистов — прежде всего турок, а со второй половины XVI века — и московитов. Этот культурный механизм оказался столь эффективным и востребованным Европой, что, воистину, можно повторить: если бы России не было, Западу ее следовало выдумать.
Конечно, не следует думать, что абсолютно всё в сочинениях европейцев было выдумкой и пропагандой. Россия во многих своих чертах отставала от Запада, и дотошные гости это с удовольствием отмечали. Но в целом, несомненно, подход иностранных авторов был весьма предвзятым и тенденциозным.
Из всего вышесказанного вытекает один неоптимистический вывод. Запущенный в XVI веке культурный механизм продолжает действовать. И какие бы усилия по формированию своего положительного имиджа ни предпринимала бы Россия, это бесполезно, потому что положительному образу России просто нет места в европейской картине мира. Позитив в отношении русских возможен только при появлении общего третьего врага, настолько ужасного, что он затмил бы западные стереотипы в восприятии России. Но неизвестно, что хуже — служить в менталитете европейцев «антиевропой» или вместе с Европой оказаться перед лицом такого врага…
Западную политику Василия III, основной пик развития которой пришелся на 1512–1524 годы, можно в целом оценить как успешную. Войны были выиграны, территории присоединены, у политических интриганов ничего не вышло. Возникновение же ментальной пропасти между Россией и Европой оценивается по-разному. Развивать эту тему — значит вступать на скользкий путь вкусовщины, путь мутных споров о том, что правильно для России, а что нет.
Приговор тут может вынести только история. Оглядываясь на прошлое, мы видим, что страны Восточной Европы, «выбиравшие» в XV–XVI веках европейский путь (Польша, Литва), быстро оказывались в «бахроме» «христианского мира», употреблялись им в своих целях, а потом, выжатые как лимон, утрачивали самостоятельность и расчленялись на составные части, которые азартно и не без кровопролития делили представители того же «христианского мира» (Австрия, Пруссия) с «варварской», но выжившей и налившейся силой Российской империей. Если исходить из этой исторической ретроспективы, то вряд ли Василий III ошибся, отказавшись делать свою страну провинцией Священной Римской империи.
Гораздо более трудными и менее успешными были дела на Востоке. Здесь все более тревожными выглядели тенденции развития отношений с Крымским ханством. Подписанный в августе 1508 года русско-крымский договор особого доверия не внушал. Хан оставался верным своему слову и на Россию пока не нападал. Но это не мешало ему громить соседей, в том числе союзников Руси. Летом 1508 года лояльная к Василию III Ногайская Орда была разбита на своих же кочевьях в низовьях Волги: «Мурз пограбили, улусы и куны, кони и верблюды, овец и животину, ничего не оставив, привели»[192].
Правда, сохранялся шанс восстановить русско-крымские отношения и довести их до уровня, на котором они были при Иване III, на основе совместного выступления против общего врага. Большая Орда была разбита в 1502 году, но на ее обломках возникло Астраханское ханство. Там правили «Ахметевы и Махмутовы дети». Астрахань вела враждебную политику по отношению к Крыму. В 1508 году крымский посол Магметша попросил Василия III принять участие в походе на Астрахань. Менгли-Гирей был заинтересован прежде всего в русской артиллерии. Казалось бы, стороны обменяются военной помощью: Россия поможет на Волге, Крым — в войне с Великим княжеством Литовским. Но правители не смогли найти общий язык. Крым доказал, что он ненадежный союзник, а Василий III отговорился технической неготовностью русской армии к переброске большого воинского контингента по Волге: нет подходящих кораблей, нет опыта столь далеких речных походов и т. п.
Мирным отношениям Москвы и Крыма должна была содействовать «женская дипломатия». 21 июля 1510 года Василий III с боярами встречал в Кремле царицу Нур-Салтан, одну из жен Менгли-Гирея, совершавшую поездку из Крыма в Казань. По пути она заехала в Москву для встречи с Абдул-Латифом, своим сыном. В Казани же ее ждал другой сын, Мухаммед-Эмин. Отдохнув в русской столице около месяца, 20 августа Нур-Салтан отправилась по маршруту дальше. Обратный путь она проделала уже в декабре 1511 года[193]. Царице оказали теплый прием, посольская служба вовсю трудилась над тем, чтобы поездка была спокойной и безопасной. Василий III мог не беспокоиться: повода для ухудшения отношений он не дал.
Великое княжество Литовское предпринимало огромные усилия, чтобы рассорить Москву с Крымом, повернуть на* правление татарских ударов на Русь. В 1510 году переговоры в Литве провели крымские дипломаты Августин Гарибальди и Ахмет-мурза. Без излишних хитростей Литва предложила 30 тысяч золотом за военный союз. Причем в 1511 году четыре с половиной тысячи из этой суммы в самом деле отправили в Крым. То есть аванс был внесен значительный. Однако литовцы не учли восточную психологию: хан расценил это как слабость Великого княжества. Значит, с него можно взять еще больше, если как следует напугать. И татары, как уже говорилось выше, вторглись в молдавские земли (Валахию), рассчитывая этим актом устрашения произвести впечатление на Литву. Впечатление получилось не очень: польско-литовские войска под командованием Константина Острожского 28 апреля 1512 года разбили крымцев. Теперь уже Менгли-Гирей стал искать союза с Вильно.
Для этого нужно было понравиться королю Сигизмунду I, а сделать это было просто — совершить несколько нападений на русские земли. 8 мая 1512 года от новгород-северского князя Василия Шемячича поступило известие о выступлении татар из Крыма под командованием сыновей Менгли-Гирея, Ахмата и Бурнаша, на Новгород-Северскую и Стародубскую земли. Новость для Василия III была неприятной. Ему надлежало выступить в роли защитника этих земель, недавно присоединенных к Русскому государству. Иначе он мог бы их лишиться — обиженное монаршим пренебрежением население подалось бы опять в Великое княжество Литовское.
Василий III без колебаний скомандовал полку под началом М. Д. Щенятева занять оборону на реке Брыни северо-восточнее Брянска. Сюда на подмогу должны были подойти силы князей Василия Шемячича и Василия Стародубского. Но опыта у московских воевод было еще маловато, они не учли стремительного продвижения татар — уже 15 мая запылали русские деревни под Белевом и Одоевом. Одна часть татар отделилась и пошла вглубь России в направлении на Коломну. До Коломны она не добралась, но разорила окрестности Алексина и Воротынска.
Русское войско, не сумевшее оборонить свою землю, вышло из-под Брянска на берега реки Угры. Наверное, воины испытывали особые чувства: в 1480 году здесь, на Угре, был остановлен хан Ахмат и свергнуто татарское иго. И вот все сначала? Опять Угра, опять татары, опять угроза разорения, рабства, унижений? Видя, что отряд М. Д. Щенятева не справился, Василий III послал на берега Оки с войсками своих братьев — к Тарусе Андрея Ивановича, к Серпухову Юрия Ивановича. Позже полки также были посланы на реку Упу — перекрыть направление на Тулу и на реку Осетр в район Зарайска — закрыть путь на Рязань. Татары не стали пробовать на прочность свежеиспеченную русскую оборону. С добычей и полоном они ушли в степь.
В июне 1512 года татарский отряд под командованием Ахмат-Гирея прошел рейдом по окрестностям Брянска, Путивля, Стародуба. Здесь ему не повезло: северские города имели больше опыта в отражении нападений крымцев, набравшись его еще в годы пребывания в составе Великого княжества Литовского. Ахмат был разбит, набег отражен. В качестве трофея к Василию III отправили 70 пленных татар, из которых через два года в тюрьме умерли 57. Выдачи остальных безуспешно добивалась крымская дипломатия, что указывает на высокопоставленный статус попавших в плен (свободы для рядовых пленных Крым не требовал никогда).
В июле 1512 года старший сын Менгли-Гирея Мухаммед-Гирей пытался совершить набег на Рязань. Но здесь сработали предпринятые меры: узнав, что русские полки в полной боевой готовности стоят на Осетре, татары развернулись и пошли прочь. Воевода М. И. Булгаков их преследовал за Дон до реки Чернавы (в современной Липецкой области). Война с татарами завершилась в октябре 1512 года набегом Бурнаш-Гирея на Рязань. Крымцы взяли и сожгли внешнюю линию рязанских укреплений — острог — и штурмовали сам город. Гарнизон выстоял. В Москве набеги 1512 года расценили как совершенные по «наводке» Сигизмунда I. Русские дипломаты ставили их королю в вину, обосновывая легитимность нападения Василия III на Смоленск.
Историк В. П. Загоровский отметил, что события 1512 года наметили тенденцию всей дальнейшей крымской политики Василия III[194]. А именно — Русь на юге села в глухую оборону. Василий III фактически отказался от претензий на бывшие древнерусские земли вокруг запустевших городищ, стоявших на месте уничтоженных татарами древнерусских городов — Курска, Ельца (центров погибших одноименных княжений). За собирание русских земель он воевал с Литвой, но не с Крымом. Кроме того, Россия пока самоустранялась от борьбы за Поле — огромную ничейную территорию от окрестностей Тулы на севере до Крымского ханства на юге (в литературе иногда неправильно и эмоционально называемую Диким Полем). От татар собирались только отбиваться на ближних рубежах. Нам трудно это представить, но в XVI веке южная граница России находилась на расстоянии от Москвы в одну поездку на пригородной электричке. Понимание того, что крымцев можно остановить только на Поле, на дальних подступах к границам, придет лишь во второй половине XVI века, при сыне Василия III Иване Грозном, когда на Поле будет учреждена станичная и сторожевая служба и начнется строительство вынесенных далеко в степь линий опорных крепостей, о которые и будут разбиваться волны татарских набегов.
Василий III еще ни о чем таком не помышлял. В этом, наверное, была некоторая особенность войн, которые вела Россия в XVI веке: пытались захватить земли с уже готовой инфраструктурой: городами, городской округой, населением. Государство не интересовали пустые, ничейные земли, которые пришлось бы долго и трудно осваивать. Гораздо легче было взять уже готовое. Поэтому вектор завоеваний и был направлен на северо-запад — на Псков, на запад — в Литву и на восток — в Казанское ханство. А вот целинный юг никого не интересовал, несмотря на все его черноземы и идеальные условия для сельского хозяйства. Да и колонизацией пустынного Русского Севера занимались монастыри, но не государство.
В 1513 и 1514 годах Василий III приказывал войскам в сезон татарских набегов на всякий случай выходить к Туле и на реку Угру. Но эти годы прошли без татарских нападений.
Окончательно русско-крымские отношения испортились даже не из-за интриг Сигизмунда I или татарских набегов, а из-за амбиций Менгли-Гирея. Выше рассказывалось о его ярлыке 1507 года королю Сигизмунду на ряд русских городов. Этот эпизод с высоты наших дней вызывает лишь удивленную улыбку, настолько абсурдной выглядит постановка вопроса Менгли-Гиреем. Она абсолютно не соответствовала реалиям и раскладу сил в Восточной Европе начала XVI века. Но здесь очень рельефно высвечивается оптика взгляда из Крыма на эту самую Восточную Европу: хан хотел видеть ее вассальной, подвластной. И если там кто-то чем-то и владеет, то это происходит только с разрешения «великого хана Великой Орды». Если кто-то с кем-то воюет — то не сам по себе, а потому, что крымский правитель разрешил ему немножко повоевать с соседями.
Данное объяснение необходимо, потому что из него ясно, почему нападение Василия III на Смоленск вызвало страшное негодование в Крыму. Менгли-Гирей был возмущен, как Москва посмела это сделать без разрешения! Ведь Смоленск — это никакое не владение Великого княжества Литовского, это милостивое пожалование крымских ханов Ягеллонам. Неужели Василий III настолько обнаглел, что собирается поставить это под сомнение? Только хану решать, кому, что и на каких условиях принадлежит в Восточной Европе! Когда Василий III в 1514 году взял Смоленск, Менгли-Гирей обвинил его в нарушении присяги, данной крымскому хану, и объявил о разрыве дипломатических отношений и расторжении существующих договоров[195]. Кроме того, он заявил, что 35 русских городов издревле принадлежали Крымскому ханству. Он их сейчас назад не требует, но настаивает на возвращении восьми городов, которые он якобы пожаловал Ивану III: Брянск, Рыльск, Путивль, Стародуб, Почап, Новый Городок, Карачев, Радогощ.
Василий III был несколько озадачен. Почему после взятия Смоленска на него смертельно обиделся король Сигизмунд I, было понятно и простительно. А вот воспроизвести логику крымского хана не очень получалось. Русские князья и в XIV–XV веках не очень-то спрашивались у татар, воевать им с Литвой или нет. В любом случае даже запрет крымского хана не остановил бы Василия III в его стремлении овладеть городом. Ведь не остановила же его Священная Римская империя…
На всякий случай Василий III решил в течение года не посылать в Крым послов, надеясь на то, что со временем все образуется. Оказалось, зря. Менгли-Гирей взялся за дело всерьез. Никому не позволено считать слова великого хана пустым звуком, простым сотрясанием воздуха. И в марте 1515 года состоялся новый поход крымских войск против Российского государства. Крымскую армию поддержали выступившие совместно с ней отряды Великого княжества Литовского под командованием Андрея Немировича и Остафия Дашковича. Целью похода было разорение Северской земли. Был захвачен большой полон, но городские крепости выстояли.
В апреле 1515 года власть в Крыму переменилась. Умер Менгли-Гирей. Хотя другом Василия III его можно назвать с большой натяжкой, все же это был хан, помнивший эффективный военно-политический союз Руси и Крыма при Иване III и вплоть до 1507 года настроенный к России весьма дружелюбно. Теперь же к власти пришел его сын, Мухаммед-Гирей, настроенный к России крайне враждебно. В списке его врагов Василий III занимал почетную верхнюю строчку.
Однако христианский враг был лучше своего, татарского, врага. Пока существовало Астраханское ханство, прямой наследник Большой Орды, Крыму с его претензиями на гегемонию в татарском мире было неуютно. Уже летом 1515 года Мухаммед-Гирей пытался завоевать Астрахань. В его свите ехал русский посол Михаил Тучков, от которого мы и знаем подробности похода. Нападение оказалось неудачным, астраханцы отбились. Мухаммед-Гирей во всем обвинил Василия III, который вовремя не прислал свою помощь.
Василий III был перед сложным выбором. С одной стороны, если Крым со всеми его антироссийскими настроениями предлагал военно-политический союз для взятия Астрахани, этим шансом надо было пользоваться. Это была та платформа, на которой Русь и Крым могли объединиться в альянс, как некогда при Иване III. С другой стороны, Василию III совершенно не хотелось посылать «судовую рать» к далекому Прикаспию. Помимо объективных чисто технических трудностей, здесь было много политических нюансов. Путь по Волге лежал через Казань. Отношения с ней в это время были очень непростыми, и неизвестно, не спровоцировала бы русская армия, следуя через земли Казанского ханства, масштабный антирусский мятеж. К тому же Василий III четко понимал одну простую вещь: пока существует Астраханское ханство, Крым предлагает России дружбу, готов вести переговоры и вообще всячески заинтересован в хороших отношениях с государем всея Руси. А исчезнет Астрахань? Будет покорена? Против кого тогда смогут «дружить вместе» Русь и Крым? Больше кандидатур как-то не просматривалось. А это означало, что после Астрахани Мухаммед-Гирей вплотную займется былым союзником.
Значит, надо было балансировать между туманными обещаниями рано или поздно напасть на Астрахань вместе с крымцами (да вот незадача — кораблей нет, лес в стране кончился, порох отсырел и т. д.) и той тонкой гранью, за которой терпение Мухаммед-Гирея лопнет и последуют санкции уже против России. Можно было даже осторожно попробовать поиграть на татарских интересах. В ноябре 1515 года посол Михаил Тучков побуждал хана напасть на Великое княжество Литовское, мотивируя свою просьбу как раз «астраханским вопросом»: русское войско все на литовском фронте, так кто же, спрашивается, пойдет на Астрахань? Если хан заинтересован в каспийском походе, то пусть своим нападением скует литовскую армию и позволит России высвободить часть своих сил… В Крыму к этим словам отнеслись как полагается — то есть как к дипломатическому лукавству. Но показательны сами темы, поднимаемые в посольских дебатах.
Между тем на российских окраинах продолжалась военная активность татар. В сентябре 1515 года татарские князья Андышка (Айдешка) и Айга нападали на мещерские и мордовские места. Перезимовав под Азовом, весной 1516 года они повторили поход. Мелкие татарские шайки (современники называли их «безголовыми», то есть не имеющими командира) зимой 1515/16 года облюбовали для своих грабежей окрестности Рязани, Путивля и Белева. В июне 1516 года царевич Богатур напал на Мещерскую и Рязанскую земли. В том же 1516 году Айдешка еше раз разорил Мещеру.
В 1516 году Василий III оказался в центре крупной политической интриги. Вражда Мухаммед-Гирея и его брата Ахмата достигла пика. Ахмат предложил Василию III военный союз с Астраханским ханством и Ногайской Ордой, направленный против Крыма. Состав союзников был необычен. Русский посол И. Г. Мамонов, услышав эти слова, даже переспросил: «Точно ли с Астраханью и Ногаями?» Дело в том, что не далее как в апреле 1516 года ногайский мурза Агиш-князь запрашивал в Москве у Василия III в аренду войско в 20–30 тысяч русских конников для… войны против Астрахани.
Одновременно в 1516 году резко возросло дипломатическое давление Крыма на Москву с целью склонить ее к участию в астраханском походе. Верный своему принципу считать себя в Восточной Европе самым главным, Мухаммед-Гирей весной 1516 года отдал распоряжение Сигизмунду I не нападать в этом году на Россию: Василий III будет занят, отведет армию с литовских рубежей для похода на Каспий. Москве же Крым открытым текстом грозил войной, если она не поддержит нападение на Астрахань. Это был кнут, а в качестве пряника предлагалось включить Астрахань после взятия в состав Русского государства, но при этом сделать ее одновременно вассальной Крымскому ханству. Тут просматривалась далекоидущая политическая интрига: соблазнив Россию Астраханью, Крым хотел добиться признания своего сюзеренитета над частью русской территории, пусть и не совсем русской, а бывшей астраханской — неважно. Важно то, что тем самым Василий III в каком-то смысле оказался бы в вассальной зависимости от Крыма, чего, собственно, Мухаммед-Гирей и добивался.
В 1516 году в игру внезапно вступил еще один игрок — Казанское ханство. Оно объявило о намерении взять Астрахань самостоятельно, посадить там своего марионеточного правителя и основать огромную и могучую татарскую державу в Поволжье, от каспийского устья Волги до бассейна Камы.
Однако бюрократия — великая сила. Стороны наметили так много вариантов возможных военных союзов, что необходимо было договориться до чего-то более определенного, заключить официальные соглашения и т. д. От русских дипломатов потребовалось только умение забалтывать вопрос, которым они владели в совершенстве. Особенно это проявилось при обсуждении текста возможного договора («шерти») с Крымом. Послы в Москве и Бахчисарае днями напролет спорили о той или иной формулировке. За этими спорами 1516 год, слава богу, прошел…
В 1517 году Василию III немного повезло: на его стороне оказался голод, разразившийся на территории Крымского полуострова. Татары, «наги, босы и голодны», тысячами бежали из Крыма и промышляли грабежом в южных землях Великого княжества Литовского и в Северской земле. В чем же здесь везение? В том, что кроме людей голодали и кони. Царевичи Богатур и Али, а также князь Ад-Рахман даже собрали войско из несчастных, отчаявшихся людей, обещая накормить их в захваченных русских деревнях и городах. Но пришлось отложить поход, «пока кони наедятся». Напомню, что татары откармливали лошадей перед походом, а на марше не кормили. Здесь же система дала сбой: обессилевшие кони не смогли бы донести татар до богатых и сытых русских земель.
Кони отъелись к июлю. 20 июля татары (по разным оценкам, около двадцати тысяч) выступили из Крыма. Среди командования произошли разногласия: одни хотели идти на Литву, другие — на Русь. Кончилось все скверно: по приказу царевича Богатура часть сторонников «литовской ориентации» просто расстреляли из луков. Царевич Али увел свои войска обратно в Крым, отказавшись участвовать в походе. Тем не менее полки четырех князей вышли к Туле.
Плохо начавшийся поход плохо закончился. Василий III двинул полки навстречу неприятелю. Но, главное, за оружие взялось местное население — «пешие люди украинные», которым надоело жить в страхе перед татарской угрозой. Они устроили засеки — прием, успешно применявшийся против татар с давних лет. Деревья на пути конницы противника валились верхушками в его сторону. То есть татар встречал сплошной дремучий бурелом из веток и стволов, направленных в лицо. Тащить коней, оружие, фураж через засеки было трудно. А «пешие люди украинные» с удовольствием постреливали в татар из засады. Этот прием давал еще одно преимущество: засеками и брешами в них можно было заставить противника идти в заранее известном направлении, выводить его на место встречи с крупными русскими воинскими контингентами: «А спереди люди от воевод, подоспев, конные начали татар топтать, и по бродам и по дорогам их бить, а пешие люди украинные по лесам их били». Если верить русским источникам, то в Крым вернулась четверть вышедших в поход — не более пяти тысяч человек[196].
На фоне этого успеха некоторым парадоксом выглядит то, что именно в 1517 году Василий III заявил крымскому послу о готовности России принять участие в астраханском походе. Но у Мухаммед-Гирея в голове витали уже другие идеи: он обрадовался решению Василия III, но отреагировал на него как-то рассеянно. Потом оживился и приказал передать, чтобы в Москве готовились к совместному походу с крымцами на… Киев. Причем от Василия III опять требовалась «судовая рать», которая пойдет рекой Десной и далее Днепром. Планы захватнических походов на Астрахань и Киев поддержал ногайский мурза Кудаяр.
Взаимное притяжение России и Крымского ханства в 1518 году достигло своего апогея: крымская дипломатия употребила применительно к Василию III титул Белый царь (правда, системой это не стало)[197]. Крым был в этом не одинок: такое титулование встречается в грамотах греческих иерархов с Православного Востока. Кроме того, в грамоте наместника турецкой крепости Азов к Василию III от октября 1523 года говорилось: «Государю великому князю Василию Ивановичу всеа Русии, всесветлому государю Белому царю, холоп твой Магометбек азовскый государю своему низко челом бьет»[198].
Что означала эта титулатура? Интерес к трактовке данного выражения был уже у европейских современников. Одним из первых его пытался истолковать Сигизмунд Герберштейн: «Некоторые именуют государя московского Белым царем (Albus rex, weisser Khunig). Я старательно разузнавал о причине, почему он именуется Белым царем, ведь ни один из государей Московии ранее не пользовался таким титулом… название „белый“ они никак не могли объяснить. Я полагаю, что как (государь) персов (Persa) называется ныне по причине красного головного убора Кизил-паша (Kisilpassa), т. е. „красная голова“, так и те именуются белыми по причине белого головного убора»[199].
Очевидно, что данное объяснение было слабоватым. Несколько более весомую, но абсолютно фантастическую версию выдвинет в конце XVI века английский дипломат Дж. Флетчер: «Царский дом в России имеет прозвание „Белый“, которое (как предполагают) происходит от королей венгерских… русские полагают, что венгры составляют часть германского народа, тогда как они происходят от гуннов»[200]. То есть он приписал Рюриковичам… происхождение от венгерской королевской династии Бела!
На самом деле для восточной политической мысли Белый царь — это независимый царь, не обложенный данью. Историк А. Соловьев так объяснил этот термин: «В XV веке северо-восточную Русь всё чаще начинают называть „Белая Русь“. Этот термин восточного происхождения обозначает „вольную, великую или светлую“ державу, тогда как противоположный ей термин „черная“, которым в это время иногда называли Литовскую Русь, значит „подчиненная, меньшая“ страна»[201].
Судя по контексту употребления данного титула восточными странами, перед нами явно почетный, возвеличивающий термин, связанный с традиционными восточными высокими наименованиями правителей. На Руси в XVI веке он был не востребован, зато в XVII веке входит в титул Романовых, но в связи с совсем другой ситуацией и с другой семантикой — после присоединения Белоруссии. Но показательно, что Василий III был первым русским правителем, кого на Востоке именовали Белым царем, пусть пока не в качестве титула, а в качестве комплимента.
В свою очередь, Василий III усваивал кое-что из восточной политической культуры. Историк М. А. Усманов обратил внимание, что он активно употреблял в переписке с мурзами и татарскими князьями выражение «слово мое» («посылаю вам слово мое», «слово мое то» и т. д.). Оно было характерным для ханских ярлыков, адресованных нижестоящим лицам[202]. То есть Василий III, используя татарскую лексику, пытался утвердить себя по отношению к татарской знати в статусе, равном ханскому!
Однако в глазах татар этого статуса он так и не смог достичь: ни разу ни в одной грамоте татары не назвали его «вольным человеком» — это высшее на Востоке определение полагалось лишь для крымского хана. В глазах наследников Золотой Орды русские все равно были им не ровня. Их уже нельзя было нагнуть, как во времена ига, но еще было можно презирать — как холопов, случайно освободившихся от зависимости от более высокоразвитых господ. Такими глазами смотрели из Бахчисарая на Москву.
16 сентября 1518 года Василий III отправил в Крым очередной проект договора — шертной грамоты. Основной его смысл заключался в установлении единой русско-крымской политики по отношению к Великому княжеству Литовскому и Астрахани[203]. В основном он повторял проект договора 1515 года с незначительными изменениями. Часть из них касалась предоставления Крымом гарантий уважительного отношения к послам. Эта поправка была порождена печальной судьбой посольства И. Г. Мамонова, которое страшно унижали и оскорбляли, а сам Мамонов так и умер под Перекопом 12 июня 1516 года.
Принимающая сторона, согласно посольскому этикету, полностью брала на себя обязанность содержать посольство, кормить его и обеспечивать всем необходимым. Поскольку, как правило, власти ограничивали контакты иноземных дипломатов с местным населением (во избежание шпионажа), то послы оказывались в полной зависимости от хозяев, они не могли даже купить себе еды. Открывался широкий простор для злоупотреблений, мелких унижений и оскорблений: прислать некачественную пищу, в пост прислать мяса, дать пересоленную еду и т. д. На Руси практиковали спаивание посольств, когда количество спиртного, причем низкого качества, превышало количество закусок. Если посольство было неудачным, его могли позвать на обед и выставить на стол пустые блюда: мол, вы вели пустые разговоры — теперь кушайте, гости дорогие…
Особым видом унижений было заставить дипломата соблюдать местные оскорбительные обряды. Для русских послов в Крыму это был обычай порога, восходящий еще к древним монгольским ритуалам XIII века[204]. Вход в Посольский зал Бахчисарайского дворца охранялся людьми с посохами, которые строго следили — гость должен перешагнуть через порог, а не наступить на него. Вера в то, что стояние на пороге является оскорблением Бога и грозит бедствиями дому, восходило еще к эпохе интенсивных китайско-монгольских контактов (китайцы верили, что в пороге живет бог земли Ту-шень). В верованиях тюрок порог — место, через которое в дом текут счастье и благополучие. Поэтому наступив на порог, можно этот поток перебить. Стража просто перегораживала послу посохами путь и требовала особых денег за право переступить порог. Мамонова так держали больше часу. Когда же он, отчаявшись, решил отказаться от встречи с ханом и повернул назад — назад его тоже не пустили. Так и топтался русский посол на пороге под насмешки татар… С тех пор во все договоры с Крымом Россия обязательно включала пункт, что «посошную пошлину» не платить.
Мамонов мог не платить, если бы произнес слова «баш устенды», в русском переводе XVI века — «царево слово на голове держу» (в современном русском языке наиболее точно это можно передать выражением: «повинуюсь»). Собственно, татары, размахивая посохами, добивались от него не денег, а именно этих слов. «Баш устенды» говорили вассалы хана, и если бы русский посол произнес эти слова — это бы означало, что он и его государь, Василий III признают вассальную зависимость России от Крыма. Поэтому Мамонов стоял насмерть: «Пусть я без языка буду, а такого не скажу». И дипломат отстоял честь своего государя, татары отступились, поняв, что он не шутит и в самом деле скорее отрежет себе язык…
Русские дипломаты, в свою очередь, требовали от татарских послов, приезжавших в Москву, «снимать колпак», то есть разматывать чалму и обнажать голову перед Василием III — вещь, совершенно немыслимая для мусульманина. Но отказ снимать чалму на Руси воспринимали как нежелание обнажать голову перед государем — и русский посол в качестве «симметричного ответа», прибыв в Бахчисарай, падал перед ханом на колени, не снимая шапки, чем повергал того в совершеннейшее изумление. Посольские книги содержат страницы переписки по поводу «колпака» — снимать его или нет[205].
Ну а самой радикальной разновидностью унижения были прямые оскорбления и физическое насилие. По выражению В. Е. Сыроечковского, при ханском дворе имели место факты «ничем не прикрытой дикости»[206]. Посла могли прямо во дворе хана поколотить, гоняться за ним с плетью, сбить с ног. Мелкие тычки, толчки и обиды, хамство, грубость, словесные оскорбления (особо обидные из-за незнания языка) были рядовым явлением. Чтобы быть послом в ставку хана, требовалось немалое мужество. Тем более что татары практиковали задержку послов — их не арестовывали, но и не давали уехать домой. При Василии III особо вопиющих случаев не было, а при Иване Грозном русский резидент Афанасий Нагой насильно проведет в Крыму девять лет (1563–1572). Сохранился целый том его переписки с Москвой — не потерявший присутствия духа дипломат работал разведчиком, исправно слал в Москву донесения и т. д.
Вот с этими проявлениями мелочного восточного самоутверждения через унижение послов и пытался бороться Василий III, предложив в 1518 году новый вариант договора. Кроме того, договор учитывал некоторые территориальные изменения, произошедшие по сравнению с предыдущим проектом договора 1515 года (в 1516 году умер князь Василий Семенович Стародубский, и теперь Василий III запрещал татарам «вступаться» в его бывшие владения — Стародуб, Чернигов, Почап и Гомель, которые отошли под власть Москвы). Василий III соглашался на совместное участие в военной акции против Астрахани и на передачу крымскому хану части земель князя Василия Семеновича Стародубского. В ответ хан брал на себя обязательство помогать России в ее военном противостоянии с Великим княжеством Литовским. В договоре также был урегулирован ряд экономических вопросов: о платежах устаревших пошлин, корнями уходивших еще в ордынскую эпоху (их просто отменили), о юрисдикции в отношении купцов и т. д.
В целом, думается, верна оценка А. Л. Хорошкевич договора 1518 года как крупной дипломатической победы Руси[207]. Василий III утвердил его в Москве 1 мая 1519 года. Формуляр договора лег в основу всех последующих русско-крымских соглашений в XVI веке. Другое дело, что и этот альянс остался только на бумаге. Василий III так и не пошел на Астрахань, а Мухаммед-Гирей время от времени воевал земли Литвы исключительно в собственных интересах, поскольку нападать на них было легче и прибыльнее, чем на Московскую Русь.
Тем временем в Поволжье происходили серьезные перемены. В 1519 году к низовьям Волги с востока вышли кочевники нового политического образования — Казацкой Орды. Они потеснили ногаев, и те перед лицом новой опасности предпочли объединиться с Астраханским ханством. Этот шаг убрал Ногайскую Орду из числа потенциальных участников нападения на Астрахань. Но не просто убрал — благодаря союзу с ногаями военный потенциал Астраханского ханства вырос в несколько раз и оно превратилось в более серьезного противника.
В 1519 году умер казанский хан Мухаммед-Эмин, что резко обострило русско-крымские отношения: обе стороны пытались посадить на казанский трон своего марионеточного хана и рассорились именно на этой почве.
Наконец, в 1520 году претензии на территориальный передел региона неожиданно заявила Турция (где в конце 1520 года также сменилась власть — умер султан Селим и на престол вступил Сулейман Великолепный). Летом три турецких военных корабля вошли в устье реки Дон. Командующий отрядом Синан-ага начал переговоры о разграничении зон ответственности России и Турции по обеспечению безопасности плывущих по Дону русских и турецких послов. Москва была готова отвечать за участок бассейна Дона до места впадения в него Хопра или Медведицы. Турция же получила зону ответственности до Переволоки — места, где Дон ближе всего подходит к Волге (сегодня здесь прорыт Волго-Донской канал). Тем самым она получила возможность переброски своего флота не только по Дону, но и в бассейн Волги.
На фоне этих перемен проблема участия России в завоевании Астрахани поблекла, точнее, рассматривалась уже немного по-другому. Узел восточных противоречий потихоньку затягивался, и оставалось все меньше надежд, что его удастся развязать мирным путем.
Несмотря на все попытки втянуть его в антитурецкую лигу, Василий III старался сохранить хорошие отношения с Турцией. Причин тому имелось несколько. Во-первых, у России с Турцией не было таких противоречий, как с Великим княжеством Литовским и Крымским ханством. Делить было особо нечего. А воевать за абстрактные принципы, да еще и в чужих интересах, Василий III совершенно не хотел. Хватало других проблем.
Во-вторых, на территории Османской империи располагались святыни Православного Востока, целый ряд монастырей. Русский государь был их покровителем и защитником. Для этого лучше жить в мире с султаном, который не препятствовал контактам православных обителей и иерархов с далекой Москвой.
В-третьих, вассалом Турции был Крым. Сохранялась надежда, что если дружить с султаном, то он сможет в критической ситуации одернуть хана. Если не прямо заступиться за Русь, то по крайней мере повлиять на ситуацию и смирить амбиции Бахчисарая. В случае же конфронтации султан как раз через крымского хана мог доставить России массу неприятностей. Дружба с Турцией просто была выгоднее.
В-четвертых, политическая культура Османской империи очень сильно отличалась от российской, но именно это обстоятельство и делало ее удобным партнером. Султан полагал себя вознесенным на неизмеримую высоту. Любое обращение к его двору иноземного правителя расценивалось как автоматическое попадание его в зависимость: кто первым обращается, тот и просит одолжения, милостей султана, а значит, заведомо стоит ниже на политической лестнице. Поэтому Турция сквозь пальцы смотрела на болезненный для Василия III вопрос о титуле. Туркам было попросту все равно, как себя называет правитель далекой Московии. Россию это тоже устраивало, так как позволяло избегать таких неприятных и унизительных ситуаций, которые имели место в отношениях с Литвой и Крымом.
Турецкие дипломаты и сами не жалели высоких титулов и определений, обращаясь к Василию III. В грамоте, привезенной от султана в ноябре 1532 года гонцом Ахматом, он назывался «государем государь», «великий государь начал ной», «царь царем», «светлость кралевства» и даже «великий гамаюн»{6}[208]. Подобная пышность присутствует и в грамоте от султана от апреля 1544 года, где сын Василия III Иван IV назван «над цари царь» и «над короли король», «великий царь Московский» (хотя венчания на царство еще не было)[209].
Царский титул в начале XVI века вовсю использовался иерархами Православного Востока, выпрашивающими у Москвы милостыню и содержание. Они надеялись добиться щедрости Москвы пышностью и высоким стилем обращения: «Господину и цару и въсой Белой Руси и иным многим землям» (1508)[210], «Благовернеиши и наияснеиши, и о Христе Боже царю крепчаишии всеа земли Русскиа, и иже о окиане множества язык» (1516)[211]. Несомненно, что эти высокие определения влияли на язык турецких дипломатов. Подобная легкость утверждения царской титулатуры придавала приятный оттенок русско-турецким отношениям и вызывала у Василия III явную симпатию по отношению к Османской империи.
Европейцы болезненно воспринимали дружественные отношения России и Турции, видя в родстве этих стран — как потенциальных агрессоров и антихристианских варваров — угрозу Европе. Сигизмунд Герберштейн поместил в своем сочинении особый рисунок, поясняющий европейцам, как выглядят грамоты правителей Московии: «Свои титулы они издавна писали в трех кругах, заключенных в треугольник. Первый из них, верхний, содержал следующие слова: „Наш Бог — Троица, пребывавшая прежде всех век, — Отец, Сын и Дух Святый, но не три бога, а один Бог по существу“. Во втором был титул императора турок с прибавлением: „Нашему любезному брату“. В третьем — титул великого князя московского, где он объявлял себя царем, наследником и господином всей восточной и южной Руссии»[212].
В данном отрывке наглядно видно, как Герберштейн (автор идеи отождествления для Европы «турецкой» и «русской опасности»), видимо, державший в руках какую-то грамоту Василия III в Турцию, акцентировал внимание на братстве султана и московского государя и даже на включении правителем России в написание своего титула титулатуры властелина Османской империи. Тем самым для европейского читателя должен был быть сделан совершенно однозначный вывод о политическом родстве России и Турции, в чем заключалась одна из главных идей труда Герберштейна. Причем Герберштейн одним из первых также предложил трактовку императорского титула русского правителя как указание на его агрессивные планы, как свидетельство того, что он хочет расширить свою державу за счет завоевания соседних стран и сравняться по величию и могуществу с турецким султаном и императором Священной Римской империи[213].
Россия и Турция при Василии III поддерживали регулярные дипломатические отношения. В 1512 году в Турцию поехал великокняжеский посол М. Ивашков поздравлять султана Селима со вступлением на престол. При дворе его приняли благосклонно. В мае 1514 года Василий III принимал ответный визит в Москву посла Кемаль-бека. Отношения между двумя державами стали налаживаться исключительно в приятной сфере: Кемаль-бек провел переговоры о торговле и просил выпустить из заточения мусульманина Абдул-Латифа. Василий III охотно поддержал разговор о торговле, но от освободительной акции отказался. Что, впрочем, у турецкого посла не вызвало особого раздражения. С ответным визитом в Стамбул отправился В. А. Коробов. Он вез ответную просьбу Василия III: пусть султан «удержит» крымского хана от нападения на Русь. Коробов сумел добиться запрета работорговли русскими людьми в Азове (если выяснялось, что невольник — подданный Московского государства, его должны были отпустить). Это правило не распространялось на донских и азовских казаков, которые не являлись подданными Москвы — напротив, их разрешалось «вешать» как разбойников. Были урегулированы торговые вопросы. Благожелательный тон турецких дипломатов, рассыпавшихся в цветистых восточных комплиментах в адрес Василия III, позволил русской посольской службе объявить, что по результатам миссии Коробова султан к Василию III «в дружбе и братстве учинился»[214].
Лояльная позиция Турции позволила России в 1515 году восстановить отношения с Константинопольской патриархией. Василий III послал патриарху список своих «прародителей» для поминания. Другой аналогичный список был отправлен Василию Копыле в Святую Гору, в Афонские монастыри, вместе с богатыми подарками — иконами, «рыбьим зубом» и т. д. В 1516 году к султану отправился очередной гонец — Д. Степанов, но он был убит на Дону в стычке с татарами.
В 1519 году с заверениями в дружбе в Стамбул уехал посол Б. А. Голохвастов. В этом году обострилась ситуация вокруг казанского престола, осложнились отношения с Крымом. И поддержка или хотя бы нейтралитет Турции не помешали бы. Миссия Голохвастова была, как и многие миссии русских послов в Турции, никакой: стороны рассыпались друг перед другом в заверениях дружбы и взаимной симпатии, но никаких практических обязательств на себя брать не стали.
Отношения с Казанью после конфликта в начале правления Василия III были урегулированы соглашением 1508 года. Мухаммед-Эмин принес присягу московскому государю. Визит в 1510–1511 годах крымской царицы Нур-Салтан к своим сыновьям, Мухаммед-Эмину и Абдул-Латифу, также способствовал улучшению отношений. В результате этой дипломатической акции казанский хан согласился для закрепления мирных отношений с Москвой принести новую присягу (шерть) Василию III. Здесь, правда, государь сперва промахнулся: Мухаммед-Эмин не стал присягать на грамоте, привезенной зимой 1511/12 года посольством И. Г. Морозова и дьяка А. Харламова. Вместо него от имени хана присягнул бакшей — переводчик. Хана не устроил низкий уровень посольства: он клянется в верности, а тут такое пренебрежение… Василий III, которому в 1512 году было явно не до Казани, все же осознал, что запускать казанский вопрос нельзя, и послал с миссией конюшего И. А. Челяднина. Это удовлетворило Мухаммед-Эмина. Он счел проявленное уважение достаточным и в феврале 1512 года принес личную присягу и дал гарантии верности Василию III[215].
Многие политические проблемы связаны с тем, что человек не вечен. Четыре года Казань ничем плохим не напоминала о себе. Но в 1516 году пред очами Василия III предстали послы Шаусеин-Сеит и Шайсуп с известием, что Мухаммед-Эмин болен. Умрет он, конечно, не завтра, но послезавтра — наверняка, и надо задуматься о преемнике. Идеальная кандидатура — несчастный брат Мухаммед-Эмина Абдул-Латиф, который в благодарность за то, что его выпустят из тюрьмы и посадят на казанский престол, станет лоялен Москве. Казанская знать в случае удовлетворения их просьбы, в свою очередь, берется следить за своим правителем и сделать ханство «неотступным» от России.
Поразмыслив, Василий III согласился на эти условия. Казалось, что он ничего не терял — сохранялась та же модель полувассальных отношений с Казанью, что установилась с 1487 года. В Казань отправилось посольство М. В. Тучкова, Н. И. Карпова и дьяка И. Телешова. Они привели казанскую знать к присяге. После чего Василий III приказал выпустить Абдул-Латифа и даже дал ему в кормление Каширу. Здесь бывший опальный должен был дожидаться смерти своего брата, чтобы занять казанский трон.
Жизнь в тюрьме притупила политические инстинкты Абдул-Латифа, а может, их никогда и не было. Так или иначе, он пал жертвой придворных интриг. Абдул-Латиф явился на охоту к великому князю с боевым оружием, что сочли подготовкой к покушению на Василия III. Татарского царевича оболгали, обвинив в намерении убить государя, арестовали и отправили в Серпухов, где тюремщик М. Ю. Захарьин напоил его вином «за благополучие государя». От такого тоста отказаться было нельзя, тем более обвиненному в государственной измене. Татарин выпил и умер — вино оказалось отравлено.
В этой злодейской истории (подробности которой мы воспроизводим по рассказу все того же вездесущего и всезнающего Герберштейна) неясно одно: кому и зачем понадобилось травить Абдул-Латифа? Его кандидатура устраивала и Казань, и Крым, и даже далекую Турцию. Местная знать была на его стороне. Очевидно, что никто не мог всерьез рассматривать каширского кормленщика как заговорщика. Убийство вчерашнего узника описано в излюбленном Герберштейном стиле: «Василий III как концентрация вселенского зла». Это немотивированное, по пустяшному, абсурдному поводу изощренное злодеяние обставлено очень театрально (яд в чаше, которую заставляют пить за здоровье государя). Мне вся история представляется темной — от смерти Абдул-Латифа Василий III проигрывал куда больше, чем выигрывал. А великий князь не был похож на истерика, способного казнить татарского царевича лишь за то, что тот появился при дворе с боевым оружием.
Конечно, существует самое простое объяснение: у Василия III имелся свой кандидат на казанский престол — царевич Шигалей. Но для поддержки кандидатуры Шигалея и провала Абдул-Латифа вовсе не требовалось пафосно выпускать последнего из тюрьмы, а затем театрально убивать. Его вообще не надо было травить — Василий III мог просто отказать казанским челобитчикам. Абдул-Латифа могли в том или ином виде оставить под арестом, тюремным или домашним. Но убийство было глупостью — оно настраивало против Василия III и Шигалея всех. А глупцом Василий III не был.
После смерти Абдул-Латифа Василий III выдвинул на престол свою кандидатуру — царевича Шигалея. Но проблема заключалась в том, что это была кандидатура, навязанная Москвой и в силу этого встретившая сопротивление казанской знати. На Шигалея без симпатии смотрели и в Бахчисарае, и в Стамбуле. К тому же в 1518 году ему было 13 лет — то есть на престол откровенно предлагалась марионетка. В ставке на него был очевидный политический просчет Василия III.
29 декабря 1518 года казанское посольство привезло в Москву известие о смерти Мухаммед-Эмина. Казанцы просили «дать им царя». Такое же посольство от другой группировки казанской знати поехало в Крым. Мухаммед-Гирей рассчитывал передать трон своему брату Сагиб-Гирею, однако его отвлекли распри с местной знатью (князьями Ширинами), и он просто не нашел времени вплотную заняться казанским вопросом. Василий III оказался расторопнее — уже 6 января 1519 года в Казань отправилось посольство М. Ю. Захарьина и дьяка Ивана Телешова. Они провели переговоры с татарской аристократией и убедили их принять кандидатуру Шигалея. 1 марта Казань присягнула Василию III, 8 марта туда выехал Шигалей, который и сел на престол в апреле, когда вся Казанская земля была приведена к присяге новому правителю. Герберштейн, как обычно, дал крайне «доброжелательную» характеристику ставленнику Василия III: это был человек «безобразного и слабого сложения… с выдающимся брюхом, с редкою бородою и почти женским лицом», трус, жадина, лицемер и злодей.
Шигалей был по определению неудачной кандидатурой в силу своего происхождения. Он был сыном касимовского царевича Шейх-Аулияра, держателя Городца, род которого восходил к астраханским ханам. То есть Василий III отдал Казань родственнику злейших врагов Мухаммед-Гирея, с которым только что договорился вместе воевать против этих самых родственников. Этого обстоятельства при дворе Василия III почему-то не учли, а оно буквально взбесило Мухаммед-Гирея. Получалось, что русский государь лицемер: говорит одно, а делает другое. К тому же дипломаты Василия III интриговали в Крыму, пытаясь сколотить оппозицию знати против крымского хана, обзавестись там, если можно так выразиться, «своим Шигалеем». В декабре 1516 года они склоняли к бегству на Русь брата Мухаммед-Гирея Ахмата, обещая ему в пожалование Городец. В 1518 году Городец обещали передать уже сыну Ахмата Геммету. В 1519 году Ахмат был убит в Крыму. Тогда Василий III сулит дать Геммету на выбор Мещеру или Каширу. Все эти подковерные маневры не способствовали улучшению отношений с крымским правительством.
В июле 1519 года наконец-то сработал русско-крымский союз — Россия и Крым одновременно нанесли военный удар по Великому княжеству Литовскому. Василий III рассчитывал, что эта акция сделает Сигизмунда I сговорчивее, побудит сесть за стол переговоров и признать потерю Смоленска. Он не учел того, что Крым тоже стремился извлечь из ситуации максимальную выгоду. В конце 1519 года Мухаммед-Гирей вступил в долгие переговоры с Сигизмундом, которые привели к заключению мира и военного союза 25 октября 1520 года. Причем теперь Крым обещал напасть на Россию совместно с Литвой. «Крымский аукцион» работал вовсю, и Василий III здесь проигрывал: заключенные альянсы оказывались ненадежными, нейтрализовать противников, а тем более стравить их друг с другом никак не удавалось.
Видимо, последним жестом, призванным умилостивить Мухаммед-Гирея и добиться хороших отношений с Крымом, было выступление русских войск в поход на Астрахань летом 1520 года. Василий III выделил для этого судовое ополчение семи городов, то есть несколько десятков судов. Командовал флотилией князь И. А. Булгаков. Параллельно кораблям по берегу шла конница под началом Ивана Ушатого. Известно, что рать двинулась в направлении на Казань, но дальше следы ее теряются. По всей видимости, ни флотилия, ни конное войско до Астрахани просто не добрались. Вряд ли это был сознательный саботаж: русская армия со времен средневековья растеряла опыт дальних походов на сотни километров по чужой, незнаемой земле. И преодолеть трудности на пути к Астрахани — который занимал почти 1500 километров — войско Булгакова не смогло.
Будучи подростком, очень сложно удержать власть над взрослыми, искушенными в интригах людьми. Командовать полком в 16 лет красиво в литературных легендах, на практике это оборачивается немотивированной юношеской жестокостью. Шигалей, вступивший на казанский престол в 13 лет, исключением не был. Он не справился с борьбой различных группировок казанской знати и приказал просто репрессировать неугодных. В итоге в тюрьме и на плахе оказались представители татарской аристократии, сочувствовавшие крымским Гиреям. Еще в августе 1520 года последовало тайное обращение казанцев к крымскому хану с просьбой прислать им на престол кого-нибудь из Гиреев. Весной 1521 года просьба повторилась. В мае через Азов в Казань проследовал Сагиб-Гирей с тремястами спутниками. Столь малый размер свиты указывает на то, что крымский ставленник был абсолютно уверен в своих силах.
Сторонники Шигалея и его русские советники были вырезаны. Самого марионеточного хана в одной нательной рубахе с тридцатью спутниками выгнали в чистое поле. Его спасли от голода и унижений касимовские казаки, подобравшие продрогшего и заплаканного подростка на берегу Волги. Легенда гласит, что беглеца вообще нашли русские рыбаки, которые, узнав о перевороте в Казани, побросали лодки и сети в воду, подхватили Шигалея и кинулись бежать, «не знаючи, куда очи несут». Они плутали в диких приволжских лесах, питались падалью, ягодами и травой и еле-еле полуголые, в изорванных одеждах доползли до русской границы, где их встретили русские дворяне с одеждой, едой и питьем. Когда Шигалея привезли в Москву, Василий III «от радости не може усидеть в палате своей»; он встретил юношу на лестнице, обнял его и плакал. А затем, взявшись за руки, Василий III и Шигалей трогательной парой пошли в палаты…
Конечно, данный рассказ — выдумка, на самом деле все было не столь драматично. Но Василий III действительно оказался благодарным политиком: Шигалей был обласкан, в столице ему устроили торжественную встречу. Он получил в кормление Каширу и Серпухов. Его заверили, что Казань никуда не денется и он еще ступит на площадь перед ханским дворцом, сядет на трон и расправится со всеми своими недругами и обидчиками.
Пока подросток Шигалей приходил в себя в окружении московских друзей, смута в Казани продолжалась. Последовательность событий выясняется не без затруднений. Татарские летописцы противопоставляют безобразному уроду и злодею Шигалею доброго, мудрого и прекрасного Сагиб-Гирея: «Он был красив лицом — совершенное полнолуние, льющее свет в созвездии миловидности»[216]. Автор Пафнутьевского летописца сообщает, что новый хан изначально не хотел ссориться с Россией и даже направил в Москву послов с изъявлением дружбы. Однако почти сразу же после переворота, в мае 1521 года, начались нападения казанских татар и черемисов на Унженскую волость. Не очень понятно, кто был инициатором этих военных акций: Сагиб-Гирей вроде бы как не хотел обострять отношений с Москвой; в то же время татарская знать обвиняла в этих нападениях именно его: «…посылал их на великого князя украину без их ведома». Если верить Пафнутьевскому летописцу, это вызвало даже смещение Сагиб-Гирея и замену его другим крымским ставленником, Саадат-Гиреем.
Между тем точку в казанском вопросе намеревался поставить крымский хан Мухаммед-Гирей. Он провел интенсивные переговоры с Турцией и Астраханью с целью привлечения их к антирусской коалиции, но не преуспел в этом. В июне 1521 года, так и не собрав союзные войска (исключая небольшие отряды ногаев), Мухаммед-Гирей выступил в поход на Русь. 28 июня татары перешли Оку. Похоже, что ни сам хан, ни его противники не ожидали столь стремительного развития событий. Татары сбили заслон из русских войск под Серпуховом и, к собственному изумлению, вышли на прямую дорогу на Москву. Между ними и столицей никаких полков не было. Татары даже слегка ошалели от безнаказанности, с которой они грабили и жгли одну деревню за другой (а вокруг Москвы плотность сельских населенных пунктов была такова, что, как говорили современники, из одной деревни до другой можно было докричаться). Такой прорыв в глубинные, незащищенные русские территории случился впервые за последнюю сотню лет.
Население в панике бежало. Василий III перед лицом опасности проявил малодушие. Он бросил Москву, оставив оборонять ее своего шурина Петра, бывшего татарского царевича Кудайкула, — мол, он татарин, пусть со своими соплеменниками и разбирается. Сам Василий III бежал в Волоколамск. Если верить Герберштейну, в испуге он пытался спрятаться под Волоколамском в стоге сена.
Москву оборонять было некому. Ужас и страх перед врагом были по всей Руси. Даже в далекой Псковской земле привели в боевую готовность войска в псковском пригороде Воронич: вдруг татары доберутся и сюда. Стоявшие во главе русской армии князья Д. Ф. Бельский, В. В. Шуйский и И. М. Воротынский пытались собрать войска под Серпуховом, но просто не знали, что делать и куда выступать. Мухаммед-Гирей же действовал стремительно. Татары сожгли Угрешский монастырь, посады Каширы и Коломны, дошли до знаменитого подмосковного села Воробьева, где отметили победу разграблением великокняжеских винных погребов. Особый психологический эффект произвел захват татарами «поезда» из подвод, на которых из Москвы эвакуировались боярские семьи. Судьба боярских жен и дочерей очевидна и трагична. Детей же, в том числе грудных (летопись упоминает о 150 младенцах), просто разбросали по ближайшему лесу. Тех, кто выжил, потом собирала специально посланная Василием III воинская команда…
Василий III не видел иного выхода, как полная капитуляция. Он выдал Мухаммед-Гирею кабальную грамоту, в которой обязывался быть данником татарам, какими были его предки, вновь платить ненавистный «выход». Мухаммед-Гирей переживал триумф: он опять поставил Русь на колени, восстановил былые времена владычества Великой Орды над своими исконными рабами, князьями московскими! 12 августа хан снял осаду Москвы и пошел обратно в Крым.
Неизвестно, как повернулись бы события дальше, — всерьез ли собирался Василий III платить дань или это был жест отчаяния в минуту слабости: согласиться на все, лишь бы татары ушли, и уже потом разбираться с вековечным врагом. Но история распорядилась иначе. На обратном пути Мухаммед-Гирей решил взять еще полона и осадил Рязань, подвернувшуюся по дороге.
Рязанское княжество сохраняло остатки независимости, имело своего князя, но фактически полностью находилось в орбите московской политики. Как ни парадоксально это звучит, но главными сторонниками его независимости были крымцы и литовцы, которых устраивало существование номинально самостоятельного слабого государства в буферной зоне между тремя державами. Если бы оно оказалось под властью Москвы, позиции последней в пограничье резко бы усилились. Впрочем, часть рязанских земель к этому времени все равно контролировалась государственным центром. При приближении врагов рязанский князь Иван Иванович в ночь с 28 на 29 июля бежал в Литву, бросив город на произвол судьбы. Однако за оружие взялись простые горожане во главе с московским воеводой князем Иваном Хабаром Симским. Мухаммед-Гирей не хотел увязнуть под Рязанью в долгих штурмах. Сперва он надеялся захватить город обманом во время обмена пленными, но гарнизон был начеку. Тогда хан пошел юридическим путем — стал укорять Хабара, что его господин, Василий III, уже покорился Великой Орде, и, значит, он, воевода Хабар, — бунтовщик против воли великого князя! Хабар изъявил желание ознакомиться с документом: мол, он не верит, чтобы Василий III мог написать такое. Мухаммед-Гирей послал грамоту в Рязань, а Хабар ее уничтожил. По войску противника с крепостной башни ударили пушки, которыми командовал немецкий пушкарь Иордан.
Взбешенный Мухаммед-Гирей оказался перед сложным выбором. По-хорошему, наглецов требовалось наказать, город сжечь, Хабара казнить. Но каждый день штурма грозил осложнениями. А вдруг подойдет московское войско? Можно было потерять весь полон и всю добычу, захваченную под Москвой. К тому же до хана дошел слух о волнениях среди ногаев и в Астраханском ханстве. Нужно было срочно решать проблемы на юге, а не ровнять с землей строптивый русский город. И татары пошли прочь от Рязани. Хабар не только выиграл противостояние, но и смог уничтожить кабальную грамоту Василия III, выданную в минуту слабости. Катастрофа 1521 года неожиданно обернулась посрамлением хана.
Пришедшему в себя Василию III оставалось только воздать всем по заслугам. Иван Хабар получил боярский чин. Рязанский князь Иван Иванович был признан изменником, трусливо бросившим город перед лицом опасности и недостойным великого княжения Рязанского. Иван Иванович так и умрет в эмиграции в Литве около 1534 года, справедливо полагая, что на Русь ему возвращаться опасно. Рязанское княжество было ликвидировано и окончательно присоединено к Московскому государству.
Довольно долго разбирались, как наказать воевод, пропустивших врага к Москве. Большие воеводы сперва свалили всю вину на самого молодого, князя Д. Ф. Бельского. Но Василий III, вспомнив о собственной душевной слабости, простил его «по малолетству». Зато в тюрьме оказался один из знатных воевод, И. М. Воротынский. В опалу попал и князь В. В. Шуйский. Их заподозрили в измене, что они «умыслом» не оказали сопротивления татарам. Шуйский был вынужден дать крестоцеловальную запись на верность московскому государю.
1520-е годы характеризовались перетасовкой главных фигур восточной политики, из которых неизменной осталась только персона самого Василия III. Мухаммед-Гирей в декабре 1522 года в союзе с ногаями наконец-то взял Астрахань. Но хану фатально не везло с закреплением победных результатов. Если в 1521 году ему все испортили воевода Хабар и упрямая Рязань, то теперь — его собственный союзник ногайский мурза Агиш. Ему в случае победы обещали астраханский престол, но, как водится, после взятия города об обещанном сразу же забыли. Обиженный Агиш с другим ногайским мурзой, Мамаем, собрал отряд и напал на Мухаммед-Гирея. В бою погибли сам крымский хан и его сын Богатур. Ногайская конница вошла в Крым и разорила полуостров.
Саадат-Гирей вскоре покинул Казань, и туда вернулся Сагиб-Гирей. Саадат-Гирей сел в Крыму. Он понимал, что из-за последних военных похождений Мухаммед-Гирея разговор с Василием III будет крайне непростым. Главное, что на время утратил Крым — фактор военной угрозы. После потерь, которые понесли татары в 1521–1523 годах, крупного военного нашествия на Русь можно было не опасаться. В 1523 году Саадат-Гирей потребовал от России прислать «запрос» в сумме 60 тысяч алтын и замириться с Казанью. Василий III денег не дал, а свое право сажать ханов на казанский престол отстаивал категорически. Крым вынужден был на время проглотить этот ответ: слишком много внутренних проблем стояло перед Саадат-Гиреем.
В 1522–1523 годах Россия и Турция пытались наладить двусторонние дружественные контакты. Русский посол к султану Третьяк Губин добивался «дружбы, братства и любви» для того, чтобы Сулейман «смирял» крымского хана. Султан прислал в ответ в Москву посла Искендера Сакая (Скиндера). Таким образом, дипломатический диалог развивался успешно и сохранялась надежда — Турция не станет фактором осложнения русской восточной политики.
Поэтому Василий III решил взяться за Казань. Приход туда Гиреев совершенно не устраивал Москву. Фактически ханство вышло из-под русского протектората, что расценивалось как измена. В то же время ситуация после 1521 года располагала к активным действиям: Казань временно оказалась в политической изоляции. Турции, Крыму, Астрахани было не до нее. А сами казанцы вели себя вызывающе. С одной стороны, казанский правитель не шел на конфронтацию и по случаю всегда демонстрировал лояльность Москве. С другой — с 1521 года казанские татары постоянно нападали на Нижегородские и Галицкие места. С этим надо было что-то делать. Держать линию обороны еще и по восточному рубежу казалось нереальным. Предотвратить нападения можно было только ликвидировав источник угрозы — саму Казань.
Конфликт вспыхнул весной 1523 года. В Казани был убит русский посол В. Ю. Поджогин. 23 августа Василий III прибыл в Нижний Новгород, где началась подготовка к крупномасштабному походу на Сагиб-Гирея. Под Казань с судовой ратью был отправлен повзрослевший Шигалей. Он сумел договориться с местными мордовскими и черемисскими князьями и привести их к присяге Василию III. После подхода конницы русские выиграли сражение на Отяковом поле на реке Свияге. В устье реки Суры боярин М. Ю. Захарьин и князь В. В. Шуйский поставили опорную крепость — Васильград (позже его стали называть Васильсурском). Это — второй в истории Московской Руси случай наименования города в честь здравствующего правителя (первым был Ивангород в 1492 году). Крепость должна была стать военной базой для нападения на столицу ханства.
Сагиб-Гирей понимал, что ситуация становится угрожающей. Казань никогда не была сильной в военном отношении. Любой удар извне мог обернуться катастрофой. В декабре 1523 года Сагиб-Гирей просил у Крыма пушек и турецкую пехоту — янычар: иначе «против московских воевод стояти не мочно». Аналогичная просьба поступила к султану. Помощи никто не прислал. В мае 1524 года казанский поход начался. Василий III лично в нем не участвовал, поставив во главе войска Шигалея, чтобы придать всей кампании видимость восстановления справедливости — Россия не завоевывает Казань, а помогает вернуть престол законному хану. Военное командование осуществляли лучшие воеводы: И. Ф. Бельский, М. В. Горбатый, М. Ю. Захарьин, И. В. Хабар, М. С. Воронцов. В источниках фигурируют фантастические размеры русской армии — от 150 до 180 тысяч. Столько, несомненно, в дальний поход выступить не могло, но очевидно, что под Казань были стянуты значительные силы.
Правители стран Восточной Европы в эти годы, казалось, соревновались в малодушии. В 1521 году Василий III бросил Москву. В том же году рязанский князь Иван Иванович бросил Рязань и бежал в Литву. А теперь пришел черед дрогнуть татарскому хану. Правитель Казани Сагиб-Гирей, узнав о походе русских войск, уехал в Крым. Там его за трусость посадили в тюрьму. Казанским ханом стал его племянник Сафа-Гирей.
Реконструировать ход боевых действий под Казанью непросто, существует несколько версий развития событий. По упрощенному сценарию, 24 июня русские полки разбили татар в полевом сражении на реке Свияге, после чего пошли под стены Казани. Туда же подоспела судовая рать. Увидев эту армаду под стенами, татары сочли за благо капитулировать и принести присягу на верность Василию III.
Согласно более пространным рассказам, осада была долгой и трудной. Русская армия начала ее по всем правилам искусства, встав лагерем под стенами Казани на Царевом лугу. Воеводы велели построить укрепленный лагерь — острог. 19 июля татары совершили первый безуспешный штурм острога, и затем неоднократно пытались его взять. Вот тут-то и свершилось сражение конных войск на Свияге, где были разбиты две тысячи отборных татар. 7–8 августа произошло еще одно сражение, после которого Казань и сдалась.
«Казанская история» дополняет повествование о походе 1524 года сюжетом о гибели русской судовой рати. Рассказ содержит явно фантастические детали, и неясно, насколько ему можно доверять в целом. Татары якобы сумели запрудить Волгу (!) «в местах островных», и не ожидавшие препятствий, идущие на полном ходу русские корабли стали наскакивать друг на друга и тонуть. В результате вся осадная артиллерия утонула. В течение трех дней на Свияге шел бой с казанцами, их погибло 42 тысячи (вряд ли в Казани вообще когда-либо было столько войска). Когда армия подошла под стены города, выяснилось, что штурмовать нечем: все пушки потонули в Волге. Воеводы «с печалью великой» повели полки обратно на Русь, причем по пути большинство войска перемерло от голода и болезней. Трудно сказать, почему автору «Казанской истории» потребовалось рисовать в общем-то победный поход 1524 года такими черными красками.
Но историю похода еще больше запутывает подробное сообщение Герберштейна. По его версии, 7 июля огромная русская судовая рать засела на волжских островах и стала ждать конницу. Тем временем «московские клевреты» подожгли Казанский кремль, и тот полностью сгорел. Воевода М. Ю. Захарьин почему-то страшно напугался этим обстоятельством и «по страху и малодущию» не стал штурмовать пылающую Казань, а решил дожидаться, пока татары потушат пожар и всё отстроят заново. Для этого он выжидал 28 дней, а потом перешел через Волгу и встал на реке Казанке, где ждал еще 20 дней. Все это время черемисская пехота (откуда она у кочевников?!) совершала набеги (!) на русский лагерь. Это привело к тому, что оказались разорванными все коммуникации с Россией, кончилось продовольствие, начался голод. После неудачной попытки прорыва в Нижний Новгород судовой рати И. Палецкого (погибли 90 судов, а в каждом было по 30 воинов) русская армия вышла на поле близ Свияги и ценой больших потерь заставила отступить татарскую конницу. Только после этого 15 августа начинается правильная осада Казани, которая идет вяло и в конце концов прекращается — по слухам, за взятку, которую татары дали воеводам.
История получается темной и противоречивой. Несомненны только два обстоятельства: во-первых, поход протекал непросто; во-вторых — его общий результат был в пользу России. Правда, непонятно, произошло ли это в результате русского похода или из-за разорительного набега ногаев, которые пришли вслед за русскими и сделали казанскую землю «пусту». 24 ноября 1524 года казанские послы Аппай-улан и Бахты-Кият ударили челом Василию III с просьбой «отдать вину». Татары каялись, просили прощения, клялись в верности и ходатайствовали утвердить на их престоле Сафа-Гирея. Василий III обменял персону хана на экономическую выгоду: он отдал казанский трон представителю дома Гиреев, но взамен потребовал перенести торг из Казани в Нижний Новгород. Этим он обезопасил русских купцов, которые в Казани подвергались постоянному риску, и добился перестановки экономических акцентов: теперь центром торговли на Средней Волге оказывался русский город. Хотя для татар это решение было крайне невыгодным, они смолчали — потому что иначе Василий III не согласился бы на кандидатуру Сафа-Гирея.
В семейных проблемах часто не виноват никто. Правы оба, и от этой правоты бывает особенно тошно. Когда уже нельзя оставить все, как есть. И радикальных шагов предпринимать не хочется, и жить так дальше невмоготу.
Эти невеселые мысли должны были посещать Василия III все чаще. Брак с Соломонией, когда-то казавшийся столь удачным, превратился в огромную жизненную проблему. Неизвестно, желал ли Василий III мысленно своей супруге скорой и безболезненной смерти: все-таки он был христианским государем, а не таким уж кровопивцем и злодеем, каким его рисовал черными красками имперский посол Сигизмунд Герберштейн. Но вряд ли в его голову не приходила мысль о том, что внезапная кончина супруги решила бы все проблемы.
Василий III был женат уже почти 20 лет. А детей не было. В обычных семьях это трагедия. В великокняжеской — катастрофа. Отсутствие наследника грозило смутами, междоусобицами, войнами, распадом страны. Братья умирали холостяками, так и не дождавшись, когда же у Василия III родится сын. И в душе государя поднималась тяжелая, мутная волна гнева: это она, проклятая супруга, во всем виновата! Она бесплодна! На ней порча, проклятие! И этот крест должен нести великий государь, мало ему других проблем!
Оставалось одно — развод. Но по канонам того времени, в случае развода один из супругов должен был уйти в монастырь. Требовалось специальное разрешение со стороны церкви. Но церковь еще ни разу не давала таких разрешений русским великим князьям. Понятно, что все когда-нибудь бывает в первый раз, но при мысли, на что придется пойти, чтобы добиться такого решения, Василию III становилось тоскливо.
А откладывать дальше было нельзя. Ведь сына мало родить. Надо его воспитать, утвердить на престоле, уберечь от охочих до чужого трона родственников. Василий III умирать еще не намеревался, но если учесть, что на воспитание преемника требовалось как минимум 15–20 лет, обзаводиться сыном нужно было срочно.
Проблема была в Соломонии. Она не хотела развода. Хорошей ли женой она была, плохой — неизвестно. Она несколько раз упоминается в летописи как участница придворных церемониалов (похорон, освящений церквей и т. д.). Но другими подробностями частной жизни Василия III и Соломонии мы не располагаем. Ясно одно — бесплодная жена не хотела становиться безропотной жертвой. Ведь в случае развода жизнь для нее заканчивалась. Предстояло пережить погребение заживо в монастырской келье и медленное угасание с горьким чувством, что она не справилась с главным женским предназначением и ее выбраковали из жизни. Стыд, позор, унижение, боль из-за неродившегося ребенка, чувство без вины виноватой…
И Василий III, и Соломония прибегали к понятным и традиционным мерам — богомольным поездкам «чадородия ради». Церковь засыпалась дарами. Но Небеса были неблагосклонны. Василий III в своем благочестии оказался стоек. А вот Соломония решила, что ей терять нечего. Если отвернулся Бог — пусть помогут темные силы… Бедная женщина в порыве отчаяния обратилась к знахаркам, ворожеям, колдуньям. Она не понимала, что ее великокняжеский статус и Кремль как место жительства вряд ли дадут сохранить такие подозрительные контакты в тайне. А может, и понимала, но пустилась во все тяжкие в надежде на единственный шанс.
Сохранился поразительной силы документ — отрывок следственного дела 1525 (7034) года, «сыска о неплодстве», который содержит показания лиц, причастных к похождениям Соломонии по темным московским личностям, колдуньям и чуть ли не ведьмам. Приведем его целиком, поскольку, как говорится, здесь ни прибавить, ни убавить. Это показания Ивана Юрьевича Сабурова, родственника государыни:
«Лета 7034 ноября 23 дня, сказывал Иван: говорила мне великая княгиня: „есть деи жонка Стефанидою зовут, резанка, а ныне на Москве, и ты ее добуди да ко мне пришли“; и яз Стефаниды допытался да и к себе есми во двор позвал, а послал есми ее на двор к великой княгине с своею жонкою с Настею, а та Стефанида и была у великие княгини; и сказывала мне Настя, что Стефанида воду наговаривала и смачивала ею великую княгиню да и смотрела ее на брюхе и сказывала, что у великой княгини детям не быти, а после того пришел яз к великой княгине, и она мне сказала: „Посылал ты ко мне Стефаниду, и она у меня смотрела, а сказала, что у меня детям не быти; а наговаривала мне воду Стефанида и смачиватися велела от того, чтоб князь великий меня любил, а наговаривала мне Стефанида воду в рукомойнике, а велела мне тою водою смачиватись, а коли понесут к великому князю сорочьку и порты и чехол, и она мне велела из рукомойника тою водою смочив руку, да охватывать сорочьку и порты и чехол и иное которое платье белое“; и мы хаживали есмя к великой княгине по сорочьку и по чехол и по иное по что по платье, и великая княгиня развернув сорочьку, или чехол, или иное что платье великого князя, да из того рукомойника и смачивала то платье. Да Иван же сказывал: говорила, господине, мне великая княгиня: „Сказали мне черницу, что она дети знает, а сама безноса, и ты ту черницу добуди“, и яз тое черницы посылал добывати, Горяинком звали детина, а ныне от меня побежал, и он ту черницу привел ко мне на подворье; и та черница наговаривала не помню масло, не помню мед пресной, да и посылала к великой княгине с Настею, а велела ей тем тертися от того ж, чтоб ее князь великий любил, да и детей деля, а опосле того и сам яз к великой княгине пришел, и великая княгиня мне сказывала: „Приносила ко мне от черницы Настя, и яз тем терлася“. К сей памяти яз Иван руку приложил».
На обороте приписка: «Да Иван же говорил: а что ми господине говорити, того мне не испамятовати, сколко ко мне о тех делех жонок и мужиков прихаживало»[217].
Можно себе представить степень отчаяния Соломонии, если она дошла до общения с бабками-сифилитичками с провалившимися носами, позволяла себя трогать грязными руками всяким подозрительным ворожеям. Но какие эмоции могла вызвать вся эта возня у Василия III?! Кому понравится, если жена перед ночью любви надевает на тебя намоченную неизвестно в какой жидкости холодную ночную рубаху и уверяет, что вот теперь-то все и получится? Помимо элементарной брезгливости и отвращения, государь боялся порчи и сглаза, наведения на него черных колдовских чар — а с этим в средневековой Москве было запросто. Обезумевшая в попытках завести ребенка жена, как видно, не сильно разбиралась в знакомствах, и отсюда к Василию III мог подобраться супостат. Возможно, на принятие Василием III окончательного решения развестись повлияла не только политическая необходимость. Его достали мокрые рубахи, таинственные мази и снадобья, каждое из которых могло оказаться смертельно ядовитым.
Решение развестись было, видимо, принято Василием III около 1523 года. 13 марта 1523 года умер Петр, зять Василия III, крещеный татарский царевич, которого, по мнению некоторых исследователей, он видел своим преемником в случае отсутствия детей[218]. В июне 1523 года, накануне казанского похода, завещание Василия III было дополнено особой записью, но в ней ни слова не говорилось о наследнике. Речь шла только об исполнении церковных обетов в случае внезапной смерти великого князя. Формально на престол могли претендовать два оставшихся в живых брата Василия III, Юрий Дмитровский и Андрей Старицкий (именно в такой последовательности).
Где-то в это время, до осени 1523 года, Василию III «бысть кручина о своей великой княгине». Что это означает, неясно. На февраль того же года планировался некий церковный собор о великих делах «духовных и церковных». Но в источниках о нем нет ни слова. Возможно, именно там Василий III собирался потребовать развода с Соломонией. Летописи молчат, был ли созван собор и какой ответ от церковных иерархов получил великий князь. Ясно только, что, если собор и имел место, ответ был отнюдь не положительный.
Осенью 1523 года вопрос о разводе и наследнике был поднят на заседании Боярской думы. Василий III заявил, что его страшит мысль отдать государство братьям — они «своих уделов не умеют устраивать», куда им справиться со всей Русской землей! Летописец изображает дело так, что именно бояре посоветовали государю развестись и найти новую жену: «Неплодную смоковницу посекают и изымают из винограда»[219]. Правда, единодушия в их среде не было. Князь Андрей Курбский позже писал, что развод Василию III «возбранящу» «сигклиты», то есть его первосоветники, члены думы. Против выступили близкие к Василию III церковные деятели Вассиан Патрикеев и Максим Грек, а также церковные иерархи.
Сторонники канона и благочестия не учли одну вещь. Как верно замечено историком А. А. Зиминым, отказав Василию III в попытке завести наследника, государевы доброхоты фактически поддержали в борьбе за престол удельного князя Юрия Дмитровского[220]. А это уже никуда не годилось. Так и до государственного переворота недолго дойти.
Василий III начал подготовку к разводу с супругой фундаментально — в 1523 году он решил построить для ее пострижения специальный монастырь под Москвой. Речь шла о том самом обетном монастыре, который он обещал возвести во время Смоленской войны и о котором вспомнил в дополнении к завещанию 1523 года, написанном по случаю казанского похода. В мае 1524 года началось строительство «за посадом под Воробьевом» нового Девичьего монастыря с церковью Пречистые Богородицы Одигитрия. За год обитель была возведена, оставалось расписать монастырские храмы. Правда, к этому моменту потребность в специальной тюрьме для великой княгини стала уже неактуальной. И сегодня московский Новодевичий монастырь стоит зловещим памятником намерению Василия III.
Наткнувшись на сопротивление своим замыслам со стороны знати и духовенства, Василий III понял главное: надо найти исполнителей. Для всех его придворных настала тестовая ситуация — верны ли они великому князю или каким-то абстрактным принципам?
Особенностью российской политической жизни с древнейших времен является то, что даже насморк может стать политическим преступлением. Василий III все рассчитал верно. Пока Соломония выглядела мученицей и пока государь робко спрашивал у советников и церковных иерархов, можно ли ему развестись, — ничего не выйдет. Надо изобразить Соломонию преступницей, нарушившей законы, пусть непонятно какие, но — очень важные. Надо запустить официальную версию, согласно которой жена сама осознала свою дефектность и попросилась в монастырь, решив избавить супруга от своего присутствия. И нужны верные люди, которые смогут провернуть операцию по пострижению и заточению великой княгини — пусть даже путем насилия.
Низложение Соломонии произошло в ноябре 1525 года (по разным летописям — между 28 и 30 ноября). Был проведен розыск «о неплодстве» (выше цитировался единственный сохранившийся лист следственного дела). Соломония официально была объявлена больной, причем настолько, что сама попросилась принять постриг. Василий III якобы всеми силами противился уходу любимой жены, но когда она в своем челобитье дошла до митрополита Даниила, вынужден был согласиться.
На самом деле все было не столь благостно. Судя по всему, Василий III разыграл карту колдовства, подтвержденного в ходе «сыска о неплодстве». Соломонию осудили за ворожбу и связь с дьявольскими силами. За такие преступления полагался церковный суд, который не взирал бы на личности. Чтобы не выносить сор из избы, Василий III милостиво приказал супругу не судить, а всего лишь заточить в монастырь. Вот при такой постановке вопроса государь мог найти сторонников своего замысла.
Герберштейн описывает довольно-таки мерзкую сцену пострижения Соломонии. Государыня была схвачена и привезена в московский Рождественский что на Рву монастырь. «В монастыре, несмотря на ее слезы и рыдания, митрополит сперва обрезал ей волосы, а затем подал монашеский кукуль, но она не только не дала возложить его на себя, а схватила его, бросила на землю и растоптала ногами. Возмущенный этим недостойным поступком Иоанн Шигона, один из первых советников, не только выразил ей резкое порицание, но и ударил ее плеткой, прибавив: „Неужели ты дерзаешь противиться воле государя? Неужели медлишь исполнить его веление?“ Тогда Саломея спросила его, по чьему приказу он бьет ее. Тот ответил: „По приказу государя“. После этого она, упав духом, громко заявила перед всеми, что надевает кукуль против воли и по принуждению и призывает Бога в мстители столь великой обиды, нанесенной ей».
В этом рассказе, как всегда у Герберштейна, много театральщины и неясностей. Ученые считают, что вряд ли пострижение проводил митрополит лично. Официально Даниил поддержал Василия III, но есть данные, что его многое связывало с Юрием Дмитровским и он воспринимал планы по разводу без восторга. А вот Шигона Поджогин, видимо, в самом деле сыграл какую-то неприглядную роль во всей этой истории. Судя по всему, он перестарался. Василий III сам понимал, что чинит насилие, но бить великую княгиню — это уж чересчур. После декабря 1525 года Шигона на время был удален от двора.
Нет ясности с дальнейшими перипетиями монастырской судьбы инокини Софии, как теперь стали звать Соломонию. Согласно летописному отрывку «О пострижении великой княгини Соломаниды», «к благоверной же великой княгине инокине Софии многие от вельмож и от родственников ее, и княгини и боярыни, начали приходить к ней посещений ради, и многие слезы проливали, смотря на нее и видя, что свершившееся с ней неугодно Богу. Боголюбивую же великую княгиню инокиню Софию о сем скорбь объяла сильная, и начала говорить: „Если бы я желала славы мира сего, то царствовала вместе с царем и государем всея Руси, сейчас же желаю в одиночестве безмолствовать и о государевом здравии молить всещедрого Бога, и да Господь Бог показал милость, отпустил великие мои прегрешения, но отпустил не ради моих великих грехов, не дал Бог государю плода, и все православное христианство и государство осиротело моим неплодием“. И начала молить государя, да повелит ей отойти в обитель Пречистыя Владычица Богородица честного ея Покрова в Богом спасаемый град Суздаль»[221].
Из этого отрывка следует, что в Рождественский монастырь стали идти москвичи с выражением сочувствия Соломонии. Ситуация приобретала оттенок скандала: общество, в том числе знать, осуждало Василия III. Инокиню Софию надо было срочно куда-то девать. Куда — сведения расходятся. Князь Андрей Курбский писал, что Соломонию-Софию сослали в один из каргопольских монастырей. В «Записках о регентстве Елены Глинской» говорится: «Лета 7034 (1525) ноября в 28 день князь великий возложил на великую княгиню Соломониду опалу. И ноября в 29 день великая княгиня Соломония была пострижена в черницы, из-за ее бесплодия, в обители Рождества Пречистые на Рве и наречена была инокиня Софья; и не по многом времени отпустил ее князь великий в Каргополь, и велел ей устроить в лесу келью, отгородив тыном. А была в Каргополе пять лет, и оттуда переведена в девичий Покровский монастырь в Суздале»[222].
История о переселении великой княгини из кремлевского дворца в лесную келью неправдоподобна, потому что в 1526 году комиссия Василия III о греховном поведении инокини Софии, учрежденная из-за слухов о рождении ею в монастыре сына, ездила для разбора дела именно в Суздальский Покровский монастырь. Следовательно, информация о пятилетнем пребывании Софии в Каргополе ошибочна. Но, с другой стороны, в биографии Софии каргопольская ссылка всплывает несколько раз и в независимых источниках. Возможно, позже ее на несколько лет действительно переводили из Суздаля в Каргополь, а потом вернули обратно.
Поступок Василия III вызвал в обществе шок. Причем резонанс от него звучал через многие десятилетия. Сохранился крайне любопытный памятник, озаглавленный «Выпись из святогорские грамоты, что прислана к великому князю Василию Ивановичу о сочетании второго брака и о разлучении первого брака чадородия ради. Творение Паисино, старца Серапонского монастыря»[223]. Ученые датируют его по-разному, от середины XVI до начала XVII века. Сочинение имело популярность в XVII веке, его переписывали, читали. Конечно, это поздняя и предвзятая трактовка событий, содержащая много фактических ошибок и искажений. Но по ней можно судить об эмоциональном эхе, порожденном разводом Василия III, глубоком потрясении русского общества от этого поступка государя.
Повесть начинается с описания духовных метаний Василия III — он советуется со старцем Симонова монастыря, князем-иноком Вассианом Патрикеевым, обращается к четырем вселенским патриархам (Константинопольскому, Иерусалимскому, Александрийскому, Антиохийскому), переписывается с афонскими, молдавскими, румынскими монастырями. Тема одна: ему нужен наследник, и поскольку он не вдовец, путь замены супруги один — развод. Все адресаты выражают горячее сочувствие, подтверждают, что понимают проблему отсутствия наследника — и все запрещают развод и второй брак. Муж с женой венчаются в храме, жена мужу после этого является Богом данной — что же, Василий III хочет пойти против Бога и сам выбирать себе супругу, не считаясь с Господней волей? Разве такой монарх, бунтовщик против Небес, может править православными христианами? Если он расторгнет первый брак и вступит во второй, «то наречется прелюбодей». А что бывает с государствами, во главе которых царь-прелюбодей, даже и подумать больно…
Вассиан Патрикеев сравнил просьбу Василия III с просьбой Саломеи у Ирода главы Иоанна Крестителя. Если он дерзнет на такое, то недостоин будет вступить на церковный порог. Надо всецело предаться воле Бога, это — единственно возможный путь.
Иерусалимский патриарх Марк высказывается прямо: если Василий III решится на развод и родит во втором браке сына, то это будет царь-мучитель, разрушитель государства, грабитель чужих имений: «И наполнится твое царство страсти и печали, и будут в та лета убивания, и муки величествию сарападсийских родов, и юнош нещадение, и ово на кола, а иным усечение главное, и затоцы без милости, и мнози грады огнем попраны будут». Тут, несомненно, автор повести пытался найти ответ на мучивший современников вопрос: как так вышло, что царь Иван Грозный, сын Василия III, вырос тираном и мучителем? «От корня греховного», «от блуда» (которым считался бы неразрешенный церковью второй брак) — это в средневековье объясняло все…
Василий не внял советам церковных мужей, мало того — «исполнился ярости и гнева» на Вассиана Патрикеева и его соратников — Максима Грека, Савву Святогорца, Михаила Медоварцева, обрушил на них опалы и гонения, разослал по монастырским тюрьмам. А митрополит Даниил изменил своему долгу церковного иерарха, благословил неправедные деяния русского государя… Митрополит в повести вообще изображен русским патриотом: прочитав высокоморальные обвинения патриарха Марка, он высказывается кратко, но энергично: сам патриарх тише воды ниже травы живет в стране под нечестивым мусульманским царем, а блажит и поучает нашего великого православного царя. Если верить этому памятнику, окончательное решение о разводе и втором браке было принято на совещании в Александровой слободе, в котором участвовали Василий III, митрополит Даниил, епископ Сарский и Подонский Досифей и архимандрит кремлевского Чудова монастыря Иона. То есть нашлись церковники, пошедшие поперек воли вселенских патриархов и святых старцев…
Примечательно, что это деление церковников на праведных и неправедных и оценка второго брака как блуда по определению встречается в еще одном памятнике публицистики эпохи Ивана Грозного — «Истории о великом князе Московском» Андрея Курбского. Здесь опять необходимо привести пространную цитату из сочинения беглого князя-диссидента:
«Много раз многие умные люди спрашивали меня с большой настойчивостью, как это могло случиться с таким прежде добрым и знаменитым царем (Иваном IV. — А. Ф.), который столько раз ради отечества пренебрегал своим здоровьем, сносил беды, бесчисленные страдания и тяжелый труд в военных предприятиях против врагов Христова креста и пользовался прежде у всех доброй славой. И каждый раз со вздохами и слезами я отмалчивался и не хотел отвечать. В конце концов постоянные расспросы принудили меня кое-что рассказать о том, что же все-таки произошло. И я отвечал им: „Если бы рассказывал я с самого начала и все подробно, много бы пришлось писать о том, как посеял дьявол скверные навыки в добром роде русских князей прежде всего с помощью их злых жен-колдуний. Так ведь было и с царями Израиля, особенно когда брали они жен из других племен“…
Великий князь московский Василий… прожив с первой своей женой Соломонией двадцать шесть лет, он постриг ее в монашество, хотя она не помышляла об этом и не хотела этого, и заточил ее в самый дальний монастырь, находящийся за двести с лишним миль от Москвы, в Каргопольской земле. Итак, он распорядился ребро свое, то есть Богом данную святую и невинную жену, заключить в темницу, крайне тесную и наполненную мраком. А сам женился на Елене, дочери Глинского, хотя и препятствовали ему в этом беззаконии многие святые и добродетельные, не только монахи, но и сенаторы его. Один из них был пустынник Вассиан Патрикеев, по матери родственник великому князю, а по отцу внук литовского князя, который, оставя славу мира сего, поселился в пустыне и проводил свою жизнь в монашестве с такой строгостью и святостью, как некогда знаменитый Антоний Великий. И не сочтет пусть никто за дерзость сказать, что в усердии своем он был подобен Иоанну Крестителю, ведь и тот препятствовал в непозволительном браке царю, совершавшему беззакония. Тот попирал законы Моисея, а этот — Евангелия. А из мирских сановников препятствовал великому князю Семен, по прозванию Курбский, из рода князей смоленских и ярославских…
А вышеназванный князь Василий, великий в основном гордыней и жестокостью, не только не послушался этих великих и знатных людей, но и блаженного Вассиана, своего родственника по крови, приказал схватить и заточить, так что святого человека, связанного, как преступника, отправил в ужасающую темницу — монастырь преступных иосифлян, подобных ему в своей преступности, и велел умертвить немедленной смертью. И они, скорые исполнители его жестокости и потворщики ему во всех его преступлениях, пожалуй, еще и соперники в этом, немедленно умертвили того. А других святых людей — одних подверг он пожизненному заключению (один из них философ Максим, о котором я расскажу позже), других велел убить, их имена я здесь опускаю. А князя Семена навсегда прогнал с глаз долой.
Тогда зачат был наш теперешний Иван, и через попрание закона и похоть родилась жестокость, как сказал об этом Иоанн Златоуст в Слове о злой жене, начало которого: „Когда нам стали теперь известны праведность Иоанна и жестокость Ирода, потряслись утробы, вострепетали сердца, померкло зрение, притупился ум, ослабел слух“»[224].
В подобных оценках для Василия III самым страшным был мотив блуда. Ведь эсхатологические настроения, несколько поутихшие после 1492 года (7000-го от Сотворения мира), никуда не делись. Относительно происхождения и времени появления Антихриста Священное Писание не дает однозначных ответов. Из него явственно следует лишь то, что Антихрист придет перед Вторым пришествием Христа и 42 месяца процарствует на земле, но будет сражен Иисусом, вторично сошедшим на Землю. Однако средневековые теологи (Августин Блаженный, Феодорит Киррский и др.) путем толкований дали развернутую трактовку жизни и деятельности Антихриста. Согласно ряду легенд, он родится от монахини, нарушившей обет безбрачия, или от кровосмешения (инцеста), или от блудницы, лицемерно выдающей себя за девственницу. Или просто от блуда… Царский блуд — каков будет плод от греховного корня? Василию III было чего пугаться. Тем более, как явствует из вышеприведенных современников, интеллектуалы XVI века видели корень российских бед именно в разводе в втором браке несчастного монарха.
Здесь мы подходим к потаенным страницам как биографии Василия III, так и всей нашей истории. Наверное, в 1526 году Василия III не раз посещала мысль о покаянии, о том, что ни одно неблагородное дело не останется без Господней кары. Во всяком случае, повод сетовать на немилость Небес у него был, и какой!
Приведем свидетельство Сигизмунда Герберштейна: «Заточив Саломею в монастырь, государь женился на Елене, дочери [князя] Василия Глинского Слепого, в то время уже покойного, бывшего братом герцога Михаила Глинского, который тогда был в заточении. Вдруг возникла молва, что Саломея беременна и скоро разрешится. Этот слух подтвердили две почтенные женщины, супруги первых советников, казнохранителя [Георгия Малого] и [постельничего] Якова Мазура (Mazur), и уверяли, что они слышали из уст самой Саломеи признание в том, будто она беременна и вскоре родит. Услышав это, государь сильно разгневался и удалил от себя обеих женщин, а одну, супругу Георгия, даже побил за то, что она своевременно не донесла ему об этом. Затем, желая узнать дело с достоверностью, он послал в монастырь, где содержалась Саломея, советника Федора (в другом издании — Дитриха) Рака (?) (Rack, Kackh) и некоего секретаря Потата (Potat), поручив им тщательно расследовать правдивость этого слуха. Во время нашего тогдашнего пребывания в Московии некоторые клятвенно утверждали, что Саломея родила сына по имени Георгий, но никому не пожелала показать ребенка. Мало того, когда к ней были присланы некие лица для расследования истины, она, говорят, ответила им, что они недостойны видеть ребенка, а когда он облечется в величие свое, то отомстит за обиду матери. Некоторые же упорно отрицали, что она родила. Итак, молва гласит об этом происшествии двояко»[225].
Герберштейн записал очередной слух, очерняющий Василия III и живописующий его личную жизнь, наполненную какими-то шекспировскими страстями. Такие слухи (возможно, во многом с подачи того же Герберштейна) циркулировали среди европейских сплетен о тайне рождения Ивана Грозного. В частности, И. Е. Забелин приводит пересказ сочинения некоего немца Гейденсталя (якобы бывавшего в Москве Ивана Грозного): «…когда при Дворе слух промчеся, якобы бывшая царица Соломея в монастыре непраздна и вскоре имеет родити, — царь Василий послал вскоре бояр и двух знатных дам, чтобы прямо освидетельствовали Соломею. Соломея же, егда услышала в Суздаль приезд их, зело убоялася и вышла в церковь в самый алтарь и, взявся за престол рукою, стояла, ожидая к себе посланных; и егда к ней придоша бояре и дамы, просили ее, чтобы она из алтаря к ним вышла. И она к ним выдти не хотела. И егда вопрошена, что имеет ли она быть непраздна, она им на то отвечала, что я со всякою моею надлежащею должностию и честию была царица и перед несчастием своим за несколько времени стала быть непраздна от супруга моего царя Василья Ивановича и уже родила сына Георгия, который ныне от меня отдан хранитца в тайном месте до возрасту его; а где он ныне, о том я вам никак сказать не могу, хотя в том себе и смерть приму. Бояре же уразумели ея неправду и дамы, осмотря ее, что она никогда не была непраздна, возвратились в Москву и обо всем поведали царю Василью, яко то все неправда и обман, и за то она еще далее сослана в ссылку»[226].
Конечно, этих двух сплетен совершенно недостаточно, чтобы доказать реальность беременности инокини Софии. Но сам факт появления подобных сплетен среди современников (Герберштейн именно в это время был в Москве) говорит о том, что в обществе трагедию Соломонии могли мифологизировать в подобном ключе. Здесь налицо все элементы драмы с непременным Божьим наказанием: муж пошел против воли Бога, заточил данную Господом супругу в монастырь как раз тогда, когда она наконец-то забеременела! Такая злая насмешка судьбы. И мать не захотела отдавать мерзавцу ребенка, а хочет вырастить из него мстителя отцу.
Если подобные слухи не порождены воображением Герберштейна, а в самом деле распространялись сочувствующими опальной великой княгине людьми, Василию III было отчего нервничать. В самом деле, не умудрился ли он постричь беременную жену? Неужто он зачал долгожданного наследника? Или же — страшно подумать — Соломония, забеременев неизвестно от кого, таким образом отомстила мужу и теперь будет выдавать своего ребенка за государева сына? Что же будет с династией, с престолом? И вообще, был ли мальчик?! Имперский дипломат называет членами великокняжеской комиссии, посланной в Суздальский Покровский монастырь, Третьяка Ракова и Г. Н. Меньшого Путятина — реально существовавших в это время дьяков. Они были доверенными лицами Василия III и вполне могли быть посланы для выполнения подобного щекотливого поручения. Но насколько это придает достоверность всему рассказу?
Мы могли бы просто отмахнуться от слов Герберштейна (баек и вымысла в его «Записках» предостаточно), если бы не одна в высшей степени странная история. В 1934 году директор Суздальского музея археолог А. Д. Варганов вскрыл в Суздальском Покровском монастыре находившееся рядом с гробницей Соломонии Сабуровой анонимное захоронение под белокаменной плитой. Историк А. Л. Никитин предположил, что раскопки проводились под нажимом местного НКВД: чекисты искали монастырские драгоценности. Но вот неожиданность: в погребении не оказалось трупа. Внутри каменной колоды лежали остатки какой-то одежды, тряпки, металлические нашивки, поясок. Ткани были покрыты темно-коричневыми пятнами, покоробились, сморщились и слежались. Видимо, могилу вскрывали раньше: в ней были обнаружены следы сухой земли.
Благодаря работе реставратора Е. С. Видоновой была реконструирована рубашка для мальчика трех — пяти лет, принадлежавшего к высшему классу общества, из шелковой тафты червчатого цвета с ластовицами, подкладом и подоплекой синего цвета, украшенная серебряными нашивками и остатками жемчужного шитья по воротовому разрезу, рукавам и подолу, вместе с пояском из шемаханского шелка с пряденым серебром и кисточками на концах, по материалу и технике шитья уверенно датируемая первой половиной XVI века[227].
Что же это за могила? Монастырская традиция, да и орнамент на белокаменной плите сближают ее с соседним захоронением «старицы Александры», будто бы сестры Василия III, скончавшейся в 1525 году. То есть с великокняжескими погребениями. В могиле нет никаких следов органики, человеческого захоронения — она изначально была кенотафом, ложной могилой, имитирующей захоронение маленького мальчика, рядом с могилой самой Соломонии.
Объяснений может быть несколько. Первое — этот кенотаф, каково бы ни было его происхождение и предназначение, не имеет к самой Соломонии отношения. Бывшая великая княгиня умерла в 1541 году. Если сделать фантастическое предположение, что перед нами — тайное ложное захоронение, с помощью которого она скрыла от великокняжеских сыщиков своего малолетнего сына (судя по рубашке — около 1530 года), то получается, что потом, спустя 10–11 лет, место упокоения инокини Софии подгоняли под этот кенотаф. Слишком невероятно и попахивает каким-то язычеством. Все это случайные совпадения: мало ли какого ребенка могли похоронить в монастыре.
Второе — мальчик действительно имелся. Он был рожден инокиней Софией (от кого?), через несколько лет была имитирована его смерть, а сам ребенок вывезен из монастыря и спасен. Историк А. Л. Никитин высказал гипотезу, что речь идет о первенце Василия III, который под именем Георгий отравлял жизнь Ивану Грозному в течение всей первой пловины его царствования — царь боялся появления более легитимного наследника на престол. Существует и романтическая сказочная версия, согласно которой этот сын Василия III ушел в разбойники и известен в фольклоре под именем знаменитого Кудеяра-атамана.
Третье — София / Соломония ребенка не родила, но была причастна к распространению слухов о нем (чтобы отомстить Василию III), и пустая могила — часть этих слухов, макет, сделанный для их подтверждения… Мол, мальчик был, но умер, и в этом тоже виноват жестокосердный папаша.
На этот счет можно только гадать и строить версии. Очевидно, что существование некоего ребенка, предположительно сына Василия III, рожденного инокиней Софией в 1526 году в Суздальском Покровском монастыре, недоказуемо. В то же время какая-то интрига, тайна здесь есть. Но она сокрыта во тьме веков, и вряд ли можно надеяться, что мы когда-то узнаем правду.
Во всей этой истории смущает еще и ее продолжение. А именно — Василий III женился. Вторично. А детей в течение долгого времени опять не было.
К выбору невесты государь подошел со всей искушенностью человека, имевшего за плечами двадцатилетний опыт брака. Жениться на ком-либо из своих — княжеских и боярских дочерей — нельзя. Начнется грызня, борьба за право стать царским зятем… Официальное сватовство к иностранным принцессам не устраивало волокитой процесса: только засылка сватов и переговоры дипломатов заняли бы несколько лет. А сына надо рожать сейчас. Значит, должна быть иностранка, но такая, к которой не надо долго свататься — то есть представительница какого-нибудь опального или обнищавшего, но знатного рода. Род должен быть достойным, но его представители не должны иметь возможности мешать Василию III или диктовать ему свою волю — проще говоря, чем меньше родственников, тем лучше. Ну и, конечно, жена должна быть молода, здорова, красива — чтобы как можно быстрее исполнить свое предназначение…
Такая идеальная кандидатура нашлась — иностранка по происхождению, умница, красавица, родственники в упадке, глава рода вообще сидит в русской тюрьме. Лучше не придумаешь. Это была Елена Васильевна Глинская, представительница рода Глинских, эмигрировавших в Россию в 1508 году. Основываясь на исследованиях костных останков и зубов, ученые считают, что княгиня родилась около 1510–1512 годов, то есть замуж вышла в 13–15 лет. Жених, Василий III, оказывался почти втрое старше — ему ко времени брака исполнилось 47 лет.
Глинские, несмотря на всю трудность положения, в котором оказался род в начале XVI века, представляли значительный интерес с точки зрения генеалогии. По легенде, после смерти темника Мамая, разбитого в 1380 году на Куликовом поле, его сыновья бежали в Литву, приняли там православие и получили в удел город Глинск, откуда и пошел род Глинских. Получалось красиво: сын Василия III стал бы потомком одновременно и Мамая, и Дмитрия Донского. Согласно преданиям, ходившим в самой Литве, Глинские вели свой род от Ахмата, хана Большой Орды. Поскольку тот был Чингисидом, это могло дать определенные перспективы в борьбе за власть в той же Казани или на переговорах с Крымом: потомок Василия III мог бы апеллировать к своему чингисидскому происхождению и требовать своей доли власти…
Глава рода, знаменитый Михаил Глинский, с 1514 года сидел в тюрьме. За него просил император Максимилиан. Выпустив князя Михаила из заточения, Василий III убивал сразу нескольких зайцев: делал жест доброй воли в адрес императора, совершал акт гуманизма в отношении Глинских (тем самым Михаил оказывался обязанным по гроб жизни, ведь за предъявленное ему обвинение в измене запросто могли и сгноить в тюрьме). Ну и в лице приближенных ко двору Глинских Василий III приобретал клан лично преданных аристократов, не имевших тесных связей с русским боярством и служащих государю «напрямую». На них можно было положиться (поскольку их положение зависело исключительно от воли Василия III), а разве о таких верных людях не мечтает каждый правитель?
Герберштейн так описывал мотивы Василия III: «Как я узнал, беря себе в жены дочь бежавшего из Литвы Василия Глинского, государь помимо надежды иметь от нее детей руководствовался двумя соображениями: во-первых, тесть его вел свой род от семейства Петрович (Petrowitz), которое пользовалось в Венгрии некогда громкой славой и исповедовало греческую веру (это выдумка посла. — А. Ф.); во-вторых, дети государевы в таком случае имели бы дядей Михаила Глинского, мужа исключительно удачливого и редкой опытности. Ведь у государя были еще двое родных братьев, Георгий и Андрей, а потому он полагал, что если у него родятся от какой-нибудь иной супруги дети, то при жизни его братьев они не смогут безопасно править государством (по другому изданию: они не будут допущены к правлению дядьями, которые (могут) счесть их незаконными. — А. Ф.). Вместе с тем он не сомневался, что если он вернет свою милость Михаилу и дарует ему свободу, то родившиеся от Елены дети его под охраной дяди будут жить гораздо спокойнее. Переговоры об освобождении Михаила велись в нашем (Герберштейна. — А. Ф.) присутствии; мало того, нам довелось видеть, как с него сняли оковы и поместили с почетом под домашний арест (liberae custodiae), а затем даровали и полную свободу». (В другом издании: «он был освобожден, и к нему приставлено множество слуг, больше с тем, чтобы присматривать за ним и стеречь его, нежели чтобы служить ему».) На самом деле Глинского освободили не сразу. Полную свободу он обрел только в феврале 1527 года.
Свадьба Василия III и Елены Глинской состоялась 21 января 1526 года. Видимо, государь сильно переживал происходящее. Во всяком случае, видно, что он не относился к Елене как к машине для детопроизводства, а пытался понравиться ей как мужчина. Молодясь и стремясь выглядеть на литовский манер, он впервые в жизни сбрил бороду и ходил только «в усах». Это вызвало при дворе настоящий шок, бояре при виде бритого государя только что в обморок не падали. По канонам того времени, нарушать образ и подобие Господа нельзя: бритый человек не может войти в Царствие Небесное. Сначала развод, потом бритье бороды — право же, Василий III опасно играл с канонами!
Судя по всему, Василий III действительно питал к Елене какие-то чувства, выходящие за рамки «брака по расчету». Он писал ей личные письма (несколько из них сохранилось). Современники отмечали, что государь полюбил Елену ради ее красоты и непорочности — для почти пятидесятилетнего мужчины вполне объяснимая реакция на юную девушку, светящуюся девичьей красотой, свежестью и чистотой. К этому, видимо, примешивалось чувство благодарности — хотя и не без приключений, но Елена все-таки родила Василию III двух сыновей и тем решила проблему наследования.
Благодаря усилиям скульпторов-антропологов, в частности С. А. Никитина, по черепу Елены Глинской был восстановлен ее облик, и мы сегодня можем представить себе, как выглядела эта женщина, ради которой государь всея Руси рисковал вызвать презрение современников, сбривая бороду. У нее было узкое, вытянутое лицо с узким, резко выступающим прямым носом и высоким переносьем. Подбородок выступающий, волевой. Она была высокой по тем временам женщиной (162–165 сантиметров). В погребении сохранился ноготь Елены, по которому можно узнать, как в XVI веке великие княгини стригли ногти: с двух сторон на полукруг с заострением в центре. У Глинской были длинные ноги, узкие бедра, узкие плечи, изящные руки — словом, хрупкая, тонкая, юная. Василию III было от чего впасть в умилительный восторг.
Единственное, что слегка портило облик невесты, — состояние передних зубов. Резцы находили один на другой, зубы росли криво и с промежутками между ними. То есть улыбаться открытым ртом на публике Елене категорически не рекомендовалось. В то же время в сочетании с обликом девочки-подростка такие зубы могли придавать дополнительный шарм, трогательность и беззащитность… На пятидесятилетних мужчин это весьма действует.
Зубы, кстати, дали важный штрих к психологическому портрету Елены Глинской. У нее до корней были сточены вторые предкоренные зубы нижней челюсти с обеих сторон. По резонному предположению Т. Д. Пановой, это следы увлечения Елены рукоделием — через зубы протягивались нити при шитье и вышивании[228]. Не у всякой женщины будут такая усидчивость и целеустремленность, чтобы сточить свои зубы золотой нитью, вышивая художественные ткани. Это говорит о твердости характера Елены, ее готовности идти на многое ради поставленной цели.
Но в связи с этим возникает вопрос о тайне рождения Ивана Грозного. Дело в том, что свежесть юной девушки Василию III помогла мало: ни через год, ни через два, ни через три после первой брачной ночи детей не было. Хоть опять ищи бабок с проваленными носами и мокрыми ночными рубашками…
Первенец у Василия III родился только 25 августа 1530 года. Столь большой промежуток времени зачатия от попыток оного (за 25 лет с двумя женщинами — одно зачатие?!) уже у современников породил подозрение, что отцом Ивана Грозного был не бесплодный Василий III, Елена понесла его от другого. Злые языки называли любовником великой княгини князя Ивана Федоровича Овчину Телепнева Оболенского. Любовником княгини он, несомненно, был — после смерти Василия III пришедшая к власти в 1535 году Елена открыто сделала его своим сожителем и соправителем, фаворитом. Герберштейн прямо приписал причину гибели Михаила Глинского его попыткам пристыдить племянницу, впавшую в блудный грех: «…видя, что сразу по смерти государя вдова его стала позорить царское ложе с неким [боярином] по прозвищу Овчина (Owczina), заключила в оковы братьев мужа, сурово обращается с ними и вообще правит слишком жестоко, Михаил исключительно по прямодушию своему и долгу чести неоднократно наставлял ее жить честно и целомудренно; она же отнеслась к его наставлениям с таким негодованием и нетерпимостью, что вскоре стала подумывать, как бы погубить его. Предлог был найден: как говорят, Михаил через некоторое время был обвинен в измене (другое издание: намерении предать детей (наследников) и страну польскому королю. — А. Ф.), снова ввергнут в темницу и погиб жалкой смертью; [по слухам, и вдова немного спустя была умерщвлена ядом, а обольститель ее] Овчина был рассечен на куски».
Факт любовной связи с Овчиной достоверно устанавливается применительно к 1535–1538 годам. Но была ли эта связь ранее, при жизни мужа? Доказательств этому нет. Большинство ученых категорически отрицают такую вероятность, считая отцом Ивана Грозного Василия III, в котором через 25 лет бесплодных попыток вдруг проснулась способность к зачатию детей. В качестве главного аргумента антропологи приводят внешнее сходство (знаменитый «палеологовский» нос с горбинкой) восстановленных по черепам обликов Софьи Палеолог и Ивана Грозного. А эти «палеологовские» признаки могли быть переданы только в случае, если отцом Грозного был бы сам Василий III. Правда, никаких портретов Овчины не сохранилось, и какой у него был нос, никто не знает.
Высказывались гипотезы и в пользу отцовства Овчины, правда, не нашедшие в научном мире решительно никакой поддержки. А. Л. Никитин обратил внимание на следующее обстоятельство: мы не знаем случаев резкого отклонения в психике, вызванных наследственными психиатрическими заболеваниями, ни в роду Калитичей, ни в роду Глинских. Вплоть до самого Ивана Грозного, которому психиатры ставят диагноз паранойя. Его брат Юрий — слабоумный (болезнь Дауна), его сын Федор — слабоумный (имбицил или олигофрен), другой сын Дмитрий — эпилептик. Про третьего сына, Ивана, убитого отцом в 1581 году, мы знаем, что он отличался маниакальной жестокостью. Ничего подобного за Калитичами раньше не водилось. Карты болезней представителей рода Овчины мы не имеем, но характерны прозвища некоторых представителей рода: Немой, Лопата, Глупый, Медведица, Телепень, Сухорукий. Не отсюда ли, спрашивает А. Л. Никитин, и пошла «порча» рода Калитичей?[229]
Наверное, можно предположить, что спустя три года после бесплодного брака Елена стала понимать, что с каждым днем для нее все более реальным становится повторение судьбы Соломонии. Что на Руси бывает с упорно не рожающими великими княгинями, она видела своими глазами. Такой судьбы она себе не хотела. Для женщины, способной сточить собственные зубы о золотую нить ради красивой вышивки, решение найти способ зачать ребенка помимо Василия III не должно было быть таким уж трудным. В молодых непротивных дворянах при дворе недостатка не было, в укромных уголках во дворце (тем более при частых отлучках Василия III) — тоже. А эта супружеская измена решала бы все проблемы. Кто ж знал, что от Овчины родятся параноики и дауны…
Конечно, все это не более чем фантазии на заданную тему. Никаких доказательств нет. Несомненен только факт бытования в России XVI века слухов, что Иван Грозный — «выблядок». О любовной связи Елены с Овчиной писал Герберштейн. Упоминания о «хуле» на царя, которую на него возводят, «не ведаючи его царского прирожения», содержатся в сочинении публициста XVI века Ивана Пересветова. Курбский делает какие-то неясные намеки на «выблядка» радом с царем: под этим «выбладком» можно понять и самого царя, которого нельзя, как незаконнорожденного, пускать в церковь. Что характерно, Иван Грозный страшно возбудился при прочтении этой фразы и написал в ответ горячую отповедь, исполненную библейских цитат, из которой сложно понять, что же, собственно, царь опровергает…
Доказательство здесь может быть только одно: если на помощь истории придет судебно-медицинская экспертиза. Генетический анализ останков Василия III, Елены Глинской, Ивана Грозного неопровержимо расставит все на свои места. Возможно, удастся привлечь и генетический материал князей Оболенских, к роду которых принадлежал Овчина. Это будет достоверное, точное знание. Только вот почему-то никто не стремится его получить, а все отмахиваются, считая сам факт проведения такого исследования неприличным, «беспардонной клеветой на великокняжескую семью». Ученые чего-то боятся. Правды?
Между тем точные науки способны выдавать абсолютно однозначные результаты, разрешающие исторические загадки. Так, многие годы считалось, что слухи об отравлении Елены Глинской в 1538 году — не более чем очередная сказка-страшилка о злых боярах, клевета и пр. Однако судебно-медицинская экспертиза останков Елены дала неожиданный результат: ее действительно отравили. Фоновый уровень по меди был превышен в 2 раза, по цинку — в 3 раза, свинцу — в 28 раз (!), мышьяку — в 8 раз, селену — в 9 раз. Но главное — это соли ртути. Нормальный их фон — от 2 до 7 микрограммов на грамм. У Елены в волосах было 55 микрограммов — комментарии, как говорится, излишни[230]. Литовская княжна, волею судеб вознесенная на трон правительницы крупнейшей державы Восточной Европы, возможно, и сумела обмануть своего мужа — но не смогла обмануть судьбу. Выскочек не любили никогда, и чаша с боярским адом поставила точку в судьбе второй жены Василия III спустя четыре года после его кончины.
Когда мы говорим о том, что церковь и придворные уступили настойчивому желанию Василия III жениться вторично, мы рисуем ситуацию очень мягкими словами. Они не просто уступили — их заставили уступить. Причем обратив против не в меру благочестивых строптивцев всю мощь государственной карательной машины. Это, можно сказать, было ноу-хау Василия III. Расправы над неугодными — дело обычное в любой стране. Вопрос только в формах этой расправы. Раньше могли посадить в тюрьму и там тихонечко убить. Или просто — приказать слугам убрать нечестивца, а с холопов какой спрос, их и судить-то никто не будет. Или на помощь приходили зелья и яды. Все это было понятно и привычно, это лишало человека жизни, но не чести. Его не ломали, не унижали, не заставляли пережить кошмар, который чувствует личность, раздавливаемая всей махиной государства Российского.
Василий III провел крупные политические процессы, суды над неугодными. При этом истинные причины судебного преследования были скрыты, а предъявленные обвинения — по большей части вымышлены или по крайней мере сильно преувеличены. Это была не расправа с конкретными людьми, а образцово-показательные репрессии, ставящие целью устрашить церковных иерархов и политическую элиту. Чтобы другим неповадно было противоречить государю. Намек, высказанный в столь откровенной форме, был понят. Церковь и придворные уступили…
Конфликт между иерархами и Василием III назревал давно. Монарху была нужна поддержка в, скажем деликатно, не всегда благовидных делах. Например, надо было что-то делать с князем Василием Шемячичем Новгород-Северским. С одной стороны, княжество было лояльно Москве, князь участвовал в русско-литовских войнах. С другой — Шемячич вел интенсивные переговоры и с Литвой, и с Крымом и неизвестно до чего мог договориться. Была угроза измены буферного княжества на русско-литовской границе, которую его правитель мог совершить со всей искренностью независимого правителя, выбирающего союзников по своему разумению.
И как «принципиальные святоши» предложили бы решить Василию III эту проблему? Увещеваниями да беседами? Собственно говоря, вариантов было два. Первый — карательная акция, силовой захват княжества. Скандально, затратно, грязно, много трупов ни в чем не повинных местных жителей. Ведь и северские города, и столицу, Новгород-Северский, чего доброго, пришлось бы брать штурмом.
И второй вариант. Вызвать Шемячича в Москву, как бы в гости для дружеской беседы, а там — по ситуации. Даст он убедительные гарантии верности — уедет назад; не даст — арест самого князя и нескольких человек его свиты на московском подворье будет куда менее болезненной и кровавой акцией, чем силовое приведение к повиновению целого княжества.
Проблема была в том, что Василий Шемячич, оценивавший нравы русского государя весьма трезво, ехать в Москву не хотел. И соглашался принять приглашение Василия III только в том случае, если ему даст гарантии безопасности лично митрополит всея Руси. А митрополит не хотел идти на заведомое клятвопреступление.
17 декабря 1521 года покинул кафедру нестяжатель митрополит Варлаам. Василий III требовал от него охранной грамоты для Шемячича. Митрополит отказал, ушел в Симонов монастырь, а потом оказался в заточении в тюрьме Каменского монастыря[231]. 27 февраля 1522 года на владычный престол взошел иосифлянин Даниил, игумен Волоцкого монастыря. Современники и потомки говорили о беспринципности и карьеризме нового главы церкви. Он начал с кадровых перестановок, возводя на епископские кафедры своих, иосифлян: Акакия на Тверскую епископию, Иону на Рязанскую. Даниил легко дал охранную грамоту Шемячичу и поручился, что его в Москве не тронут.
Северский князь прибыл в столицу в апреле 1523 года. Видимо, он проявил недостаточно внимания. Когда он въезжал в Москву, по улицам бегал юродивый с метлой и лопатой, которыми он собирался убирать всякую нечисть. Князю бы внять недоброму знаку и повернуть коней… Но он верил Василию III и Даниилу. И напрасно. Его арестовали. На свободу он уже не выйдет. Князь умрет в заточении через шесть лет, в 1529 году[232]. Действия Даниила вызвали одобрение Василия III и возмущение среди ряда православных иерархов. А. А. Зимин связывает с протестом против свершенного клятвопреступления отставку в 1523 году пермского епископа Пимена.
Следующая стычка с церковью и светскими вольнодумцами пришлась на декабрь 1524 года, когда были арестованы сперва ученый монах нестяжатель Максим Грек, а затем сын боярский Берсень Беклемишев, крестовый дьяк Федор Жареный и спасский архимандрит Савва Грек. По делу также проходил ряд дворян и церковных лиц. Историками установлено, что это были люди, связанные с окружением удельных князей — Юрия Дмитровского и Дмитрия Угличского (И. Н. Берсень, П. Муха Карпов, Я. Давыдов, М. А. Плещеев). Вместе с Максимом Греком они выступали против развода и второго брака Василия III, тем самым поддерживая претензии на престол Юрия Дмитровского[233].
Прямо наказать Максима Грека и других за выступление против воли государя было нельзя, потому что канонически Максим Грек и другие жертвы процесса были абсолютно правы. Но надо было добиться того эффекта, чтобы никому больше и в голову не пришло высказывать подобную правоту. И Василий III затевает политический процесс с выдуманными обвинениями.
Кто попал под удар? Центральной фигурой процесса, состоявшегося в 1525 году, был, конечно, Максим Грек — писатель, публицист, переводчик. Он происходил из аристократической греческой семьи Триволисов, под влиянием речей знаменитого Савонаролы около 1502 года принял постриг в доминиканском монастыре Сан-Марко, но потом повторно постригся в православном Ватопедском монастыре на Афоне. В 1516 году по запросу Василия III его прислали в Москву для перевода Толковой Псалтыри. Максим выполнил работу, но обратно его не отпустили. Как ему позже объяснит его «подельник» Берсень Беклемишев, «…ты здесь увидел все наше доброе и лихое, и если уедешь, все там расскажешь». Подобный синдром был характерен для России в целом: как позже напишет немец-опричник Генрих Штаден, «дорога в эту страну широкая-преширокая, а обратно узкая-преузкая». При государевом дворе, кажется, всерьез боялись, что иностранцы, вернувшись домой, могут разболтать какие-то особенные секреты. Во всяком случае, их действительно старались не выпускать обратно, и Максим Грек пал жертвой этой политики.
Впрочем, он не мог жаловаться на невнимание к нему русских интеллектуалов: в его келье в Чудовом монастыре собирался целый кружок людей, приходивших «говаривать с ним книгами» (И. В. Токмаков, В. М. Тучков, И. Д. Сабуров и др.). Он сблизился с нестяжателями и их лидером Вассианом Патрикеевым. Творческое наследие Максима Грека огромно, ему приписывают более трехсот произведений.
Процесс против Максима Грека развивался своеобразно. В декабре 1524 года по приказу Василия III московские власти (через руководство Троице-Сергиева монастыря) пытались обработать дьяка Федора Жареного, чтобы тот дал показания против Максима Грека. Сам же Максим решил опередить следствие и донести первым — на Берсеня Беклемишева. Пикантность ситуации была в том, что целью процесса было осуждение именно Максима, а он этого не понимал и хотел сотрудничать со следствием, пытался ложным доносом перевести обвинение на Беклемишева. Тем самым он и себя не спас, и втянул в процесс невинного человека.
Следствие началось в феврале 1525 года. Максим Грек и архимандрит Савва Грек были обвинены чуть ли не в шпионаже в пользу Турции. Обвинение, естественно, абсолютно вымышленное, зато — беспроигрышное. Достаточно было нескольких полунамеков, сомнительных связей. А они имелись. Максим общался с турецким послом, греком Скиндером, когда тот бывал в России. Сказался и другой психологический синдром: московское общество недоверчиво относилось к православным, жившим в чужих странах с иной верой. В феврале 1525 года следователи Василия III выяснили, что Максим и Берсень обсуждали, как живут православные на Афоне под властью турок; при этом Максим якобы хвалил султана, который не вмешивается в дела церкви. Это вызвало обвинение в хуле на государя: а у нас Василий III вмешивается, ты этот порядок порицаешь — стало быть, ты против власти великого князя? Вслед за таким обвинением прозвучало сакраментальное слово «измена»: будто бы Максим через Скиндера подговаривал султана напасть на Россию, вел разговоры о возможности вмешательства Турции в войну России и Казанского ханства, критиковал миролюбивую политику Василия III в отношении Османской империи.
Максим передал властям слова Берсеня Беклемишева, который хулил мать Василия III, Софью Палеолог: «Добр деи был отец великого князя Васильев, князь великий Иван, и до людей ласков… а нынешний государь не по тому, людей мало жалует, а как пришли сюда грекове, ино и земля наша замешалася, а дотоле земля наша Рускаа жила в тишине и в миру». Софья принесла на Русь «нестроения великие, как у вас во Царегороде при ваших царех». Софья вообще порченая: по отцу христианка, православная, а по матери — «латинянка», католичка. Естественно, что реакция Василия III на подобную хулу в адрес его матери была жесткой и беспощадной.
Максим Грек привел в своем доносе и другие преступные высказывания Беклемишева. Тот произнес сакраментальную фразу, что «ныне в людях правды нет» (вековечный рефрен всех критиков России), потому что нарушена «старина»: «Которая земля переставливает обычьи свои, и та земля недолго стоит, а здесь у нас старые обычьи князь велики переменил, ино на нас которого добра чаяти?» Это выразилось в том, что Василий III не любит оппозиции, не любит, когда ему противоречат и говорят «навстречу» — на таких он кладет опалу. Он не советуется с боярством, с советниками, а «ныне-деи государь наш, запершыся, сам-третей у постели всякие дела делает». «Государь жесток и к людям немилостив» — такую характеристику давали Василию III вольнодумцы. Особенно Беклемишеву не нравилась внешняя политика Василия III: много воюет и, главное, дает поводы другим державам враждебно относиться к России: взял Смоленск (а зачем он нам?), построил Васильсурск… Из-за Смоленска у Берсеня еще в 1514 году был конфликт с Василием III: своенравный дворянин пытался подпортить великому князю торжество и стал его укорять за взятие Смоленска, на что Василий огрызнулся: «Пойди прочь, смерд, ненадобен ми еси»[234].
На следствии Берсень Беклемишев отрицал все вышеприведенные высказывания, назвав их клеветой, которую возвел на него Максим Грек. Отрицал он эти наветы и на очной ставке, а Максим их подтвердил. Вряд ли афонский монах полностью придумал слова вольнодумного дворянина, хотя, конечно, мог их утрировать и передернуть. Это не столь уж и важно: произнес их Берсень или выдумал Максим — в любом случае, перед нами характеристика Василия III как правителя, высказанная современниками в 1525 году и важная при оценке итогов его правления.
Кончилось все трагически. Желание Максима Грека выслужиться перед властями, свалив все на Берсеня, обернулось кровью. Василий III приказал отрубить Беклемишеву голову. Федору Жареному за хулу на государя вырезали язык и подвергли торговой казни (битье кнутом на торгу). Максиму Греку и Савве Греку Василий III сохранил жизни, но приговорил к заточению в Иосифо-Волоколамском монастыре. В апреле-мае 1525 года вслед за светским судом состоялся церковный суд по обвинению Максима в ереси.
Ересь заключалась в том, что Максим, верный константинопольскому патриарху, настаивал на необходимости поставления русских митрополитов в Константинополе, как полагалось исстари. А поставление их в Москве есть самоуправство. В. М. Тучков донес, будто бы афонский монах сравнивал Василия III с древними римскими императорами — гонителями на христианство. Максим отрицал, что говорил подобное. Но тут он что посеял, то и пожал: точно так же грек недавно «клепал» на Берсеня Беклемишева; теперь же он сам стал жертвой доноса. Кроме того, опального монаха обвинили в проповеди ложного учения «о сидении Христа одесную Отца»[235].
Церковный суд так же послушно, по воле Василия III и митрополита Даниила, осудил Максима. Против него было применено сильнейшее церковное наказание — лишение причастия. Эта кара, страшная сама по себе для верующего человека, была дополнена поистине иезуитским приговором, страшным для философа и писателя, для человека, у которого вся жизнь в раздумьях, философских беседах и на кончике пера. Максиму запретили встречаться с кем-либо и вести беседы, переписку, вообще сочинять и писать свои произведения, в каком-либо виде, устном или письменном, распространять свои идеи, даже запретили читать книги, кроме тех, которые специально подберет и разрешит митрополит Даниил (он разрешит читать творения Ефрема Сирина, жития святого Саввы, Василия Великого, Федора Студита, Федора Едесского). Ему предписывалось только «в молчании сидети и каятись о своем безумии и еретичестве».
Молчание, впрочем, продлилось недолго. Турецкий посол Скиндер, в связях с которым обвиняли Максима Грека, имел неосторожность умереть во время одной из московских миссий. В его доме был обыск. «Дядины ребята», выражаясь современным языком — спецслужбы Василия III, нашли много очень интересных бумаг. Тайная переписка посла с султаном, что может быть увлекательнее? Среди них имелись и какие-то письма Максима Грека.
Они до нас не дошли, и ученые долгое время спорили, был ли афонский монах действительно турецким шпионом. С одной стороны, эти послания тут же вызвали возобновление процесса над узником Иосифо-Волоколамского монастыря. С другой — все-таки конкретных доказательств измены на процессе не прозвучало, никаких «изменных текстов» не цитировалось. Возможно, это были письма, в которых Максим Грек просился вернуться на Афон, а сам факт подобной переписки сочли шпионажем и предательством. Но в таком случае неясно: зачем Максиму писать об этом султану? Правителю Блистательной Порты вряд ли было дело до какого-то афонского монаха, застрявшего в дремучей Московии. Ведь не султан же держал Максима в России, а Василий III.
В 1531 году состоялся новый процесс, по которому проходили извлеченный из монастырской тюрьмы Максим Грек и лидер нестяжателей Вассиан Патрикеев. Впрочем, тема шпионажа в пользу Турции и преступная связь афонца со Скиндером следователей особо не интересовали. Максиму было предъявлено только одно обвинение: что он не сообщил Василию III о слышанном им высказывании Скиндера: «…его князь великий не жалует и не чтит, не по тому ему, как его наперед того жаловал. Пусть будет моя борода привязана к собачью хвосту, если я не приведу султана на великого князя землю». Грек не отрицал, что слышал крамольные слова и не донес на них. Но говорить о каком-то сверхъестественном проступке нельзя. Вряд ли мнение Скиндера о Василии III и его желание поссорить Россию и Турцию были секретом для русских посольских служб. Речь шла о недоносительстве, но не более.
Максим признался в том, что говорил слова: «Быть на той земли Русской турецкому султану, потому что султан не любит правителей от роду константинопольских царей, а князь великий Василий ведь внук Фомы Аморейского». Монах объяснял: «Я это, господин, говорил для бережения, чтобы князь великий от него берегся, поскольку султан турецкой родственников цареградских не любит нигде». Но и здесь нет никаких откровений и секретов — а то Василий III не знал, чей он потомок и что с его родственниками сделали турки.
Гораздо серьезнее на процессе 1531 года звучали религиозные обвинения. Максим и Вассиан Патрикеев осуждались за то, что порицали тройное крестное знамение, которое архиерей во время литургии совершает двумя свечами. Также обсуждались слухи о том, что Максим — колдун и пытался ворожить против Василия III. Вторично был поднят вопрос о критике Максимом порядка поставления русских митрополитов. Якобы афонец утверждал, что русские этим на себя навлекают анафему. Хвалил крамольник и митрополита Исидора, подписавшего в 1439 году Флорентийскую унию. Исидор для Русской православной церкви был абсолютно запретной фигурой, и это обвинение действительно звучало серьезно. Кроме того, Максима осудили за «порчу» священных книг, неправильные переводы и нарушение запрета читать и писать в волоколамском заточении. Его сослали в Тверской Отроч монастырь, где он и сидел до 1547–1548 годов[236].
Действия Василия III в отношении церкви нельзя сводить к выкручиванию рук вольнодумцам и полемике вокруг церковных имуществ. Первая треть XVI века, как уже говорилось, — время масштабного строительства храмов по всей Руси. Главная сторона этого созидания — крупная монастырская колонизация Русского Севера[237], создание целого созвездия северных монастырей, знаменитой Русской Фиваиды — особого феномена православной культуры.
Строго говоря, под Северной Фиваидой{7} понимаются обители Вологодской и Белозерской земель. Термин был придуман православным писателем Андреем Николаевичем Муравьевым, опубликовавшим в 1855 году книгу о паломничестве по северным святыням. Иногда выражение употребляется шире, для поэтического обозначения монастырей Севера вообще, иногда уже — применительно к местности Кирилло-Белозерского монастыря.
Колонизация имела два аспекта — духовный и экономический. По зову сердца горожане, крестьяне, бывшие воины, священники и монахи уходили в дремучие северные чащи, вооруженные Библией и топором. Находили дивной красоты места на берегах рек и озер, в лесных долинах. Рубили лес, рыли пещеры, строили скиты. Ели то, что давал лес, — ягоды, грибы, травяные отвары. Расчищали делянки под скромное хозяйство. Погружались в мир окружающей природы, роднились с ней (недаром появлялись легенды об отшельниках, друживших с волками и медведями). Думали, размышляли, беседовали с Господом. Молились, каялись, просили милости, знака Божьего.
Это был высокий духовный накал, возможный только в атмосфере пронзительной, ни с чем не сравнимой красоты Русского Севера. Кроме скитов и монастырей, здесь возникали святые места — источники, урочища. Они имели свою историю: например, место близ реки Свирь, где в 1508 году монаху Александру Свирскому, основателю одноименного монастыря, явилась Святая Троица. По мере накопления таких чудес и подвигов монахов возникла целая священная география Русской Фиваиды.
Со временем некоторые обители, основанные одиночками, прирастали братией. Монастырские земли расширялись. На них появлялись крестьяне. Они бывали как пришлые, так и местные — когда монастырь подчинял себе какую-нибудь деревеньку. Начиналось освоение земель, включение их в хозяйственный комплекс страны. На земли выдавались жалованные грамоты, с них платились налоги. Это была настоящая колонизация. Вряд ли Русский Север можно назвать «нашими Индиями» — здесь были принципиально иные отношения с местным населением. Крестьяне были своими же, православными, а аборигенов из финно-угорских племен крестили мирно, проповедью и личным примером, но не огнем и мечом. Русская колонизация, хотя и протекала примерно в то же время, не вела к таким катастрофическим последствиям, как испанская колонизация Нового Света (хрестоматийным примером является Гаити, где до прихода европейцев в конце XV века было 300 тысяч населения, а к 1515 году осталось 15 тысяч). Колонизируемые земли включались в хозяйственный оборот страны в общем-то на тех же условиях, что и другие. Здесь не было хищнического разграбления колоний, беспощадной эксплуатации новоосвоенных территорий. К ним относились бережно и по-хозяйски.
Освоение Русского Севера при Василии III дало несколько новых имен христианских подвижников. Прежде всего, надо назвать имя Нила Столбенского (†1554). Крестьянин Жабенского погоста Деревской пятины принял постриг в Псковском Савво-Крыпецком монастыре. Оттуда он вскоре ушел, и в 1515 году стал жить в лесу в одинокой келье. К нему начали приходить монахи, прихожане за советом и молитвой. Нила это тяготило, и он ушел. Зато на месте его кельи осталось поселение монахов, выросшее в Серемский монастырь. В 1528 году Нил поселился в вырытой собственноручно землянке на Столбенском острове на озере Селигер. Он вел крайне аскетическую жизнь — отказался спать в постели и спал стоя, повиснув на специально вбитых в стену землянки крюках. Питался тем, что приносил жалкий огород, и иногда — рыбой, которую дарили заплывавшие на остров рыбаки. В построенной около землянки часовне разместил собственный фоб и проводил все свое время около него в сокрушенных молитвах. Так он прожил 26 лет. После его смерти на острове возникла Столбенская пустынь.
Целая группа монастырей была основана мелким землевладельцем села Мандеры, постриженником Варлаамского монастыря Александром Свирским (†1533) и его учениками. Еще в конце XV века он заложил на реке Свирь Троицкий монастырь, в 1506 году — на той же Свири Спасский монастырь. Ученики Александра основали новые пустыни: Макарий под Новгородом — Оредежскую, Никифор — Важеозерскую на озере Важе, Афанасий — Сяндомскую под Олонцом, Адриан — Андрусовскую (также под Олонцом)[238].
Перечень монастырей, возникших в первой трети XVI века в Новгородской, Вологодской землях, Прионежье и Приладожье, под Белоозером и Галичем, содержит около сорока названий. Это был настоящий взрыв, разбросавший по земле звезды монастырского созвездия Русской Фиваиды.
Василий III, светские и церковные власти всячески поддерживали обители. Жалованные грамоты, налоговые и иммунитетные льготы, подарки и высочайшее покровительство — многие монастыри могли помянуть добрым словом великого князя всея Руси.
Василий III — первый русский правитель, которого с такой интенсивностью именовали в документах с царским титулом. Как известно, он его официально не принял. Первым русским царем станет его сын Иван Грозный. Но настойчивость, с которой современники приписывали Василию III царский титул, заставляет присмотреться к этим свидетельствам.
Как уже говорилось, некоторые страны, и прежде всего Турция, вообще официально признали за Василием III царский титул. «Царем» в 1515 году называл Василия III турецкий наместник Кафы: «Великовластному счастконаходцу, да соблюдет Господь Бог царство твое до века, много праведные наши молитвы по подобию утреннего ветра донесены будут, иже помимо шедшей ночи утрений свет облистовыет, а после наших дошедших молитв настояще наше писание…»[239] В 1520 году уже сам султан именовал Василия III «царем»: «Во всем почтенному нашему доброму брату и приятелю, великому князю Василию, царю и государю земли Московской…»[240]; в грамоте 1532 года Василий III назывался «государем государь», «великий государь началной», «царь царем», «светлость кралевства» и даже, как мы помним, «великий гамаюн»[241].
Вовсю использовался царский титул в начале XVI века православными греческими иерархами[242]. Правда, употребление царской титулатуры было здесь односторонним. Сам Василий III в 1508–1519 годах в адресованных иерархам Православного Востока грамотах именовал себя государем, единым правым государем и великим князем, но не царем.
Зато Василий III использовал царский титул в отношениях с Прусским орденом (1517), Датским королевством (1519), Священной Римской империей (1506, 1517, 1518), Ливонским орденом[243]. С. Герберштейн писал о Василии III: «Титул царя он употребляет в сношениях с римским императором, папой, королем шведским и датским, [магистром Пруссии и] Ливонии и [как я слышал, с государем] турок. Сам же он не именуется царем никем из них, за исключением, разве что, ливонца»[244].
Почему же вокруг царской титулатуры было столько споров?
В европейской юридической мысли титул «царь» приравнивался к «цесарю», то есть к императору. Правовая коллизия состояла в том, что в «христианском мире» император мог быть только один — император Священной Римской империи. Называя себя царем в сношениях с государствами германского мира — империей, Данией, Пруссией, Ливонией, — Василий III тем самым демонстрировал претензию на равный с императором статус. Страну, которой правит такой же царь/ цесарь, уже нельзя на правах провинции включить в состав Священной Римской империи, как о том мечтали некоторые европейские политики. Договор с кайзером русский монарх будет заключать на равных, и они будут равными партнерами и союзниками. Как мы уже знаем, этот дипломатический сценарий Василию III реализовать не удалось. Европа не отнеслась к его царскому титулу всерьез. Но твердая позиция позволила Василию III отстоять самостоятельную роль России в международной политике — роль, которая становилась заметнее с каждым годом.
Как справедливо отмечено А. А. Зиминым, «в пределах самой России термин царь почти не употреблялся»[245]. Исключение составлял разве что Псков — согласно московской редакции Повести о Псковском взятии в 1509–1510 годах, местные посадники обращались к Василию как к государю и царю. После присоединения Пскова московский правитель стал там чеканить монету с надписью царь. Этот же титул Василий III употреблял в жалованных грамотах псковским монастырям, но не обителям, расположенным на других территориях. В русской церковной публицистике первой половины XVI века своего государя называли царем Иосиф Волоцкий, Филофей, Максим Грек, Спиридон-Савва и др. Но все это были эпизоды, прецеденты, которые стали системой только после 1547 года.
В то же время, в церковной среде ходило и другое мнение: некоторые одобряли, что Василий III не «возгордился» и не принял царский сан. Например, в послании игумена Новгородского Хутынского монастыря Феодосия старцу Никольского монастыря Алексею от 4 декабря 1533 года в похвале великому князю сказано: «Во всем государь нам образ показуя, смирения ради царем себя не именова»[246].
К сфере политической идеологии довольно часто относят еще одну доктрину, появившуюся в последние годы правления Василия III. Речь идет о концепции «Москва — Третий Рим». К сожалению, она обросла многочисленными спекуляциями, которые сильно исказили ее облик в глазах читателя. Еще на рубеже XIX–XX веков образ Третьего Рима вовсю использовался философами и литераторами для осмысления места России в мире, ее исторической судьбы, цивилизационного предназначения. Лучше всего место таких идей определил в 1894 году Владимир Соловьев в стихотворении «Панмонголизм»:
На самом деле учеными давно раскрыты роль и место этой доктрины в истории идей Московской Руси. Применительно ко времени Василия III, место, занимаемое ею, было весьма скромным. Об этой клерикальной, а не политической, концепции знало несколько интеллектуалов. Традиционно авторство теории «Москва — Третий Рим» приписывается монаху Псковского Елеазарова монастыря Филофею, который в 1523–1524 годах сформулировал ее в одном из писем. Недавно Б. А. Успенский предположил возможное авторство троицкого игумена, а в 1495–1511 годах московского митрополита Симона Чижа[247].
Филофей вел переписку с великокняжеским дьяком Мисюрем Мунехиным, где обсуждал астрологическую пропаганду католического богослова Николая Булева по поводу «всеобщего изменения» — предсказанного европейскими астрологами нового всемирного потопа, который якобы состоится в феврале 1524 года. Булев перевел на русский язык фрагменты из латинского альманаха И. Штефлера и Я. Пфлауме, издававшегося в Венеции в 1513, 1518 и 1522 годах. Астрологи писали, что звезды указывают на гигантский катаклизм: солнечное и лунное затмение со «знамением водным», которое затронет страны и народы всей вселенной, распространится даже на «скоты и белуги морские» и на всех «земнородных».
Подобные страшилки были далеко не безобидными: кое-где в Европе жители стали строить ковчеги в ожидании нового всемирного потопа. Известный художник Альбрехт Дюрер, начитавшись подобной литературы, в 1525 году увидел свой знаменитый сон о потопе, заливающем всю землю. Франция, Германия, Испания оказались включены в «географию страха». К ним оказались близки Москва, Псков и Ростов — Булев продавал здесь «в торжищах» переводы своего альманаха. Кроме того, он разослал книгу со зловещим пророчеством представителям власти и церковным иерархам (что было нетрудно, учитывая, что Булев какое-то время занимал должность придворного врача Василия III).
Западная церковь связывала подобные пророчества с Реформацией и считала предсказанные астрологами потоп и иные катаклизмы образным выражением обновления церкви (что, впрочем, расценивалось и как предвестник скорого Конца света). Вот здесь и крылась причина, почему на художества заморского астролога столь взволнованно отреагировали православные церковные идеологи: Булев на основе своих пророчеств говорил о неизбежности обновления христианства путем слияния Восточной и Западной церквей. Это будет достигнуто путем «отмщения» туркам и отвоевания католическим воинством Константинополя. За пропаганду этой идеи немец получал специальную ренту от папы римского[248]. Вопрос был поставлен для Русской православной церкви недопустимо. Плюс ко всему по-прежнему острой для русского сознания и после 7000 (1492) года оставалась эсхатологическая тема…
Активность Булева влекла опасность соблазна для мирян. А вдруг они поверят в астрологические бредни? Против него были мобилизованы лучшие церковные умы. Искал автора, который бы развенчал построения проклятого немца, ростовский архиепископ Вассиан (брат Иосифа Волоцкого). Дипломат Ф. И. Карпов, получив письмо от Булева, тут же обратился с просьбой об опровержении к самому Максиму Греку. Великокняжеский дьяк Мисюрь Мунехин попросил ответить «тщащемуся звездозрением предрицати» псковского монаха Филофея.
Филофей с порога отмел астрологическую постановку вопроса — «сия все кощуны суть и басни». Астрологии он противопоставил богословие и эсхатологию. Обновление всего сущего, несомненно, происходит, но по воле Божьей, а не по расположению каких-то там звезд. Филофей отрицал идею Булева, что бывают добрые и злые часы (что и показывают нам звезды, для выявления которых нужна астрология). Если бы Бог сотворил злые дни и часы, он бы сам оказался причиной зла, а это невозможно, Господь добр и милостив. Движением звезд и других небесных светил управляют не неведомые силы, а ангелы. Поэтому вся астрология Булева основана на ложной посылке и неправильна. Никакой всемирной катастрофы и потопа не будет.
А как же тогда происходят перемены в истории человечества и что его ждет, если не новый всемирный потоп? Ответ Филофея блистателен: его ждет Третий Рим, неразрушимое Ромейское царство. Третий Рим — это «царство нашего государя», Россия. Ее существование — залог земного существования людей.
Каким образом Филофей выводит эту формулу? Он пишет, что все христианские православные благочестивые царства погибли (под ними в русской мысли понимались Греческое, Сербское, Боснийское, Албанское, видимо, Болгарское «и иные мнози»). Причиной падения греков были измена вере, обращение в «латинство» на Флорентийском соборе 1439 года, уния с католической церковью. По поводу же Римско-Ромейского (латинского) царства Филофей пишет:
«Не обращай внимания, о избранник Божий, на то, что говорят латиняне: наше Ромейское царство пребывает несокрушенным, ибо если бы наша вера была неправой, Господь не сохранил бы нас. Не подобает нам полагаться на их обольщение, поистине они суть еретики, самовольно отпали от православной христианской веры, в особенности из-за службы на опресноках. Они были в соединении с нами в течение 770 лет, но уже в течение 775 отпали от правой веры, впали в Аполлинариеву ересь, будучи обольщены царем Карлом и папой Формосом»[249].
Священная Римская империя не имеет права носить имя Ромейского царства, потому что она впала в грех «латинства», она не обладает истинной, правой верой. Оболочка Священной Римской империи лишь материальна. Души же латинян пленены дьяволом, утеряна духовная сущность. С Греческим царством дело обстоит иначе: турки пленили его физически, но к перемене веры не принуждают. То есть европейский Рим потерял одну сторону, а греческий Рим — другую.
Но истинное Ромейское царство сохранилось — по точному определению Н. В. Синицыной, это «…не государственно-политическое образование, но духовно-христианское царство, возникшее в эпоху Воплощения Слова… или империя, имеющая тот же возраст, что и Христос». По мнению Филофея, данное царство ныне воплощено в Московском государстве Василия III. Василий Иванович — православный царь, московская церковь является «вселенской апостольской», а царь при этом — единый и единственный царь всех христиан поднебесной и одновременно «браздодержатель церковных престолов». Именно «в царство нашего государя» переместились («снидошася», то есть сошлись) все нашедшие свой исторический конец христианские царства. Россия, таким образом, воплощает в себе духовно-христианское Ромейское царство и именно в этом смысле является Третьим Римом. Христианская церковь — апокалиптическая «Жена, облеченная в Солнце» Откровения Иоанна Богослова (Откр. 12:3), — найдет приют и успокоение только в Московском царстве[250].
Таким образом, в идеях Филофея нет ничего «имперского», «великодержавного», «национально-исключительного» и прочего, что публицисты всех мастей любят приписывать теории «Москва — Третий Рим». Его доктрина отражает сугубо клерикальную полемику о значении православной и католической церквей, соотношении их роли в мировой истории. Совершенно естественно, что Филофей, живший в единственной свободной и независимой православной стране, разделял присущее московской духовной культуре чувство особой ответственности перед Богом и миром за судьбы единственно правильной веры и страны — носительницы этой веры. Отсюда и мессианизм его концепции.
Насколько Василий III был знаком с подобными взглядами и насколько разделял их? Филофей сочинил специальное послание, адресованное государю всея Руси. Поводом послужила просьба о поставлении архиепископа на освободившуюся Новгородскую кафедру, из чего следует, что послание было написано в 1524–1526 годах. Но содержание этого сочинения шире. В нем Филофей сформулировал для Василия III идею симфонии церковных и светских властей в Третьем Риме. Столь высокая миссия Московского царства налагает особую ответственность на его правителя как «браздодержателя церковных престол». Церковь как бы освящала светскую власть и для этого вступала с ней в единение. Государь имеет полное право вмешиваться в дела церкви во имя общего блага, центральной идеи. Но и церковь может указывать государю, морален или нет тот или иной его поступок.
Филофей тут же разбирает ряд животрепещущих вопросов, которые Василий III как царь Третьего Рима должен был решить незамедлительно. Помимо уже упоминавшегося назначения на новгородскую архиепископскую кафедру, это были строгое соблюдение обряда крестного знамения (великий князь должен бороться с нарушителями как «врагами имени Христова») и осуждение содомии (гомосексуализма).
Последний аспект довольно интересен — почему-то русские церковные пастыри периодически считали своим долгом обличать содомию в посланиях государям и требовать ее искоренения. Филофей обращался с этой темой к Василию III, а к его сыну, Ивану Грозному, будет об этом же писать священник Сильвестр. Трудно сказать, было ли это вызвано действительной распространенностью гомосексуализма в московском обществе и придворной среде или же проповеди против содомии были своего рода «общим местом», с которым, опираясь на труды Отцов Церкви, священники и монахи считали нужным обращаться к власть предержащим.
Филофей в послании к Василию III также затрагивает сложную и полемичную тему церковных имуществ, рифмующуюся со знаменитым спором нестяжателей и иосифлян. Спор он решает в пользу последних: если богатство идет во благо, на процветание веры, на благотворительность, оно необходимо. Не надо путать богатство со «сребролюбием», которое однозначно подлежит осуждению.
Автор послания высоко поднимал планку поведенческого идеала православного царя, который заключался прежде всего в ответственности за подданных и соблюдении в своем государстве чистоты веры. «Обиды церквям и монастырям», «нестроение» царства, грехи людей приближают приход Антихриста, возбуждают эсхатологические ожидания. Тем самым праведность Василия III оказалась прямо связанной с исторической судьбой России: он может после смерти стать «сыном Света» и «гражанином» Небесного Иерусалима, а может обрушить на свой народ неисчислимые бедствия, полагающиеся согрешившему народу накануне Конца света[251].
Что характерно, Филофея, в отличие от нестяжателей, совершенно не интересовал сюжет с разводом Василия III и нарушения им церковных канонов. Он размышлял о куда более высоких и масштабных вещах, и идеальные требования, предъявляемые им к великому князю, принадлежали к куда более значительной сфере.
В полную силу идеи Филофея зазвучат только к концу XVI века, когда мотив «Москва — Третий Рим» стал наиболее актуальным в связи с учреждением в 1589 году Московской патриархии. В более ранний период они осмыслялись только на уровне узкого круга церковных интеллектуалов, впрочем, имевших прямое отношение к разработке идеологии высшей, царской власти в России. Ими эти идеи были усвоены, переосмыслены и развиты. В этом плане политическая мысль времени Василия III была заметным шагом вперед по сравнению с эпохой Ивана III; она заложила основу для развития целого ряда политико-идеологических доктрин царствования Ивана Грозного.
Последние семь-восемь лет правления Василия III на международной арене прошли достаточно тихо. Шла будничная повседневная дипломатическая работа без больших успехов или грандиозных провалов. Не было крупных войн, но пограничные конфликты и мелкие стычки не прекращались.
На восточном направлении Василий III пытался установить более дружественные отношения с Турцией. В случае успеха тут открывались хорошие перспективы: султан мог обуздывать агрессию Крыма, пугать Королевство Польское и т. д. Видимо, Василия III обманул дружелюбный тон посланий султана и рассыпаемые в них цветистые комплименты. Государь решил, что раз ему открыто не угрожают и ничего особенного не требуют, то с османами можно подружиться. Специфики восточной дипломатии он не понимал и не знал. Раз за разом проходил обмен грамотами, послами, туда-сюда ездили купцы, шли переговоры — но никаких значимых результатов достигнуто не было. Султану дружба с Россией была абсолютно не нужна, а ссориться вроде было еще не из-за чего. Принципиальные противоречия между странами, которые выльются в первую Русско-турецкую войну, накопятся только к 1569 году.
Пока же взаимное раздражение от несбывшихся ожиданий прорывалось в мелочах. В 1524 году в Москве находился турецкий посол Скиндер. Поскольку он опять ничего конкретного не привез, с ним при дворе Василия III обошлись достаточно прохладно. Скиндер обиду затаил и выместил ее на русском посольстве, отправившемся с ним в обратный путь ко двору султана, но уже в Кафе, на турецкой территории.
Возможно, это было связано с провалом задания, полученного от султана: русская разведка получила информацию, что Скиндер должен на обратном пути разведать «места» на Дону, где Турция в дополнение к Азову поставит новую крепость для дальнейшего продвижения в Восточную Европу. Планы Скиндера (если они, конечно, имели место) были разрушены просто и эффективно: «А поехал Скиндер на Путивль да на Крым, а Доном просился, и князь великий его Доном не пустил: некоторое прозябло слово от скиндеровых людей и от сторонних, что Скиндер послан смотрити мест на Дону ставити город, и того для Доном не пущен»[252]. Тогда понятен гнев пронырливого грека, которому не дали выслужиться перед хозяином-султаном и выставили из страны самым неприятным образом. Скиндер русским дипломатам «великую соромоту чинил».
В июле 1525 года в Турцию отправился гонец Кудояр Кадышев с грамотой Василия III, в которой султану в очередной раз предлагались любовь и дружба и делалась попытка смягчить возможные обвинения в неуважении к послу со стороны Скиндера.
Московским властям было о чем беспокоиться. В 1525 году прошел слух, что султан оскорблен провалом миссии Скиндера и готовится отправить на Русь то ли 15, то ли 30 тысяч воинов. Однако собственно турецкий поход был бы затруднен по техническим причинам. Турки совершенно не знали, куда идти, — их представления о географии Восточной Европы были весьма приблизительны{8}. Турецкие войска могли эффективно действовать только в составе армии крымского хана. А Крым в эти годы раздирался противоречиями, междоусобицами, и ему было не до организации крупного международного нападения на Русь. Да и слух о том, что султан из-за Скиндера готов развязать войну, видимо, все же не имел реальной почвы и относился к разряду дипломатических страшилок.
Тем более что сам Скиндер как ни в чем не бывало приехал с новой посольской миссией в Москву в декабре 1526 года. Он вел переговоры о торговле между двумя странами. В 1528 году с таким же торгово-дипломатическим посольством приезжал от турок грек Андриан Халкокондил. 17 декабря 1529 года Россию вновь посетил всем надоевший Скиндер. На этот раз судьба была к нему неблагосклонна: в декабре этого года он скончался в России при невыясненных обстоятельствах. Возможно, его просто убили. Обидевшийся султан Сулейман Великолепный, которого особо обеспокоила конфискация русской разведкой бумаг Скиндера, в 1530 году пытался подбить на нападение на Русь крымского хана и обещал прислать артиллерию и пищали. Но поход не состоялся. В феврале 1531 года к русской границе подошел только небольшой отряд ширинского хана Бучкака, который после стычки под Белевом с русской заставой повернул назад. На этом конфликт оказался исчерпан. В 1532–1533 годах в Москве успешно торговал официальный представитель султана Ахмат, выполнявший также функции гонца.
Отношения с Крымом складывались сложнее. После гибели Мухаммед-Гирея ханство переживало сложный период междоусобий и внутренней борьбы. С одной стороны, для Руси это было хорошо — татарам зачастую было просто не до нападений на соседей. С другой — нельзя было достичь никаких надежных договоренностей: власть в Бахчисарае оставалась слишком нестабильной, и ей нельзя было доверять.
В апреле 1525 года гонец Девлет-Килдей привез в Москву договор с ханом Саадат-Гиреем (шертную грамоту). Между Василием III и крымским ханом наконец-то наступили долгожданные «дружба и братство». Правда, дружба получалась какая-то своеобразная: хан требовал закрепить ее получением с Руси богатых «поминков», а государь отказывался их платить. В итоге обе стороны остались неудовлетворены друг другом. Неудовлетворенность Саадат-Гирея вылилась в организации в том же 1525 году крупного похода на Русь (источники, видимо преувеличенно, говорят о 50-тысячном татарском войске). Им командовал бывший казанский хан Сагиб-Гирей, у которого с Василием III были свои счеты. Но поход не задался сразу. Очередной мятеж в Крыму поднял еще один представитель ханского рода — Ислам-Гирей. После яростной борьбы Саадат-Гирей вернул трон, но, конечно, ни о каких иноземных походах, тем более с использованием крупных воинских сил, не могло быть и речи.
В 1526 году ситуация повторилась. В апреле Саадат-Гирей прислал гонца с изъявлениями дружбы и братства, летом он уже собрался в новый поход на Русь, но тут опять взбунтовался Ислам-Гирей. К декабрю Гиреи помирились, но выступление против России опять провалилось.
В сентябре 1527 года за дело взялся уже Ислам-Гирей. Он вышел к окскому рубежу с 40-тысячным войском. Удар был направлен на Рославль. Но ошибка 1521 года не повторилась. Василий III быстро и четко организовал оборону по Оке. Великий князь с братьями встал с войсками в Коломенском, а потом вышел к Оке. Оборону на рубеже заняли полки под командованием В. С. Одоевского, И. Ф. Телепнева Оболенского, Ф. М. Мстиславского. Жители посадов подмосковных городов и самой Москвы укрылись за крепостными стенами. К бойницам выставили пушки и пищали. Пять дней столица и подмосковные города сидели в осаде. Непривычно выглядели набитые перепуганными людьми, стариками, женщинами и детьми осадные дворы. Бежавшие под защиту стен посадские сжимали в руках топоры, копья, грубые казенные сабли и ждали сигнала, когда им идти на стены.
Татары не прошли. После перестрелки через Оку, в которой выявилось несомненное превосходство русского огнестрельного оружия над татарскими луками, русская конница перешла реку и атаковала врагов. В сражении у Николы Зарайского Ислам-Гирей был разбит, и 8 октября, как сказано в летописи, «пошел прочь». Торжествующий Василий III отпраздновал победу, приказав казнить находившихся в это время в Москве ни в чем не повинных татарских послов.
Саадат-Гирей поспешил отмежеваться от похода Ислам — Гирея, заявив, что это была его самодеятельность и Крым вовсе не враг России. В феврале 1528 года он прислал Василию III тайное письмо, в котором выдал замыслы своего соперника: «А дума их, что Оку перелезем да Московской город возьмем». Ислам-Гирея подбили на нападение его князья — Мемеш, Айдашка, Тенебек. Они рассчитывали, что взятие Москвы откроет ему дорогу к крымскому трону[253].
После этого поражения Крым несколько поутих. К тому же Василий III затеял привычную для русской дипломатии двойную игру, ведя переговоры одновременно с Саадат-Гиреем и Ислам-Гиреем, каждому обещая мир и дружбу, а Ислам-Гирею предлагая еще и политическое убежище на Руси, если он проиграет борьбу за ханский престол.
Периодические набеги, которые предпринимали татары, дело особо не меняли. Как обычно, злобу вымещали на послах — например, в 1531 году Саадат-Гирей ограбил русское посольство. Свои издевательства он объяснил тем, что ждет больших «поминок», а Василий III их все еще не прислал. Но глумление над беззащитными в чужой земле дипломатами — это, собственно, все, что в начале 1530-х годов Саадат-Гирей мог сделать против великого князя. Все его силы поглощали противостояние с Ислам-Гиреем, севшим на престол в Астрахани, и нейтрализация сторонников Сагиб-Гирея, которого он сумел в 1531 году выслать в Турцию. Однако хан не учел, что у бывшего казанского правителя слишком много друзей и сочувствующих среди крымской знати.
В ноябре 1531 года Саадат-Гирей заключил новый мирный договор (шерть) с Василием III. Дальнейший сценарий напоминал дежавю: вскоре, летом 1532 года, хан собрался в новый поход на Русь, но поход опять провалился из-за внутрикрымских проблем. Раздосадованный хан в качестве жеста вызвал из России своих послов и заявил о разрыве дипломатических отношений.
Последний при Василии III набег крымцев на Русь случился летом 1533 года. Ему предшествовала очередная серия переворотов в Крыму: в 1532 году на престол сел Ислам-Гирей, в 1533 году его сверг с помощью Турции бывший казанский хан Сагиб-Гирей. Василий III послал в Бахчисарай с поздравлениями сына боярского В. Левашева. Одновременно он вел тайные переговоры с Ислам-Гиреем, обещая принять того «в сыновство и в службу». Обрадованный Ислам-Гирей вернулся в Крым и тут же стал готовить нападение на своего нового русского господина и «отца».
В августе 1533 года удар Ислам-Гирея и Сафа-Гирея, командовавших войсками, был направлен на рязанские земли. 14 августа Василий III лично выступил с войском на защиту Москвы. Ставка великого князя была в Коломенском. Здесь он стоял до 21 августа. Но татары не стали испытывать судьбу и повторять неудачные попытки последних лет взломать русскую оборону на Оке. Они сожгли посад Рязани и разорили Рязанскую землю. Сагиб-Гирей хвастался, что захваченный полон достигал ста тысяч человек. Цифра, безусловно, завышенная, но военный успех крымцев в походе 1533 года несомненен.
Еще более трудно, чем с Крымом, складывались отношения с Казанью. Она вела себя традиционно: официальные заверения в вечной дружбе сопровождались нападениями исподтишка и периодическими попытками избавиться от зависимости от Москвы. В марте 1526 года очередные слова о том, что русский государь и татарский хан — друзья навек, привезли послы Казый и Чура. В 1527 году с ответной миссией Василий III отправил в Казань А. Ф. Пильемова. Он справился с поставленными задачами вполне успешно: в 1528 году между Россией и Казанским ханством был заключен очередной договор (шерть), казанцы принесли перед русским послом присягу, что будут его соблюдать.
Столь замечательно развивавшиеся события неожиданно обернулись полным крахом в 1530 году. Хан Сафа-Гирей учинил «срамоту велику» послу А. Ф. Пильемову, разорвал шерть. Василий III не стал церемониться и сразу же ответил карательным походом. Судовую рать возглавили И. Ф. Бельский и М. В. Горбатый, конную — М. Л. Глинский. Около 10–12 июля судовая и конная рати соединились под Казанью, около деревянного острога, который соорудили казанцы на реке Булаке как передовое укрепление на пути русских войск.
Татары возлагали на острог особые надежды. Но в ночь на 14 июля он был взят полком И. Ф. Овчины Оболенского. Противнику не помогли ни союзные черемисы, ни присланные ногайцами и астраханцами небольшие отряды конницы. Сафа-Гирей с лучшими воинами бросил «пушечное мясо» из простых воинников и «утече в город». Дальше версии источников расходятся. Согласно официальной летописи, русские начали артобстрел Казани и она быстро сдалась. Из города выехали князья Булат, Аппай и Тобай и заявили, что их в очередной раз попутал шайтан, они и не мыслили себя непокорными московскому государю. Были вновь принесены клятвы на верность и обещано, что ханство примет правителя только «из рук» Москвы. Воеводы развернули стяги, трубачи затрубили в трубы, и победоносная русская армия отправилась домой.
Но в ряде источников («Казанская история», Вологодско-Пермская летопись) эта благостная картинка выглядит иначе. Сафа-Гирей в своем бегстве промахнулся мимо Казани, удрал на Арское поле, а оттуда, решив не испытывать судьбу, взял курс на Астрахань. В итоге Казань осталась без хана. Жители по примеру правителя пустились бежать, городские ворота три часа стояли открытыми, а перед ними яростно ругались воеводы Михаил Глинский и Иван Бельский, кому из них первому войти в город и стяжать славу покорителя Казани. Пока князья выясняли, кто будет победителем, черемисская конница атаковала обоз, захватила гуляй-город и несколько орудий. Только после этого воеводы оставили распри, но ворота уже закрылись. Тогда-то и начался обстрел города, приведший к его сдаче[254].
Вернувшихся в Москву воевод ждал гнев великого князя. Василий III от нахлынувшей злости не знал, что с ними и сделать. Это же надо умудриться — суметь не войти в город с распахнутыми настежь воротами! Что толку от пустых клятв казанцев? Они их нарушат, как нарушали до этого. Выходит, воеводы зря ходили в поход — только взяли специально для них построенный деревянный острог и немножко постреляли из пушек по стенам. А в остальном — выслушали лживые обещания и пошли прочь.
Глупость и безответственность были налицо. А к концу правления Василий III относился к подобным акциям, порожденным тупостью и спесью знати, с особым раздражением. Глинского трогать он не стал — все-таки родственник жены, как раз в 1530 году бывшей на сносях: не дай бог беременная жена начнет переживать за опалу князя Михаила и чего случится! А вот И. Д. Бельского Василий III хотел казнить. Непутевого воеводу спасло только заступничество митрополита Даниила. Но до конца правления Василия III Бельский просидел в тюрьме.
Интенсивные переговоры с Казанью длились всю первую половину 1531 года. Русским дипломатам удалось найти союзников среди татарской аристократии, которые были согласны в главном: с Россией лучше жить в мире, чем воевать, лучше ликвидировать источники конфликта, чем его раздувать. Сторонников компромиссного решения возглавлял князь Табай. Он понимал, что глупо каждый раз при появлении русских войск под стенами Казани надеяться, что ими командуют воеводы вроде Бельского. В конце концов, русская армия вновь и вновь приходила под Казань, а не казанская под Москву. Рано или поздно это должно было плохо кончиться. Поэтому Табай решился на предательство: для спасения ханства надо свергнуть его правителя, Сафа-Гирея, и возвести на престол фигуру, устраивающую Москву. В мае русские послы в Казань сообщили: Сафа-Гирей арестован и изгнан в Ногайскую степь вместе с семьей. Власть захвачена Горшедной-царевной, мурзой Качигалеем и князем Булатом. Они прислали в Москву посольство, в котором отвергали кандидатуру Шигалея, но соглашались на Яналея из рода большеордынских Ахматовичей.
Яналею было 15 лет, с детства он находился на русской службе в контингенте служилых городецких татар. 29 июня 1531 года он был возведен на казанский престол и принес клятву на верность Василию III. Последнего вполне устроил случившийся переворот: от пятнадцатилетнего юноши не стоило ждать самостоятельной агрессивной политики, а к власти его привели люди, на лояльность которых можно было рассчитывать. До конца правления Василия III Казанское ханство проблем не доставляло.
В заключение расскажем об экзотическом эпизоде внешней политики России первой трети XVI века. В 1532 году были установлены дипломатические отношения с далекой Индией. Посольство в Россию отправил сам знаменитый Бабур, правитель Ферганы и Кабула, основатель державы Великих Моголов. Правда, добралось посольство до Москвы спустя два года после его смерти. Индийские дипломаты во главе с Хозя Усеином и не подозревали, что выполняют волю покойного правителя. Они предложили Василию III дружбу и братство[255].
Самое примечательное, что русский государь отказал Бабуру: надо сперва понять, является ли индийский государь прирожденным, потомственным государем или же просто «урядником». Достоин ли он быть «братом», то есть ровней Василия III? Визит, собственно говоря, закончился ничем — посольство Хози увезло в Индию непривычные вопросы московского государя и обратно уже не вернулось. Но сама ситуация, когда Василий III устроил проверку на государево достоинство самому Бабуру, весьма показательна. Она подчеркивает очень высокую самооценку русского монарха.
Западное направление внешней политики в последние годы правления Василия III было спокойным. Все драматические события здесь уже отшумели. Священная Римская империя и Ватикан осознали, что Россия не собирается вступать в унию с католическим миром, равно как и в антитурецкую лигу, и во многом потеряли к ней интерес. Среди европейских интеллектуалов потихоньку начал вызревать образ России как «антиевропы». Но всплеск антироссийских настроений и новый этап осмысления места русских на европейской картине мира наступят позже, в середине XVI века, в связи с первой войной России и Европы — так называемой Ливонской (1558–1583). В последние годы правления Василия III переговоры с империей шли очень вяло. В 1527/28 году от Карла V вернулись русские послы Ляпун Осинин и Андрей Волосатый. С ними приехал посол венгерского короля Фердинанда Клинчич. Затем в Венгрию отправились послы Мешок Квашнин и Шелоня Булгаков, которые ездили по Европе до 1531 года. Никаких существенных результатов эти дипломатические акции не имели.
Некоторую новизну в международную жизнь внесли интенсивные сношения России и Молдавии. Молдавские господари были давними партнерами московских государей, в 1492 году Иван III даже пытался их вовлечь в антиягеллонскую коалицию. Женой сына Ивана III, Ивана Молодого, была Елена Стефановна (Волошанка). Возобновлению отношений в конце 1520-х годов также способствовали родственные связи: молдавский господарь Петр Рареш (1527–1538) был женат на двоюродной сестре супруги Василия III Елены Глинской. В 1529 году в Москву прибыло молдавское посольство Думы Кузьмича и Томы Иванова, а в молдавскую столицу Сучаву отправился посол К. Замыцкий.
Но у России и Молдавии не было общей границы. Их разделяли владения Великого княжества Литовского и Крыма. Соответственно, торговля оказалась затруднена, военное сотрудничество тоже, и все свелось к выражению взаимных симпатий. Даже постоянные дипломатические контакты в начале 1530-х годов поддерживать было непросто: послов с трудом пропускали и татары, и литовцы. Молдавия была заинтересована прежде всего в помощи России против Турции и против Ягеллонов. Василий III с охотой откликнулся на эти предложения, в описях правительственных архивов XVI века есть следы договора Петра Рареша с Василием III[256]. Но имели ли место какие-то существенные договоренности или все свелось к заверениям в мире и дружбе — неизвестно.
С Великим княжеством Литовским в 1527–1528 и 1532 годах были продлены перемирия. Они заключались на пять-шесть лет, при этом литовская сторона не хотела признавать потерю Смоленска. Тем, что подписывался не мир, а всего лишь перемирие, король Сигизмунд I подчеркивал, что он не смирился с захватами его земель и готов воевать за них. С каждым перемирием, отдалявшим Россию и Литву от Смоленской войны 1512–1522 годов, шансы Великого княжества на возврат Смоленска становились все более призрачными. В Вильно это понимали, но поделать ничего не могли: выше головы не прыгнешь, Россия была сильнее. Василий III это осознавал, поэтому вел переговоры с твердых позиций и чувствовал себя в отношениях с Литвой весьма уверенно.
С Ливонией отношения развивались также по вполне традиционной схеме. С магистром и епископами они были ровными, нейтрально-настороженными друг к другу, но не более того. Собственно, этим двум ветвям Ливонской конфедерации было не до России — в Прибалтике бушевала Реформация. Первые свидетельства о ней встречаются в 1518 году, в письме дерптского архиепископа Иоанна Бланкефельда. С лета 1521 года лютеранские проповеди в Риге читал священник собора Святого Петра Андреас Кнопкен. Радикальную интерпретацию реформаторских учений с конца 1522 года распространял прибывший в Ригу из Ростока Сильвестр Тегетмейер. В 1523 году в ответ на письмо рижского синдика Иоанна Ломюллера Лютер выпустил специальное письмо на имя советов Риги, Ревеля и Дерпта и посвятил рижскому совету свое «Толкование на 127-й псалом». Обращение лидера реформационного движения горожанами Ливонии было воспринято с энтузиазмом.
В 1524 году по Ливонии прокатились погромы католических храмов. Горожане громили интерьеры, разбивали украшения и церковную утварь. Защитить соборы получалось только радикальными мерами: так, староста ревельской церкви Святого Николая Генрих Буш спас ее от погромщиков тем, что залил все замки расплавленным свинцом, и никто не смог попасть внутрь. Апокалиптические настроения населения подогревали участившиеся случаи бегства из католических обителей монахов и монашек, причем последние, к ужасу набожных дворян, еще и выходили замуж!
В 1525 году из Ревеля с позором изгнали монахов-доминиканцев, погромы происходили в Дерпте, Вендене, Феллине, Пернове. В Дерпте особую популярность приобрели проповеди скорняка из Швабии Мельхиора Гофмана, который говорил о скором наступлении Страшного суда, ненужности церковной организации и праве любого человека, не обязательно священника, совершать церковные обряды в качестве священнослужителя. В Риге Иоганн Ломюллер призвал горожан свергнуть власть архиепископа и перейти под покровительство исключительно магистра. В Ревеле были отпечатаны привезенные из Германии копии «12-ти статей» для бунтующего немецкого крестьянства, которые теперь распространялись среди эстонских крестьян. Словом, Ливонию трясло.
Политика ордена против Реформации была в высшей степени противоречивой. На Вольмарском ландтаге 1525 года магистр заключил с епископами союз на шесть лет о взаимной охране земельных владений. Религиозный вопрос было решено законсервировать, ничего не предпринимать до специального церковного собора. Но практически одновременно, 21 сентября 1525 года, магистр Вальтер фон Плеттенберг выдал Риге грамоту о ее полной религиозной свободе. Рига охотно признала магистра своим единственным господином.
Следующий эпизод борьбы ордена и епископов до конца неясен. 22 декабря 1525 года был арестован архиепископ Блакенфельд. Его обвинили… в подготовке унии о воссоединении церквей с православной Московией, в заключении тайного союза с Василием III! Поводом, судя по всему, послужила действительная помощь Блакенфельда послам папы, которые в очередной раз везли к Василию III предложение католической унии. Однако магистр почему-то усмотрел в этих переговорах угрозу независимости Ливонии. Вольмарский ландтаг 1526 года Бланкенфельда оправдал, но при этом провел постановление, что отныне все ливонские епископы должны присягать на верность магистру как своему сеньору. Таким образом, рыцарство одержало победу над церковью. Правда, только одно поколение нобилей сумело ею воспользоваться.
Таким образом, пока рыцарство и церковь с увлечением выясняли отношения, эпицентр русско-ливонских контактов сосредоточился в городах, в сфере торговли. Здесь также были конфликты. Например, в 1525 году ивангородский наместник князь В. И. Оболенский писал в Ревель, что ивангородцам, новгородцам и псковичам чинятся немалые притеснения и обиды, им не дают подводы и погреба, сажают в темницы без суда, мешают торговым сделкам, грабят имущество, в том числе на море, по отношению к ним не выполняют договорных обязательств и даже самого посла, который привез в Ревель эту грамоту с претензиями, «лаяли и каменьем шибали».
В источниках есть очень колоритное описание ревельской тюрьмы: «…теснота, господине, такова — друг на друге лежим, а из задка, господине, идет, воняет, от неволи человеку ести, кое з голоду не хотят умереть. А свету, господине, также мало: одно, господине, окно, и то перебито в две ряд железом, а окно, господине, невелико, а хоромина, господине, посадники ново зделана, ино, господине, дух тяжел, ино с тоски нам пропасть»[257].
Но несмотря на перспективу понюхать «задок» (то есть отхожее место) ревельской тюрьмы, русские купцы упрямо ехали в Прибалтику. Равно как и ливонские — в Россию. Экономические интересы преодолевали все политические препоны. Содержание же межгосударственных договоренностей между русской и ливонской сторонами, в том числе по торговой части, оставалось неизменным много лет. Договоры перезаключались в 1521, 1531 и 1535 годах[258].
A. Л. Хорошкевич справедливо заметила, что, несмотря на все запреты и конъюнктуры, всегда существовала контрабандная международная торговля Прибалтики и России. Хотя, по ее мнению, после 1514 года из-за мероприятий центральной власти позиции Новгорода и Пскова в ливонской торговле существенно ослабли. Зато стала расти роль Ивангорода — в 1514 году местный наместник запретил новгородским и псковским купцам ездить в Ригу. Он рассчитывал, что Иван-город тогда станет перевалочным центром торговли с Ливонией. Однако новгородские и псковские купцы поехали напрямую в Ригу и Дерпт. Тогда наместник в 1515 году ограничил возможности торговцев Нарвы: теперь они могли покупать русские товары только в Ивангороде. Отныне новгородцы и псковичи не могли везти свои товары в Нарву, им приходилось проезжать в другие ливонские торговые центры[259]. Это привело к быстрому распространению русских купцов по всей Ливонии, в том числе и в малых городах. Они торговали везде, несмотря на серьезный риск для жизни — бывало, что негоциант с товаром бесследно исчезал на территории Ливонии. После 1535 года ливонцы пытались запретить сухопутные перемещения из Ивангорода в Ревель, что било по карману русских купцов (им приходилось нанимать ливонских корабельщиков) и вызывало их активные протесты.
Неспокойно было на душе великого князя. Ему перевалило за пятьдесят. По меркам того времени, когда большинство населения с трудом преодолевало рубеж в тридцать лет, он мог считать себя долгожителем. Но было ясно, что рассчитывать на милость Бога с каждым годом все труднее. А ведь для того, чтобы поставить сына Ивана на ноги, требовались еще как минимум лет пятнадцать-двадцать…
Возможно, с этими эмоциями связаны довольно нервные действия Василия III в отношении знати в последние годы. Он пытался связать ее, а заодно население, паутиной клятв верности, поручительствами и обязательствами. Поведение великого князя выглядит немного наивным — уж кто-кто, а он сам должен был помнить, что клятвы еще никого никогда не останавливали. Самого Василия III не сдерживали точно, вспомним печальную судьбу Василия Шемячича да и другие эпизоды. Да вот поди ж ты… Государь хватался за соломинку, и своим давлением на аристократию добивался обратного эффекта: он только раздувал скептическое отношение к своей семье и к перспективам вокняжения Ивана Васильевича.
В 1527 году из заточения был выпущен князь Михаил Глинский. Это казалось бы радостное событие обернулось головной болью для множества народа. Василий III ввел систему двухстепенного поручительства. Князья Д. Ф. Бельский, В. В. Шуйский и Б. И. Горбатый ручались, что Глинский не сбежит. А еще 47 княжат, бояр и детей боярских должны были этому триумвирату пять тысяч рублей в случае, если побег состоится. Когда за тобой следят 50 человек, которые будут иметь колоссальные неприятности в случае твоего побега, — сбежать действительно невозможно. При малейших подозрительных действиях доносчики к трону Василия III в очередь встанут…
Помимо поручительств, Василий III стремился, насколько мог, ослабить позиции своих удельных братьев, от которых и исходила главная опасность наследнику. Он преследовал аристократов, желавших перейти на службу к Юрию Дмитровскому и Андрею Старицкому. В 1528 году в опалу попали А. М. и И. М. Шуйские за попытку отъезда к Юрию. Это были два молодых человека, которым оказалось неохота ждать при дворе Василия III, пока перемрут старшие представители рода и освободят для них приличные места. Вот они и захотели возвыситься сразу, при менее престижном дворе, зато с бблыиими перспективами карьерного роста. Однако этот службистский мотив Василий III не оценил. Братьев Шуйских арестовали, заковали в кандалы и разослали «по городам». На свободу они выйдут уже после смерти Василия III[260].
Как водится, 28 князей и детей боярских «добровольно-принудительно» выступили поручителями по Шуйским. Если последние сбегут из-под замка, то они платят две тысячи рублей. А непосредственно за Шуйских отвечали два главных поручителя — Б. И. Горбатый и П. Я. Захарьин.
В 1529 году присяга на верность была взята с князя Ф. М. Мстиславского. Его обвинили в намерении сбежать в Литву и заставили дать клятву. Подобные присяги с 1474 года практиковал еще Иван III, а затем и Василий III: в 1522 году крестоцелование принесли В. В. Шуйский и Д. Ф. Бельский, в 1524-м — И. Ф. Бельский, в 1525-м — И. М. Воротынский. Как и следовало ожидать, клятвы не помогали: в 1531 году Мстиславский был схвачен при попытке бегства где-то под Можайском. С высоты нашего времени трудно судить, в самом ли деле он хотел бежать или эпизод сфабриковали. Так или иначе, были следствие, обвинение и повторная присяга на верность — уже Василию III и его сыну Ивану одновременно.
15 августа 1531 года Василий III привел к присяге на верность Москве, Елене Глинской и великому князю Ивану Васильевичу целый город — Великий Новгород. С ним у государя были связаны воспоминания великокняжеской юности — при Иване III он короткое время был «князем новгородским». И теперь первым городом, присягнувшим его сыну, также оказывался Новгород. В честь этого события в кремле на берегу Волхова возвели деревянную церковь Успения, что подчеркивало значимость события — Богородица считалась покровительницей Руси и ее правителей.
24 августа 1531 года Василий III перезаключил прежние соглашения 1504 года с удельными братьями, Юрием и Андреем. В них был внесен только один новый пункт — о присяге на верность княжичу Ивану и признании именно его наследником престола. Братья присягнули великокняжескому младенцу. Принято считать, что они его ненавидели с пеленок, видели в нем источник зла, конкурента, соперника, отобравшего последний шанс на восшествие на трон всея Руси. Во всяком случае, через несколько лет Елена Глинская уничтожит страшной смертью и Юрия, и Андрея как раз по обвинению в попытке узурпации власти, государственной измене, неподчинении малолетнему государю.
В отношении Юрия больше оснований подозревать жажду власти. Во всяком случае, он продемонстрировал ее во время болезни и смерти Василия III, почему его арестуют почти сразу же после кончины государя. А вот Андрей Старицкий выглядит жертвой обстоятельств. Он подвергнется гонениям дважды, в 1534 и 1537 годах. И каждый раз традиционные обвинения в «мятеже» и «отъезде в Литву» будут выглядеть надуманно. Впрочем, мы слишком мало знаем о политических интригах московского двора, чтобы быть уверенными в тех или иных выводах.
Последние опалы и присяги на верность Василию III и его наследнику, которые успел затеять великий князь, относятся к декабрю 1532 года. Не повезло былому великокняжескому фавориту. За решеткой, да не где-нибудь, а в печально знаменитой Белозерской тюрьме, неожиданно оказался… бывший казанский хан Шигалей. Его обвинили в «ссылке» с Казанью без ведома Василия III. Вряд ли эту опалу можно связать с государевыми мероприятиями по укреплению позиций княжича Ивана — Шигалей был совершенно незначительной фигурой в придворной борьбе. Скорее всего, тут имел место донос, да и не хотелось Василию III, чтобы хрупкое равновесие русско-казанских отношений было опять нарушено, пусть и верноподданным Шигалеем.
Крестоцеловальная запись в том же году была взята с одного из политических лидеров старомосковского боярства М. А. Плещеева. Его обязали доносить на родных (а в отдаленных родственниках у него были представители многих московских высших служилых родов): «…человек какой ни буди, мой ли господин, или мой брат, или родной мой брат, или моего племяни кто ни буди»[261]. Особенно было оговорено, что Плещеев должен незамедлительно сообщать о всех попытках отравить великого князя или членов его семьи. Трудно сказать, почему московское боярство было оптом записано Василием III в отравители, но заметим наперед, что присяга не помогла. И Елена Глинская, и первая жена Ивана Грозного Анастасия, как сегодня доказано, умерли от яда, поднесенного заботливыми боярскими руками.
30 октября 1532 года Елена Глинская родила второго сына — Юрия. Василий III был счастлив безмерно. У него теперь был не только первенец, случайная смерть которого вернула бы все на круги своя. Сыновей было двое, а это означало, что династия не прервется и государь сделал главное дело своего правления — обеспечил стабильность, преемственность власти. После всех отчаяний, унижений, обидного чувства бессилия в той сфере, где неприменим государев указ, Василий III почувствовал себя вознагражденным судьбой. Он умрет через год, так и не узнав про злую насмешку этой самой судьбы: княжич Юрий окажется слабоумным, «несмыслен и прост и на все добро не строен». Судя по обрывочным описаниям, он был имбецилом или дауном, то есть страдал врожденным заболеванием, которое медицина XVI века у младенца, конечно, не смогла распознать…
21 сентября 1533 года Василий III вместе с женой и двумя сыновьями выехал из Москвы в традиционную богомольную поездку в Троице-Сергиев монастырь. 25 сентября он присутствовал на богослужениях в день памяти Сергия Радонежского. Отдав дань небесному, государь занялся земным и отправился в село Озерецкое на Волоке, где у него были охотничий домик и угодья для «государева прохладу». Прохладиться не получилось: ни с того ни с сего на внутренней стороне бедра, возле паха, появилась багровая опухоль размером с булавочную головку. Невнятная надежда, что великий князь просто натер промежность седлом, быстро улетучилась. Поднялась температура, начались боли, воспаление росло.
Историк А. Е. Пресняков, совместно с врачами изучивший информацию о болезни Василия III, пришел к выводу, что государь заболел гнойным периоститом в острой форме[262]. Периостит — воспаление надкостницы. Гнойная форма заболевания вызывается инфекцией и нередко поражает именно бедренные кости. Надкостница воспаляется, отслаивается, поражаются соседние ткани. Внутри них копится гной. Излечить болезнь, особенно в запущенной форме, можно только хирургическим путем. Иначе — гной попадает в кровь, возможно заражение крови и мучительная смерть. Больной конечности показан полный покой, чтобы не травмировать и без того расслаивающуюся кость.
Придворные медики ничего не знали ни о гнойных операциях, ни о покое. Вместо этого больной великий князь ездил из села в село, в надежде, что в дороге он забудется и боль пройдет. Из Озерецкого он поехал в село Нахабино Троицкого уезда под Москвой, оттуда — в село Покровское. 6 октября в честь Василия III тверской и волоцкий дворецкий И. Ю. Шигона дал пир в Волоколамске. Придворные с искренним энтузиазмом поднимали кубок за кубком за здоровье государя. Не помогло: после пира Василий III заболел настолько, что с трудом смог дойти до стоявшей во дворе «мыльни».
Государь решил не обращать внимание на болезнь и 8 октября собрался в волоколамское село Колпь на охоту. По его приказу туда были высланы ловчие, собаки, соколы. Превозмочь недуг не удалось: проехав две версты, Василий III чуть не упал с коня. Ослабевшего, измученного, испуганного государя отвезли обратно в Волоколамск. Туда прибыли врачи Николай Булев и Феофил, а также Михаил Глинский, который не преминул с умным видом дать несколько медицинских советов. Было решено лечить больного. К больному месту прикладывали пшеничную муку с пресным медом и печеный лук, что немедленно дало эффект: болячка воспалилась, «начала рдетися». Вскоре ее нарвало.
Две недели Василий III провел в Колпи в постели. Когда стало ясно, что ждать улучшения бессмысленно, он приказал нести его в Волоколамск. Нести на руках, на носилках, потому что перевозки на коне или в телеге он бы уже не выдержал. Василий III вообще-то своими победами заслужил, чтобы воины, дети боярские и княжата носили его на руках. Но все равно эта последняя процессия была горькой и печальной.
В Волоколамске, возможно из-за тряски при переходе, нарыв прорвался, и из опухоли вытекло много гноя («яко до полутаза и по тазу»). Наступила слабость, пропал аппетит. Василий III не мог заставить себя проглотить хоть ложку еды. Поняв, что дела плохи, он тайно приказал постельничему Я. И. Мансурову и дьяку Меньшому Путятину съездить в Москву и привезти завещания его отца и других Калитичей. Как образец. Надо было готовиться к смерти, а монарх даже в смерти себе не принадлежит. Нужно успеть отдать последние распоряжения.
Такие распоряжения могли быть обсуждены только коллективно — Василий III понимал, что у него уже не будет возможности проконтролировать их исполнение, вся надежда на соратников, душеприказчиков. Заседание узкого круга ближайших доверенных лиц состоялось у постели умирающего 26 октября. В нем участвовали дворецкие И. Ю. Шигона, И. И. Кубенский, князь М. Л. Глинский, бояре Д. Ф. Бельский и И. В. Шуйский, дьяк Меньшой Путятин. На встречу рвался князь Юрий Дмитровский, но его не пустили и приказали уезжать в Дмитров. Василий III хотел скрыть от удельного брата свою болезнь, опасаясь, как бы тот от близости вакантного трона не потерял бы голову и чего не учудил. Тайну вряд ли удалось полностью сохранить, но, так или иначе, Юрия не включили в число лиц, которые решали судьбу трона и династии. Следовательно, на него не делалось никаких ставок. Государь давно уже списал удельного правителя из числа тех, с кем можно иметь дело. Как тут не вспомнить горестную фразу начала правления Василия III, когда он сетовал, что братья в своих-то уделах по-человечески ничего не могут устроить, а туда же, лезут управлять всей Русью.
Какие решения были приняты на встрече — неизвестно. Есть свидетельства, что в октябре, перед совещанием с боярами, Василий III уничтожил старую духовную грамоту (1510 года). Значит, обсуждался вопрос о содержании новой. Но никаких подробностей мы не знаем.
6 ноября наступил кризис. Из раны ручьем тек гной, и вышел некий «стержень» длиной в несколько сантиметров. Видимо, из ноги с гноем и разложившимися тканями вышли части разложившейся надкостницы. Василию III на время полегчало, но тут опять вмешались врачи. Новый доктор, Ян Малый, решительно приступил к лечению воспаленных тканей мазями, от чего воспаление сделалось еще больше. Увы, медицина XVI века успешно боролась не с болезнью, а с остатками великокняжеского здоровья.
У постели Василия III вновь собрались советники, участники совещания 26 октября. К ним присоединились дьяки Е. Цыплятев, А. Курицын, Т. Раков. Решено было более не уповать на докторов, а надеяться на чудо. Для этого отвезти больного в Иосифо-Волоколамский монастырь и молиться о его выздоровлении. 15 ноября Василия III, обвисшего на руках князей Д. Курлятева и Д. Палецкого, втащили в Успенский собор обители, где он слушал последний в своей жизни молебен в некогда любимом и почитаемом монастырском храме. После этого почти неделю Василия III в специальной повозке, с частыми остановками везли до Москвы. 21 ноября он прибыл в село Воробьево. От москвичей и иностранных дипломатов болезнь продолжали скрывать.
23 ноября 1533 года Василий III последний раз въехал в Кремль. В тот же день прошло совещание с участием удельного князя Андрея Старицкого, бояр В. В. Шуйского, М. Ю. Захарьина, М. С. Воронцова, тверского дворецкого И, Ю. Шигоны, казначея П. И. Головина, дьяков Меньшого Путятина и Ф. Мишурина. Позже пригласили князя М. Л. Глинского, бояр И. В. Шуйского и М. В. Тучкова. Именно 23 ноября на этом совещании и были согласованы основные пункты духовной грамоты Василия III и составлено его завещание.
Оно до нас не дошло. Мы можем только предполагать, о чем шла речь, и реконструировать некоторые бесспорные положения. Наследником престола, великим князем и государем всея Руси объявлялся Иван IV Васильевич, которому исполнилось три года. Удельным князьям, Юрию Дмитровскому и Андрею Старицкому, предписывалось покориться этой монаршей воле. При этом тон в отношении Юрия (который в конце ноября прибыл в Москву со своими детьми боярскими в надежде как-то поучаствовать в дележе власти) должен был быть более категоричным и жестким, в адрес лояльного Андрея Старицкого — помягче.
Традиционно великие князья московские в своих завещаниях опять делили Русь между Калитичами, раздавали и перераспределяли новые уделы. То есть по идее в духовной должны быть очерчены владения братьев Василия III — Юрия и Андрея, и его младшего сына Юрия. Поскольку текста нет, мы может восстанавливать эти уделы только гипотетически, по факту выделения. В отношении Юрия Дмитровского это невозможно — ему ничего не успели выделить, арестовав вскоре после смерти Василия III. Андрей Старицкий в дополнение к своим старицким владениям, сохраненным в неизменном виде, получил Волоколамск. Юрий Васильевич, которому только что пошел второй год, стал правителем Угличского удела.
Главная интрига завещания Василия III, над которой ломают голову историки, — кому же он реально передал власть в стране, в которой официальный правитель, великий князь Иван Васильевич, оказывался младенцем на троне. Понятно, что трехлетний ребенок править не мог. А кто правил? И был ли приход к власти жены Василия III Елены Глинской исполнением последней воли Василия III или же узурпацией?
Официальная Воскресенская летопись, наиболее близко предстоящая описываемым событиям (создана в 1540-х годах), на сей счет выражается ясно и недвусмысленно: государь «приказывает великую княгиню и дети своя отцу своему Данилу митрополиту, а великой княгине Елене приказывает под сыном своим государьство дръжати до возмужениа сына своего»[263]. Однако автор Псковской Первой летописи утверждает, что Василий III велел до пятнадцатилетия великого князя блюсти его «своим бояром немногим»[264].
Большинство историков придерживаются мнения о передаче Василием III властных полномочий не Елене Глинской, а боярскому регентскому совету. Главным аргументом в пользу этой точки зрения служит то обстоятельство, что в Повести о болезни и смерти Василия III подробнейшим образом расписаны участники всех совещаний, бывших у постели умирающего государя. Именно на этих встречах решалась судьба страны. Но в них первична роль бояр-советников. Елена в них или вообще не участвовала, или играла роль статиста.
Что же касается персонального состава этого совета, то единства мнений здесь нет. Очевидно, что это были лица из числа тех, кто принимал участие в совещаниях у смертного одра Василия III. Но вот сколько было таких лиц? (Историки говорят о «семибоярщине», «десятибоярщине» или, напротив, о двух-трех особо доверенных людях.) И кто входил в их число? Как показал историк М. М. Кром, наиболее предпочтительными выглядят кандидатуры М. Л. Глинского, М. Ю. Захарьина и И. Ю. Шигоны[265]. Опекуном малолетнего великого князя Ивана стал митрополит Даниил.
Летопись рисует нам драматические моменты последних часов государя, его прощания с супругой. Елена кричала и плакала, и государь, сам дико, до криков, страдавший от боли, даже не смог сделать ей последнего напутствия, но «отослал ее сильно». Поцеловал на прощание и велел уходить. Она не хотела, упиралась, но ее увели. Василий III скончался в мучениях в ночь с 3 на 4 декабря 1533 года. Перед самой кончиной он принял монашеский постриг с именем Варлаам. Похоронен в родовой усыпальнице Калитичей — Архангельском соборе Московского Кремля.
Подводить итоги человеческой жизни всегда непросто. Еще сложнее, если речь идет о политике, чья биография неотделима от государственной деятельности. О результативности прожитого можно судить по тому, насколько удалось поцарапать земную кору, в жизни скольких людей ты сумел оставить след, насколько смог не растерять себя, не погасить заложенную в тебя искру Божью, сохранить душу и честь. Василий III не предал своего предназначения, жил в мире с самим собой, хотя многие его поступки не безгрешны. Но он сделал, что сумел, и вряд ли на смертном одре мог себя упрекнуть, что не сделал больше. Самые неприятные страницы его жизнеописания — это отношения с семьей, братьями и женами. Но тут он жестко следовал принципу политической целесообразности; это скорее драма, личная трагедия монарха, по определению обреченного рассматривать родственников и близких лишь как расходный материал в строительстве величественного здания Государства Российского.
Главным в оценке личности Василия III будет все равно политическая составляющая, его государственная деятельность. Каково его место в российской истории? Относится он к добрым гениям или роковым фигурам? Или его эпоха полна рутины, обыденности, лишена ярких страниц — эдакий средневековый «застой»? Ведь народная память не запомнила Василия III — фольклор наглухо молчит. Образ Василия III мало привлекал писателей, поэтов, художников[266]. Да и историческая память подводит. В 2008 году телеканалом «Россия» проводился опрос «Имя России». Василий III не попал ни в список из двенадцати, ни в список из пятидесяти имен (составленных по результатам обработки более сорока четырех миллионов голосов). Он упоминается только в исходном перечне из пятисот имен, подготовленном Институтом российской истории РАН. Но туда автоматически вошли все правители Русского государства любых эпох, так что «список 500» — не показатель.
Раз общество молчит, вердикт должны вынести историки. Как изменился облик страны за четверть века правления Василия III?
Прежде всего, значительно вырос статус великокняжеской власти, пусть это и не нашло выражения в новых титулах. Василий III так и не стал царем, но поменялись реалии. Когда он унаследовал московский престол, несмотря на все свои преимущественные властные прерогативы, он все же был вынужден сосуществовать с целой удельной системой, несколькими княжествами, возглавляемыми удельными князьями. После его смерти эта система была сведена к крайне малым величинам, уже являвшим собой абсолютное ничтожество.
Конечно, в какой-то степени сказалась бездетность Василия III: неизвестно, как повернулось бы дело, если бы у него было столько же детей, сколько у Ивана III. Избежал бы государь соблазна раздать потомкам уделы или же опять возродил бы систему, против которой боролся всю жизнь? Но так или иначе, а единоличная власть русского монарха вышла из эпохи Василия III сильно укрепленной. Тем более что именно в первой трети XVI века, в основном в иосифлянской среде, интенсивно осмысляются и формулируются политическая доктрина «Сказания о князьях владимирских», концепция прав и обязанностей, генеалогии власти православного монарха, идея ее мессианского облика.
Системные и идеологические изменения во власти сопровождались переменами в ее институциональном облике. Боярская дума так и осталась сообществом советников при государе без определенного круга полномочий и властных прерогатив. Ее бюрократизация, равно как и приобретение некоторых черт коллегиального органа управления страной, как показано М. М. Кромом, произойдет только в период «боярского правления». Однако за годы правления Василия III, как отметил А. А. Зимин, сформировался механизм карьерного продвижения при дворе по двухступенчатой модели: окольничий — боярин[267]. К концу его правления состав думы стабилизировался, в нее входили 11–12 бояр и двое — четверо окольничих. Именно эта модель карьерной стратегии в дальнейшем будет усвоена и развита Иваном Грозным.
При Василии III выросла роль дворцовых учреждений, прежде всего в силу того, что именно дворцы управляли выморочными княжескими, бывшими удельными землями. С начала XVI века дворецкие стали главными судьями по земельным делам светских и духовных феодалов (самая первая известная грамота о суде дворецкого датируется 1507 годом). В эту эпоху оформляется и получает дальнейшее развитие дворцовая система (Большой дворец и целый ряд региональных дворцов). В связи с расширением судебных полномочий дворцы нуждаются в судебных исполнителях — в конце правления Василия III возникает особая категория дворцовых неделыциков[268]. Дворцы и другие государственные учреждения обрастали дьяками и подьячими, которых за годы правления Василия III известно 121 человек[269].
В последнее время ряд исследователей связывают с эпохой Василия III и попытки преобразования органов управления на местах, в частности учреждение особых выборных должностей, занимавшихся сыском по мелким уголовным делам в рамках губы (округа). Эта реформа, получившая название губной, получит развитие в конце 1530–1540-х годах, но ее следы (или признаки подготовки к ней) можно найти и во времени Василия III[270]. А ведь позже из этих преобразований выльются реформы органов местного управления в России XVI века — и уже упомянутая губная, и земская 1550-х годов.
Восточную политику Василия III в целом можно оценить как успешную. Она развивалась в сложных условиях: из друга врагом стал Крым, бунтовала Казань, нужно было налаживать отношения с новым могущественным и опасным партнером, Османской империей. На всех этих направлениях не было достигнуто кардинальных прорывов, но и не допущено серьезных провалов. Даже ужасающее крымское нашествие 1521 года осталось эпизодом русско-крымских отношений. Деятельность Василия III, его дипломатов и воевод на восточном направлении — неяркая, но тяжелая повседневная работа. С которой Василий III справился.
На западном направлении была достигнута стабильность в отношениях с Ливонией и Ганзой, продолжена политика территориальной экспансии в отношении Великого княжества Литовского. Наивысшим успехом этой политики было взятие Смоленска. При Василии III состоялось «открытие Европой России», была активная попытка включить ее в «христианский мир» через католическую унию и пожалование Василию III титула короля из рук императора Священной Римской империи и римского папы. Русский монарх отверг европейский выбор, и в этом плане его правление может считаться судьбоносной, поворотной точкой в отношениях России и Европы. Поворот, начатый Василием III, завершит его сын, Иван Грозный, и именно при нем из-за Ливонской войны и появления страшной европейской «иванианы», комплекса сочинений, рисующих самыми черными красками и русских монархов, и страну, и население, Россия окончательно превратится в пугало для Запада.
При Василии III это только начиналось. К концу его правления «горячая фаза» отношений с Западом однозначно и по всем позициям сменилась на «холодную» (что было связано во многом с разочарованием европейских политиков в перспективах сотрудничества с русскими). Была рутина: туда-сюда «ходили» купцы, ездили гонцы и мелкие посольства с малозначительными грамотами, в пограничье по-прежнему потихоньку резали и грабили друг друга обе стороны. На западных рубежах было все спокойно.
Говоря о месте державы на мировой арене, надо упомянуть и о территориальном приращении России за счет исконно русских земель, в начале правления Василия III еще формально независимых: Псковской земле и Рязанском княжестве. Собственно, Василий был последним государем, который присоединял суверенные русские государства. Все остальные монархи, и Калитичи, и Романовы, завоевывали уже либо совсем чужие страны (Казанское и Астраханское ханства, Ливонию), либо земли, в древности входившие в состав русских территорий, но в XVI–XVII веках уже давно и прочно вошедшие в состав Великого княжества Литовского (Речи Посполитой).
Таким образом, сомневаться в масштабах деяний Василия III не приходится. В них явно больше положительного и полезного для страны, чем неудач и потерь. Тем не менее в нашем перечислении заслуг Василия III от внимательного читателя не ускользнет одна деталь. Эти заслуги высвечиваются в основном при сравнении времени Василия III с эпохами Ивана III или Ивана Грозного. Данное обстоятельство подтверждает мнение о том, что правление Василия III — это переходный период. Когда происходило превращение Великого княжества Московского и государства всея Руси в Российское царство.
И самодержавный царь Василий, который «только по своему естеству человек, а по власти — земной Бог» (как называл своего обожаемого монарха лидер иосифлян Иосиф Волоцкий) и был демиургом этого процесса. Строителем, творцом. Менее ярким, чем отец, менее ужасающим и впечатляющим, чем сын. На его долю пришлась рутинная созидательная работа. Такие правители в истории держав необходимы, хотя никогда и не входят в «Топ-50» национальных лидеров.
1479, ночь с 25 на 26 марта — в семье Ивана III и Софьи Палеолог родился сын Василий.
4 апреля — крещен в Троице-Сергиевом монастыре ростовским архиепископом Вассианом Рыло и троицким игуменом Паисием.
До 1486 — от имени князя Василия выдан первый официальный документ, подтверждение жалованной грамоты Троице-Сергиеву монастырю 1454 года.
1490, октябрь — Василий получил формальные управленческие полномочия в Тверской земле.
1491–1492 — лишился Тверского княжения и получил полномочия в отношении Костромы.
1493–1494 — в дополнение получил управленческие полномочия в Ростовской земле.
1495, октябрь — первый раз официально оставлен на Москве с управленческими полномочиями.
1497, август — опала со стороны Ивана III за связи с заговорщиками.
Декабрь — Василий помещен под домашний арест по обвинению в участии в заговоре Владимира Гусева.
1499 — переговоры с Данией о возможной женитьбе Василия на дочери датского короля, принцессе Елизавете.
21 марта — провозглашен государем и великим князем Новгородским и Псковским. Псков Василия не принял.
1500 — инцидент на Свинском поле под Вязьмой, покушение на жизнь Василия. Выдача им жалованных грамот в Новгороде Великом
1501 — получает руководство судебными делами на Белоозере, выдает жалованные грамоты в Твери.
1502, 14 апреля — Василий III официально провозглашен наследником престола.
1503, 17 апреля — смерть матери Василия, Софьи Палеолог.
21 сентября — 9 ноября — богомольная поездка Василия III в Троице-Сергиев монастырь, святые обители Переславля, Ростова, Ярославля.
1504, до 16 июня — написано завещание государя всея Руси Ивана III, по которому определялись размеры владений и полномочия Василия III.
16 июня — договор Василия III и его брата Юрия Дмитровского о разделе владений.
1505, 4 сентября — женитьба на Соломонии Сабуровой.
27 октября — смерть отца Василия, Ивана III. Приход Василия III к власти.
7 декабря — от имени Василия III послана первая дипломатическая миссия (в Крымское ханство).
1506, апрель — июнь — по приказу Василия III состоялся первый крупный поход на Казань. Военная неудача.
Август — крымские послы перед Василием III подтвердили мирные договоренности России и Крыма, как было при Иване III.
20 августа — умер великий князь Литовский Александр Ягеллончик, женатый на сестре Василия III Елене Ивановне. Василий III предпринимает неудачную попытку побороться за литовский престол.
1507 — в соответствии с завещанием Ивана III Василий III образует Калужский удел и передает его своему брату Семену.
Февраль — по челобитью Иосифа Волоцкого Василий III принимает под личное покровительство Волоколамский монастырь.
Март — начало третьей порубежной войны России с Великим княжеством Литовским. Василий III осуществляет верховное командование русскими войсками из Москвы.
Июль — первое нападение Крымского ханства на русскую границу.
1508, январь — в Москву привезли договор с Казанским ханством, на котором принес присягу (шерть) хан Мухаммед-Эмин. Восстановление Василием III русского протектората над Казанским ханством.
Март — переговоры Василия III и литовского князя Михаила Львовича Глинского об условиях его перехода на сторону Москвы.
7 мая — Василий III въехал в новый дворец в Московском Кремле.
Август — переход М. Л. Глинского в подданство Василия III. Василий III и Менгли-Гирей заключили мирное соглашение.
19 сентября — 8 октября — переговоры в Москве с посольством Великого княжества Литовского. Василий III подписывает «вечный мир». Литва признала утрату Северских и Верховских земель, потерянных в ходе первой и второй порубежных войн.
3 октября — перенос по приказу Василия III захоронений великих князей в новую усыпальницу, Архангельский собор Московского Кремля.
1509, 14 февраля — в тюрьме умер великий князь Дмитрий Иванович, главный соперник Василия III в борьбе за великокняжеский престол.
Март — Василий III на 14 лет продлил перемирие с Ливонским орденом.
24 июня — Василий III послал милостыню афонскому Пантелеймонову монастырю.
23 сентября — выезд Василия III из Москвы в Великий Новгород. Начало кампании по присоединению Пскова.
Осень — составление Василием III во время Псковского похода первого варианта завещания (духовной грамоты).
1510, 24 января — въезд Василия III в Псков. Приведение населения к присяге на верность Василию III, ликвидация независимости Псковской республики.
21 июля — прием Василием III в Кремле царицы Нур-Салтан, одной из жен Менгли-Гирея, совершавшей поездку из Крыма в Казань.
8 сентября — 5 декабря — богомольная поездка Василия III в обители Переславля, Юрьева-Польского, Суздаля, Владимира и Ростова Великого.
1511, январь — Василий III наложил опалу на своего брата, князя Семена Калужского.
1512 — отказ Василия III от активной политики на Поле, пограничной территории с Крымским ханством.
Февраль — казанский хан Мухаммед-Эмин подтвердил свою присягу на верность Василию III.
Осень — арест в Литве сестры Василия III великой княгини Елены.
14 ноября — начало Смоленской (четвертой порубежной) войны России и Великого княжества Литовского.
19 декабря — Василий III во главе армии выступил в поход на Смоленск.
1513, январь — февраль — первая осада Смоленска.
17 марта — после возвращения Василия III в Москву принято решение о втором Смоленском походе.
Май — после смерти Федора Волоцкого его выморочный удел отошел Василию III.
9 мая — утвержден мирный договор России и Швеции на 60 лет.
14 июня — Василий III выступил во второй Смоленский поход.
22 сентября — 1 ноября — вторая осада Смоленска.
Декабрь — поездка Василия III в Новую (Александровскую) слободу и Троице-Сергиев монастырь.
1514, февраль — принято решение о третьем Смоленском походе.
2 февраля — прием Василием III делегации Священной Римской империи во главе с Георгом Шнитценпаумером фон Зоннег. Начало переговоров о военно-политическом союзе России и империи.
7 марта — имперский посол Георг Шнитценпаумер фон Зоннег выехал из Москвы с договором о военно-политическом союзе, подписанным Василием III.
Апрель — первые русские отряды появились под стенами Смоленска.
8 июня — Василий III вышел из Москвы в третий Смоленский поход.
30–31 июля — Смоленск капитулировал перед войсками Василия III.
4 августа — император Священной Римской империи Максимилиан утвердил свой вариант русско-имперского договора.
10 августа — Василий III подтвердил привилегии Смоленска. Город присоединен к Российскому государству.
8 сентября — поражение русской армии под Оршей.
Декабрь — Василий III отверг предложения имперской делегации о новом варианте договора и имперском посредничестве в русско-литовских противоречиях.
1515, 22 мая — Василий III согласился заключить военно-политический союз России и Тевтонского ордена.
Сентябрь — ноябрь — поездка Василия III по монастырям, в Троице-Сергиев монастырь, Переславль и Ярославль.
1516, 9 августа — Василий III утвердил договор с Датским королевством.
1517, 10 марта — Василий III утвердил договор России и Тевтонского ордена.
22 апреля — начало переговоров с Василием III имперского посла Сигизмунда Герберштейна.
26 июня — после смерти князя Семена Калужского его выморочный удел отошел Василию III.
Август — русская армия под командованием Василия III отразила нападение войск Крымского ханства.
24 октября — Василий III в Кремле принимал победные реляции псковских воевод, отразивших нападение литовских войск на Опочку.
12 ноября — окончание переговоров Василия III с имперской и литовской делегациями. Провал переговоров.
1518, июнь — богомольная поездка Василия III в Троице-Сергиев монастырь.
4 июня — римский папа Лев X пригласил Василия III к участию в крестовом походе против турок и вступлению в лоно католической церкви.
16 сентября — Василий III отправил в Крым проект союзного договора.
1519 — Василий III выделил удел своему младшему брату Андрею Старицкому.
1 марта — Василий III принял присягу нового казанского хана Шигалея, своего ставленника.
1 мая — Василий III в Москве утвердил русско-крымский военно-политический договор.
Май — богомольная поездка Василия III в Николо-Угрешский монастырь.
1520, лето — Василий III приказал послать судовую рать в поход на Астраханское ханство. До Астрахани войска не дошли.
1521, 14 февраля — после смерти князя Дмитрия Угличского его выморочный удел отошел Василию III.
Май — Василий III принял в Москве бежавшего из Казани свергнутого хана Шигалея.
28 июня — 12 августа — нападение на Москву крымского хана Мухаммед-Гирея. Василий III выдал ему кабальную грамоту о покорении Руси Крымскому ханству.
Август — осада Рязани Мухаммед-Гиреем. Уничтожение кабальной грамоты Василия III воеводой И. Хабаром.
1 сентября — продление перемирия и заключение торговых соглашений между Россией и Ливонией.
1523, апрель — вероломный арест Василием III князя Василия Шемячича, обманом вызванного в Москву.
23 августа — Василий III прибыл в Нижний Новгород. Начало подготовки к крупному походу на Казань.
Сентябрь — основание Васильсурска как опорной крепости для осады Казани.
Осень — обсуждение вопроса о возможном разводе Василия III с Соломонией Сабуровой на заседании Боярской думы.
1524–1526 — монах Псковского Елеазарова монастыря Филофей обратился к Василию III с письмом, в котором изложил доктрину «Москва — Третий Рим».
1524, май — август — большой казанский поход войск Василия III. Казань капитулировала.
Май — начало строительства по приказу Василия III московского Новодевичьего монастыря.
24 мая — римский папа Климент VII предложил Василию III королевский титул, вступление в антитурецкий союз и католическую унию.
24 ноября — начало переговоров казанских дипломатов с Василием III об очередной присяги Казани на верность Москве.
1525, февраль — начало процесса над Максимом Греком и Берсенем Беклемишевым, инспирированного по приказу Василия III.
Апрель — заключение Василием III договора с Крымским ханством.
28–30 ноября — «сыск о неплодстве» и низложение жены Василия III, Соломонии Сабуровой. Насильное пострижение Соломонии.
1526 — отправка Василием III специальной комиссии в Суздальский Покровский монастырь для выяснения правдоподобности слухов о беременности инокини Софии (бывшей Соломонии Сабуровой) и рождении у нее сына. Комиссия слухи не подтвердила.
21 января — свадьба Василия III и его второй жены, Елены Глинской.
24–26 декабря — Василий III молился в Тихвинском Богородичном монастыре «о плодородии чрева».
1527 — продление перемирия между Россией и Великим княжеством Литовским.
Василий III взял поручную грамоту и присягу на верность с отпущенного из тюрьмы Михаила Глинского.
Сентябрь — октябрь — Василий III руководит отражением нападения крымских войск Ислам-Гирея.
1528 — Казанское ханство принесло новую присягу на верность Василию III.
Василий III наложил опалу на князей А. И. и И. М. Шуйских за попытку отъезда к князю Юрию Дмитровскому.
Сентябрь — ноябрь — большая богомольная поездка Василия III в Переславль, Ростов Великий, Ярославль, Вологду, Белозерский Кириллов монастырь.
1529 — начало интенсивных дипломатических контактов Василия III с Молдавией.
Василий III наложил опалу и взял присягу на верность с князя Ф. М. Мстиславского.
1530, июль — август — по приказу Василия III поход русских войск на Казань в ответ на разрыв договора ханом Сафа-Гиреем.
25 августа — рождение у Василия III первенца, сына Ивана.
1531 — процесс над Максимом Греком и Вассианом Патрикеевым.
Продление перемирия и заключение торговых соглашений между Россией и Ливонией.
Василий III взял повторную присягу на верность с князя Ф. М. Мстиславского.
29 июня — возведение на престол Казанского ханства хана Яналея и принесение им присяги на верность Василию III.
15 августа — присягу на верность Василию III и его сыну Ивану принесли жители Великого Новгорода.
24 августа — Василий III перезаключил соглашения с удельными князьями Юрием Дмитровским и Андреем Старицким, внеся в них пункт об их подчиненности и верности своему сыну Ивану.
17 сентября — 19 ноября — вместе с женой Еленой Глинской и младенцем Иваном (будущим Иваном Грозным) Василий III ездил в Троице-Сергиев монастырь, Волок и Можайск.
Ноябрь — Василий III заключил новый мирный договор с Крымским ханством.
1532 — продление перемирия России и Великого княжества Литовского.
Сентябрь — Василий III принимал индийское посольство.
22 сентября — 3 октября — Василий III был на молитве в Троице-Сергиевом монастыре.
30 октября — у Василия III родился второй сын Юрий.
Декабрь — Василий III подверг опале и аресту бывшего казанского хана Шигалея.
1533, 10–19 марта — Василий III ездил на богомолье в Николо-Зарайский монастырь.
14–21 августа — Василий III лично командует обороной Москвы от нападения крымских войск Ислам-Гирея и Сафа-Гирея.
21 сентября — 21 ноября — последняя поездка Василия III на богомолье в Троице-Сергиев монастырь и затем на охоту под Волоколамск. Болезнь великого князя.
23 ноября — Василий III в последний раз въехал в Кремль. Совещание с боярами, составление завещания Василия III.
Ночь с 3 на 4 декабря — смерть Василия III.
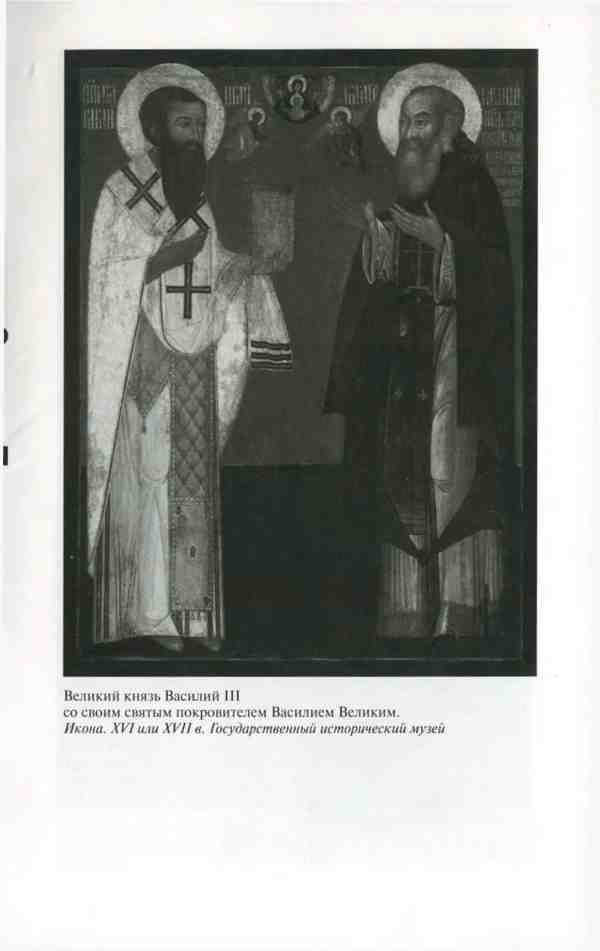
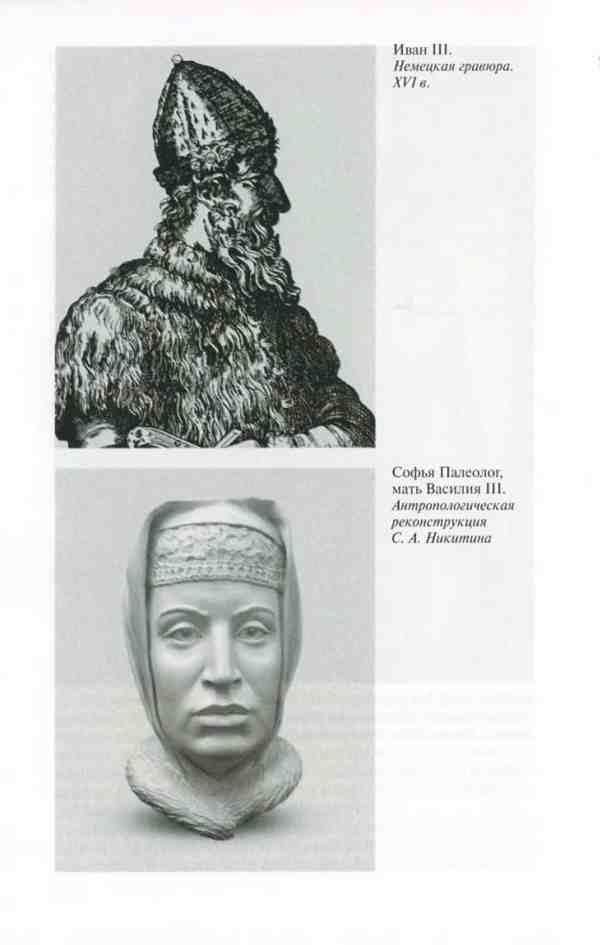
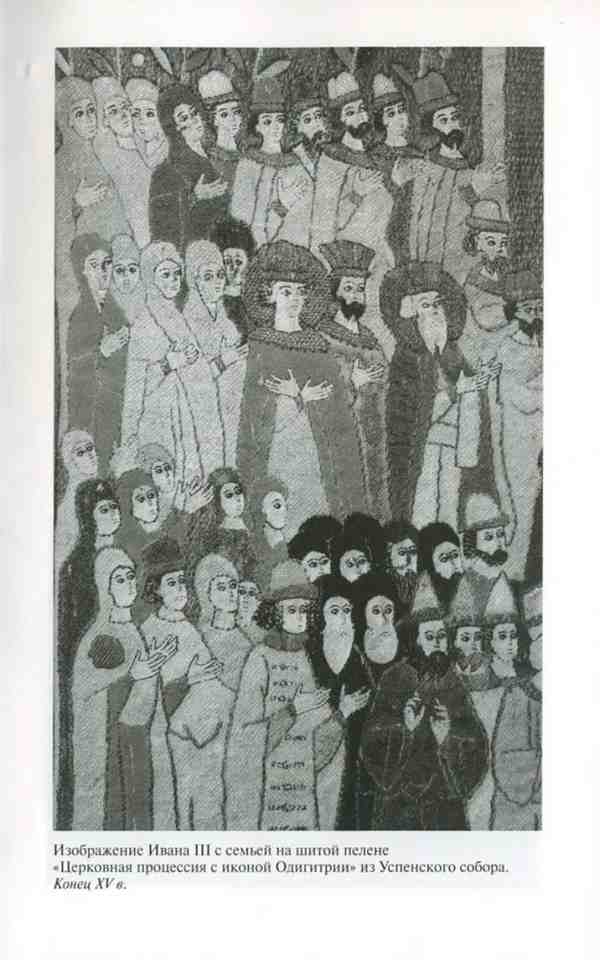
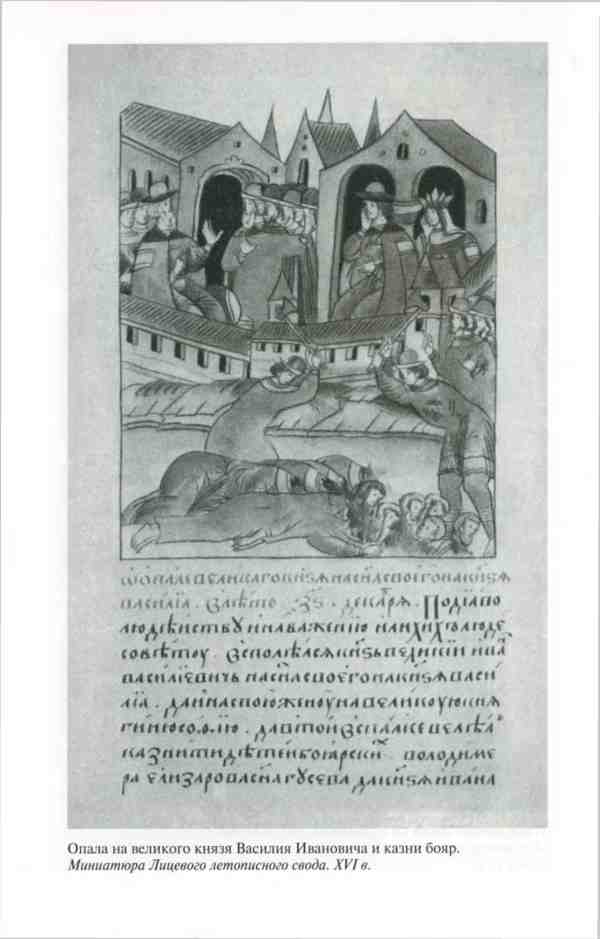
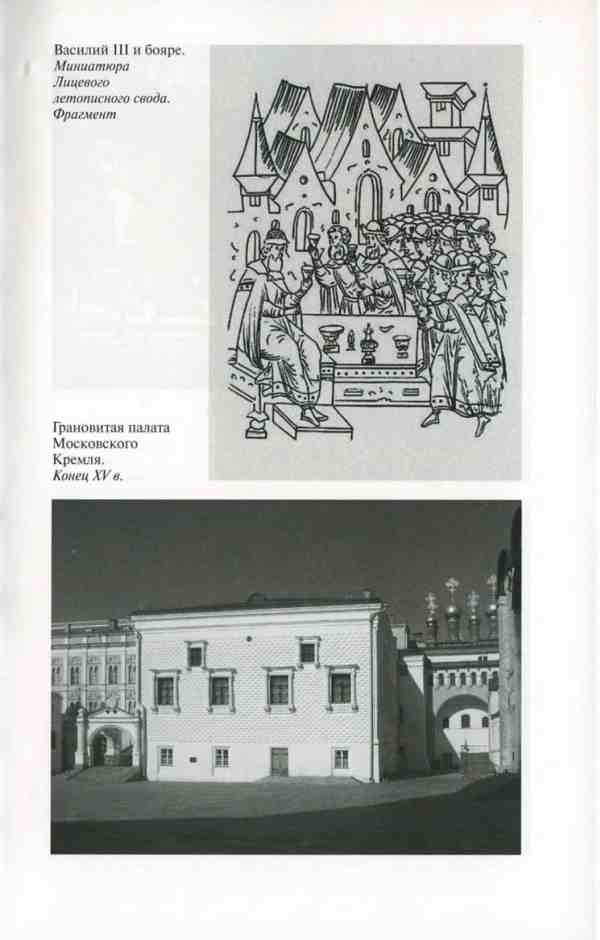

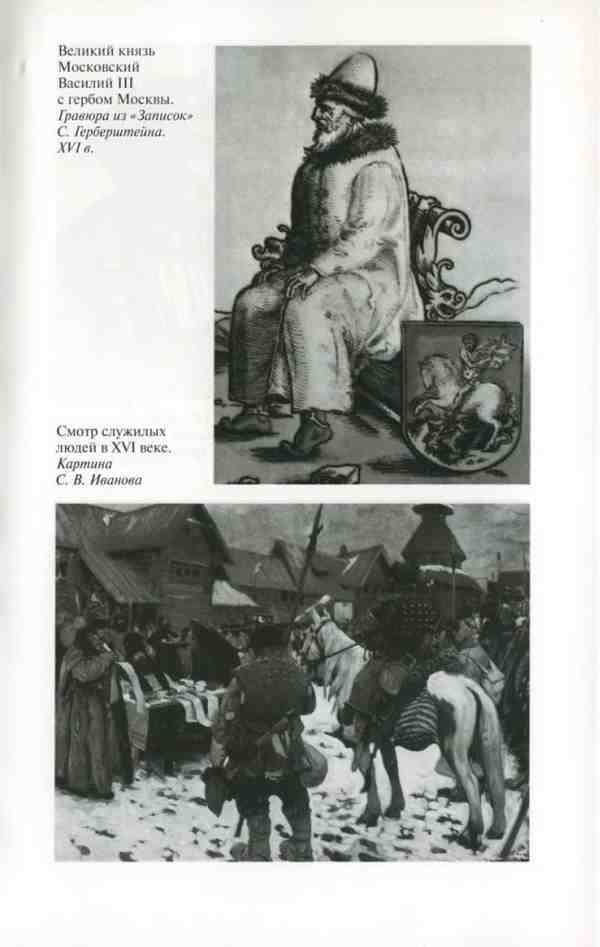
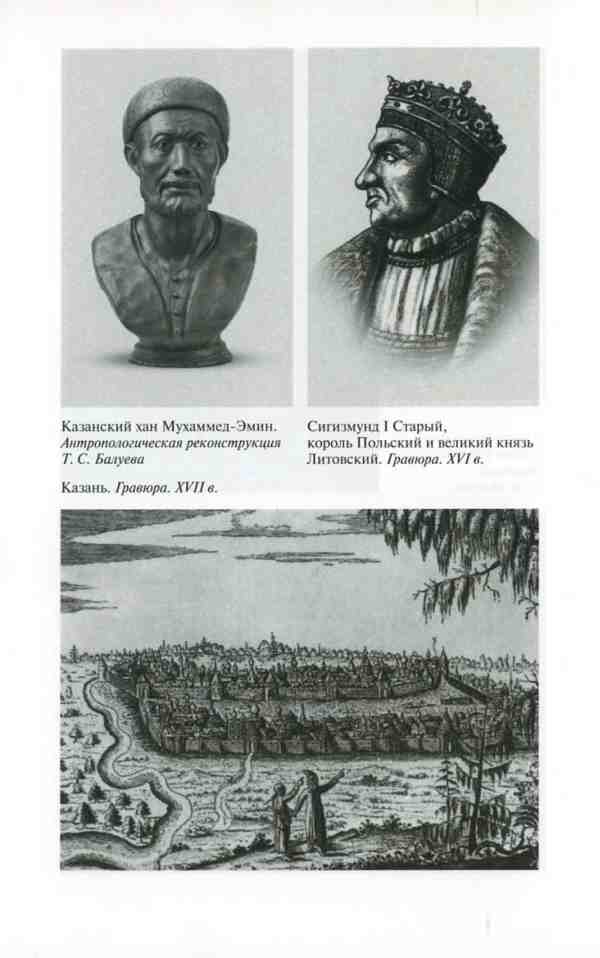
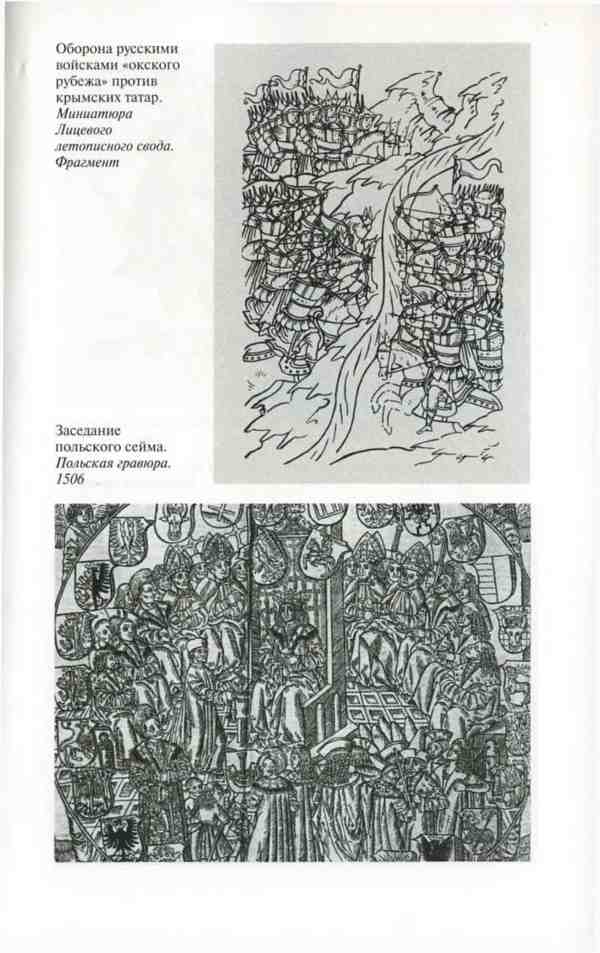

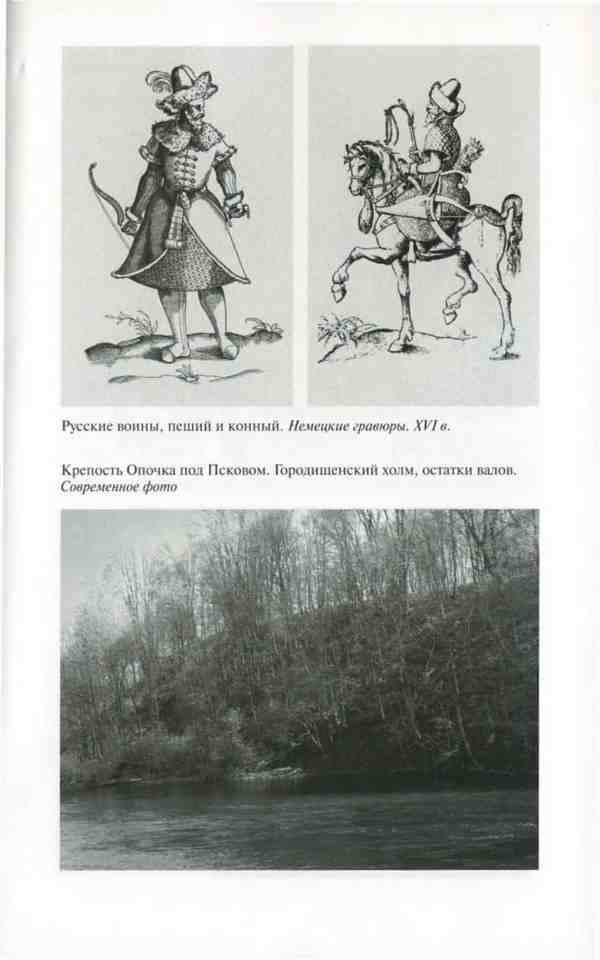
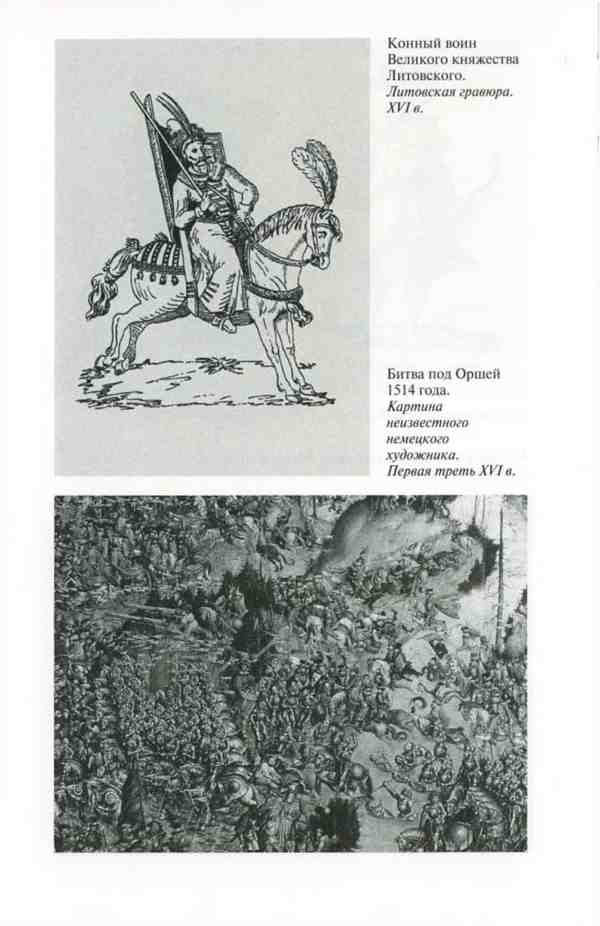

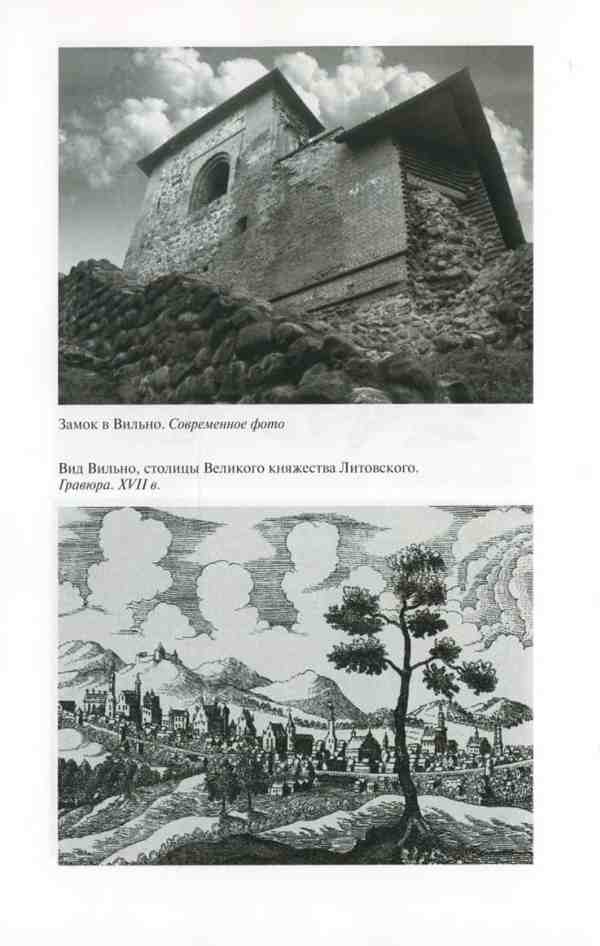
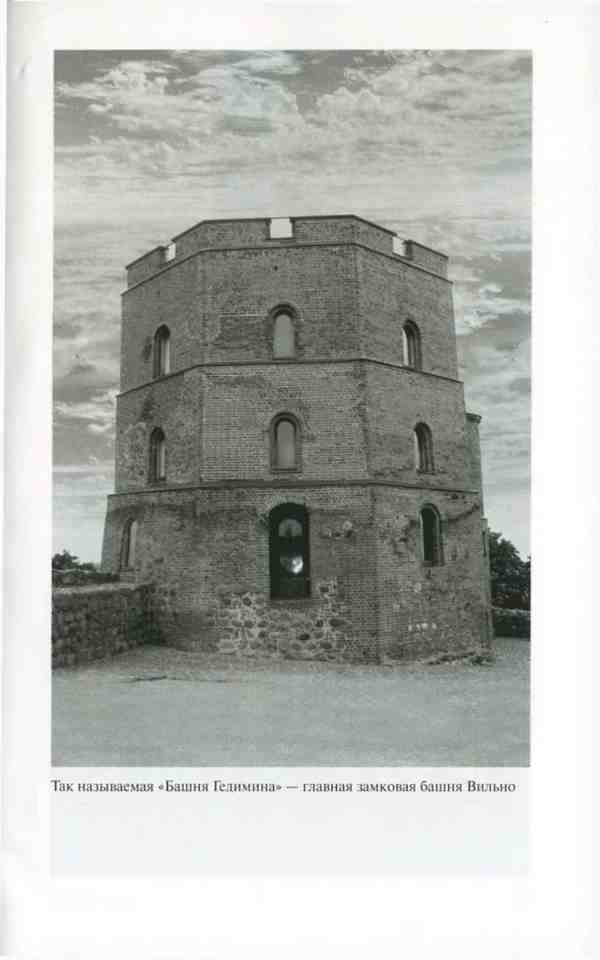
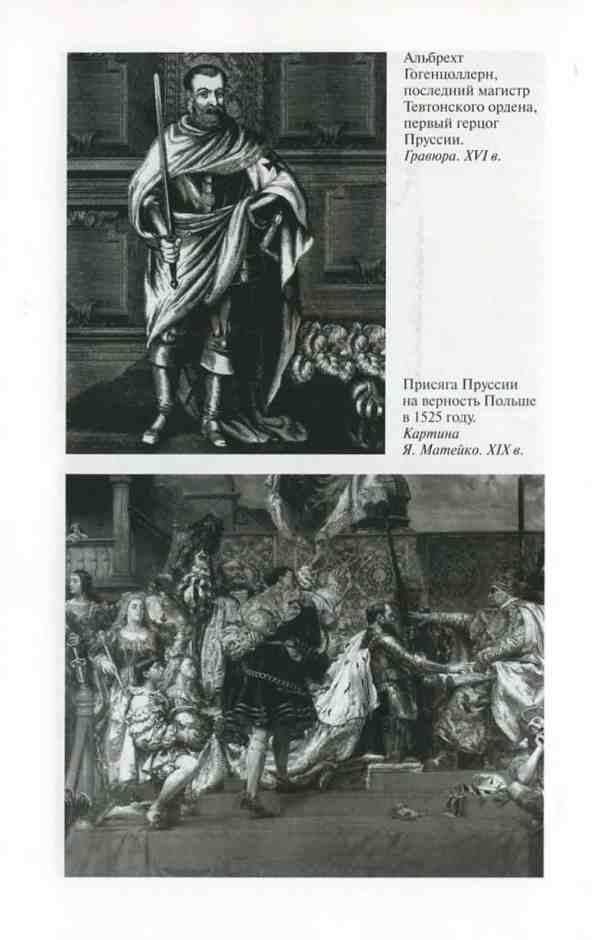
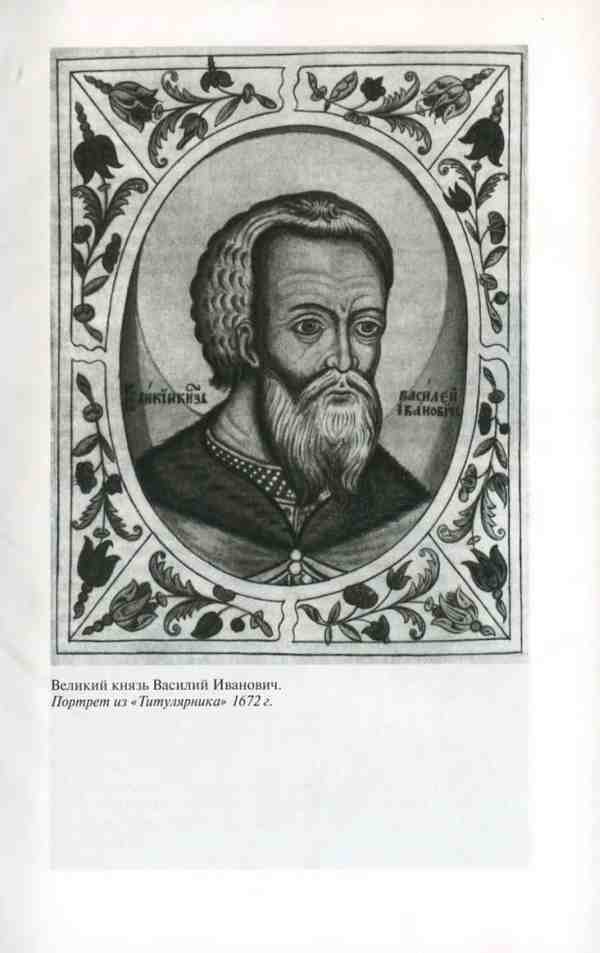
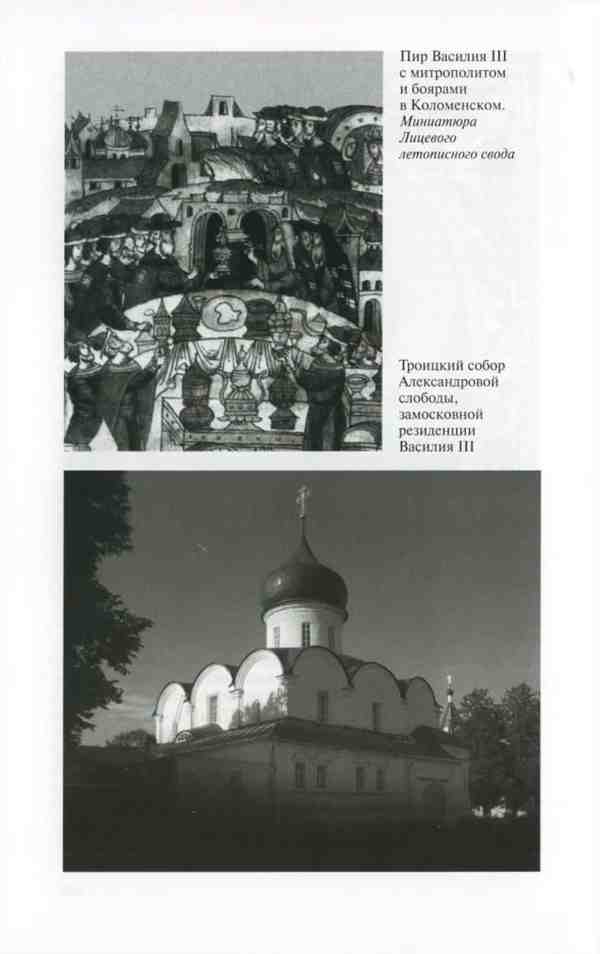
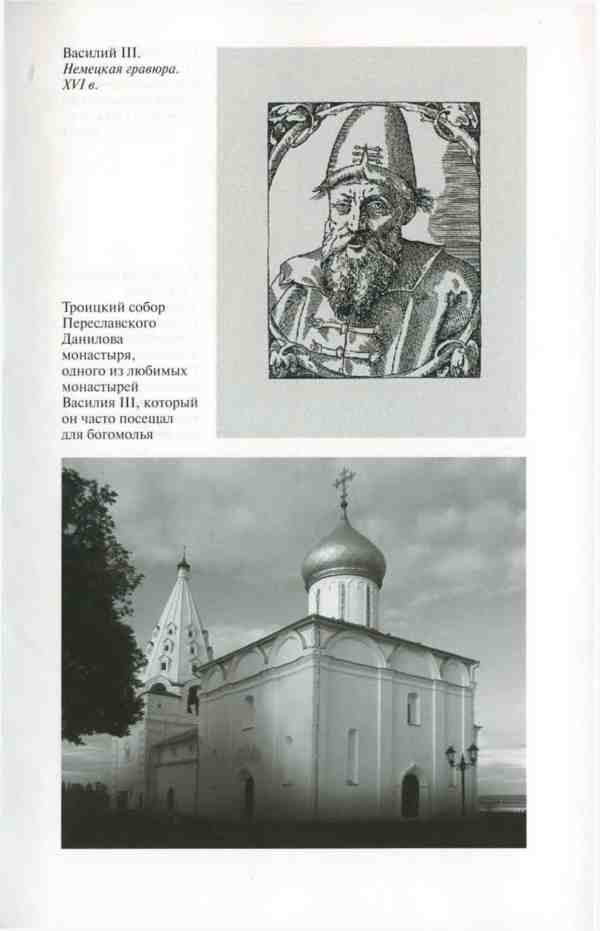
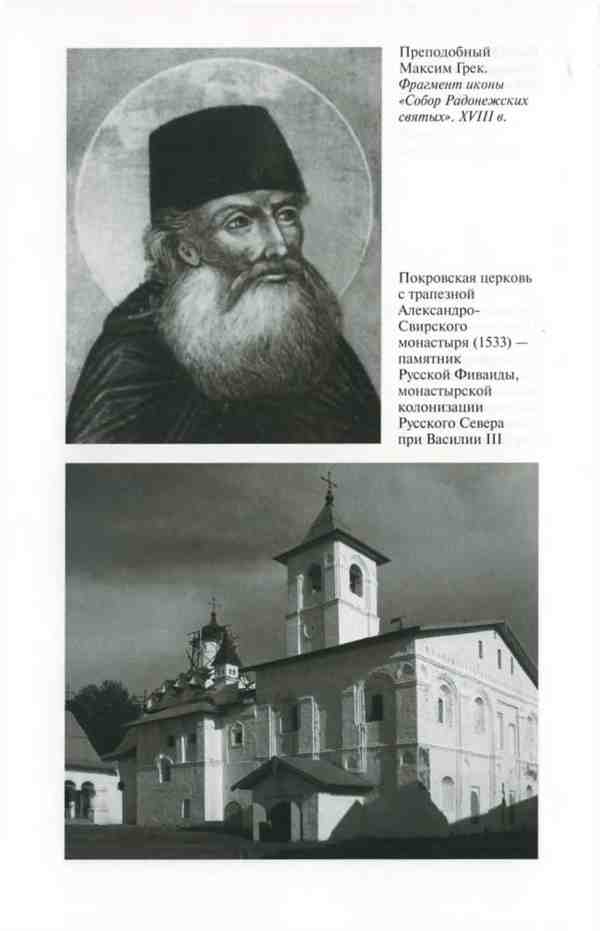
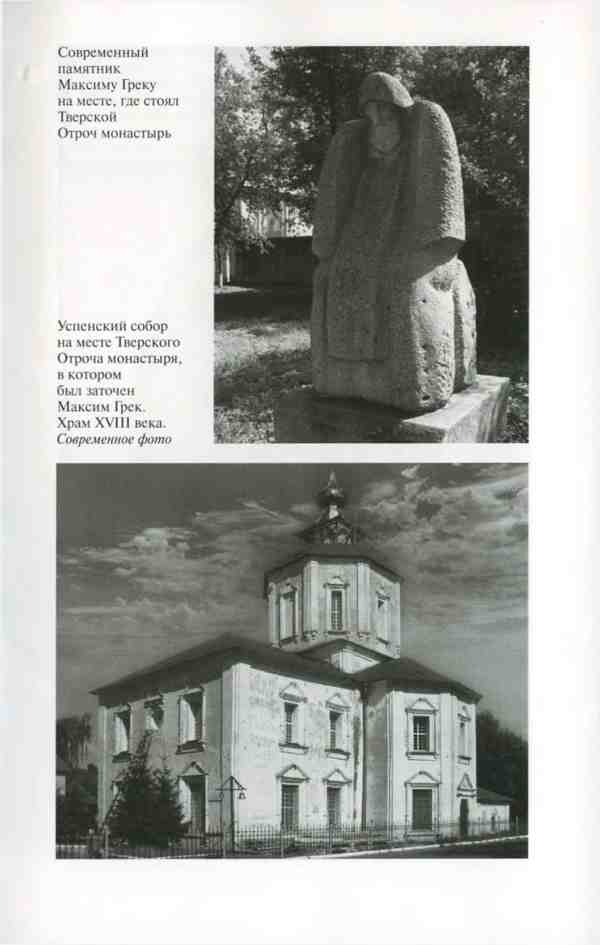
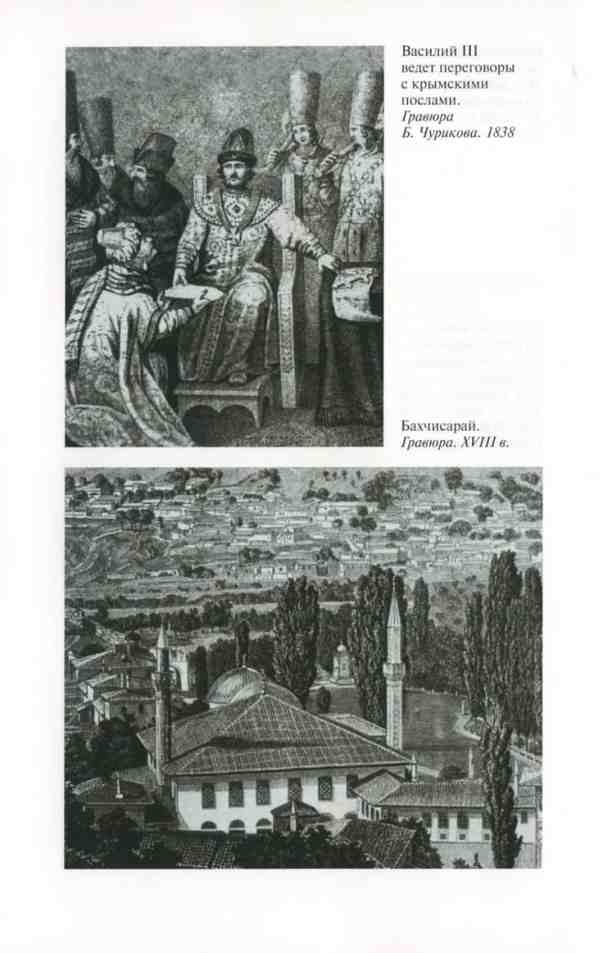
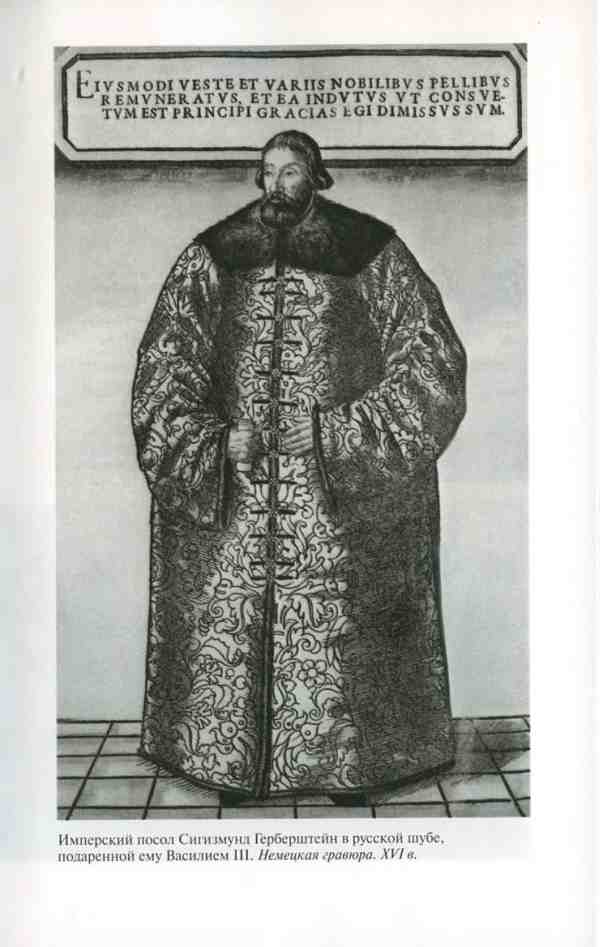

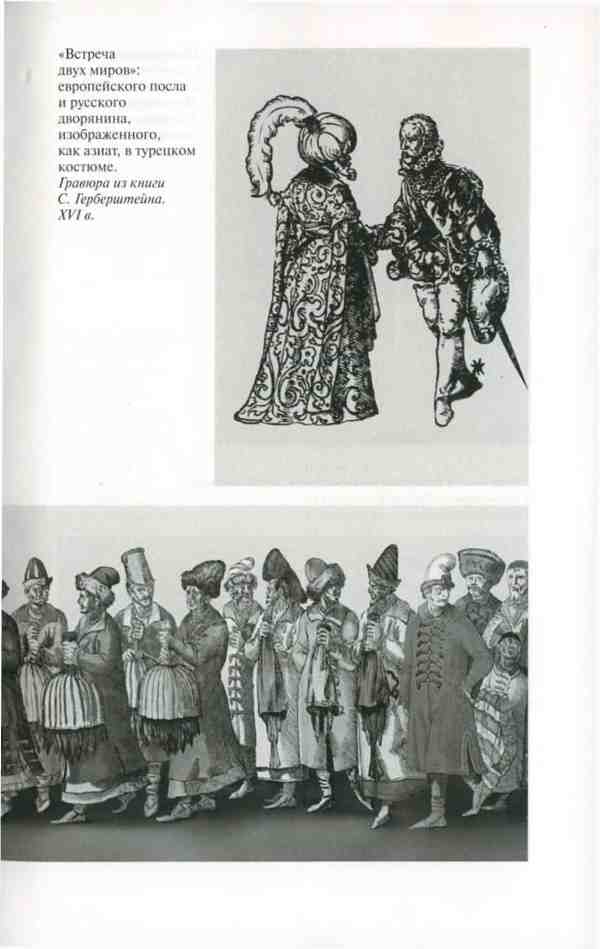
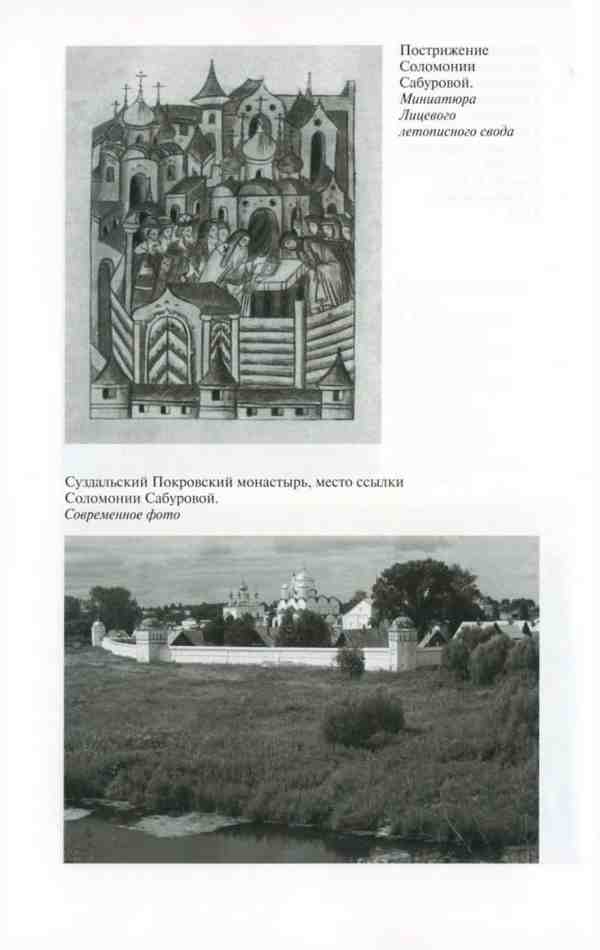


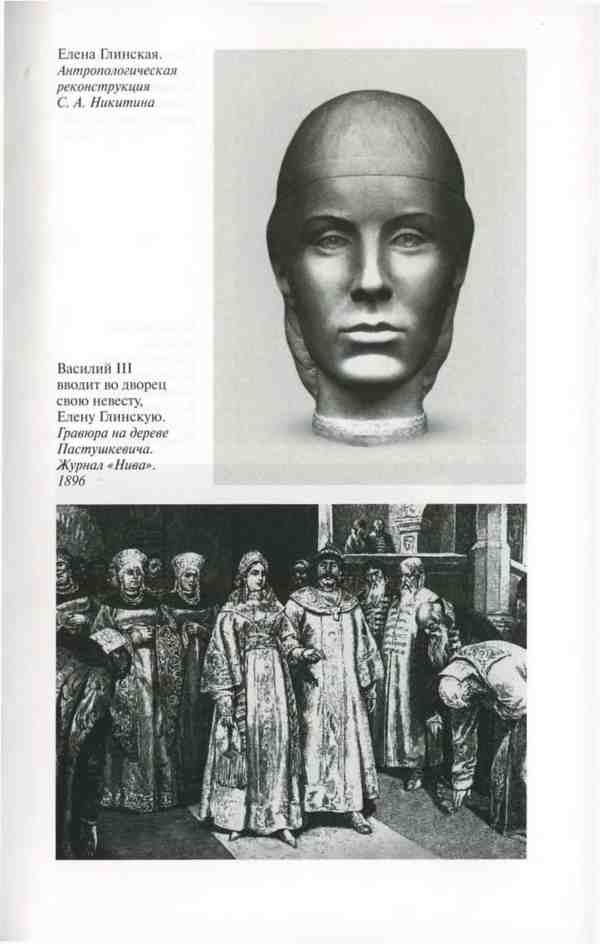
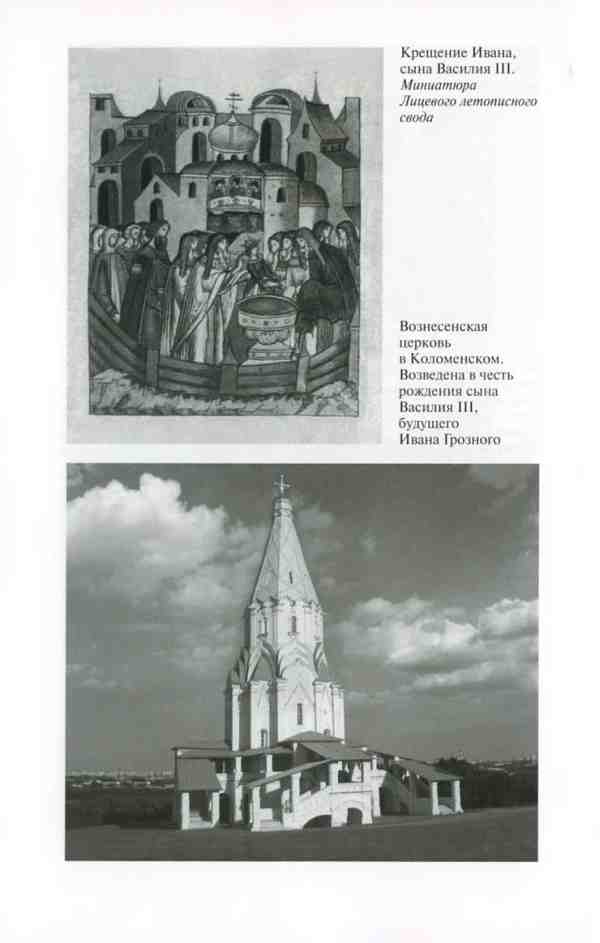
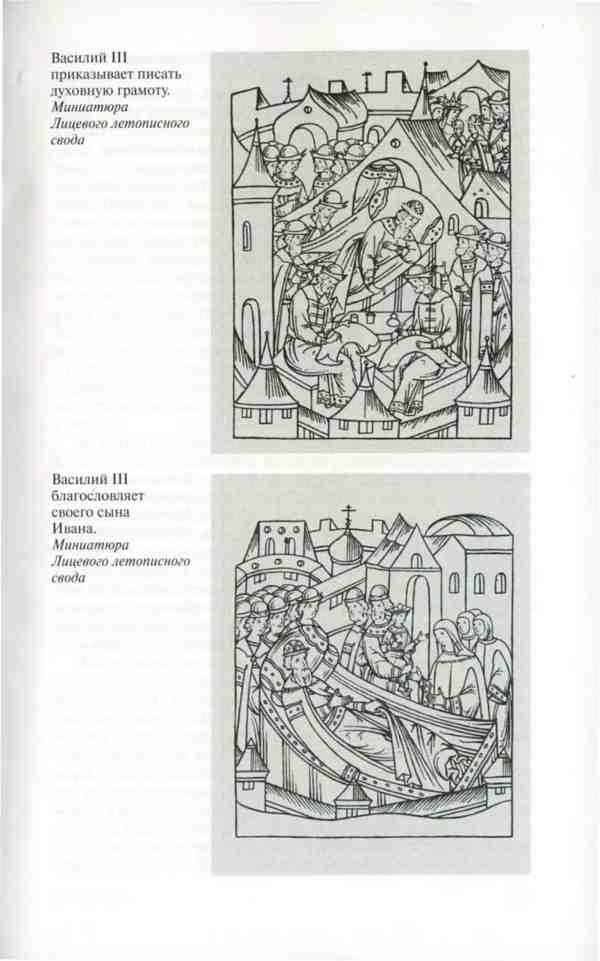
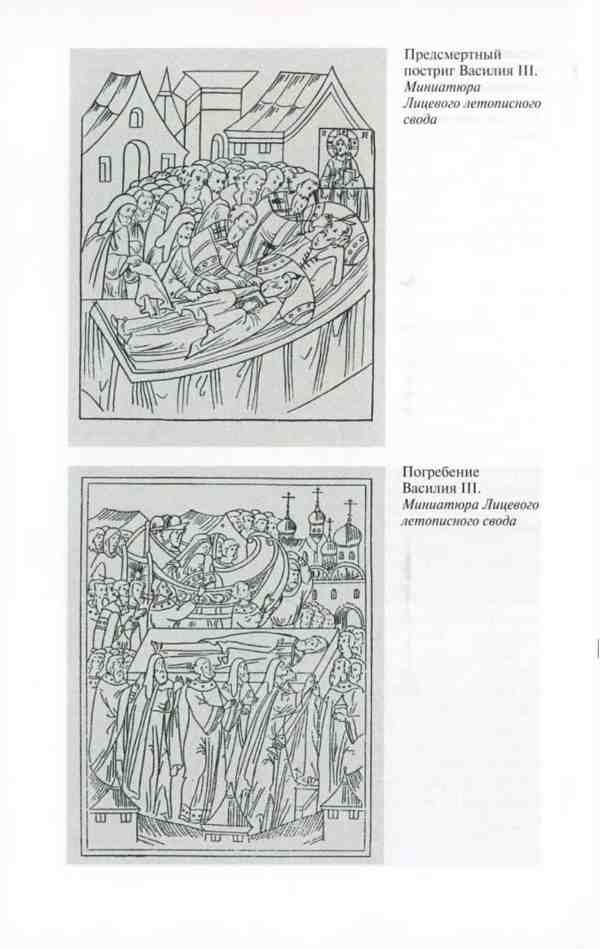
Подробнее см.: Отдел диссертаций РГБ, шифр 61:04–17/130. Горматюк А. А. Проблемы художественной атрибуции надгробной иконы великого князя московского Василия III (У истоков формирования типологии царских изображений). Дис. канд. искусствоведения. М., 2004.
(обратно)Самойлова Т. Е. «Подобниче царя Константина»: Василий III и попытка его церковного прославления при Иване IV // Верховная власть, элита и общество в России XIV — первой половины XIX в. Российская монархия в контексте европейских и азиатских монархий и империй. Вторая международная научная конференция. 23–25 июня 2009 г. Тезисы докладов / Отв. ред. А. К. Левыкин, В. Д. Назаров. М., 2009. С. 149–151.
(обратно)Алексеев Ю. Г. У кормила Российского государства. Очерк развития аппарата управления XIV–XV вв. СПб., 1998; Петров К. В. Приказная система управления в России в конце XV–XVII вв. М.; СПб., 2005.
(обратно)Зимин А. А. О сложении приказной системы на Руси // Доклады и сообщения Института истории АН СССР. М., 1954. Вып. 3. С. 164–176.
(обратно)Подробнее см.: Кром М. М. «Вдовствующее царство»: Политический кризис в России эпохи «боярского правления» (30-е — 40-е гг. XVI в.). М., 2010.
(обратно)Филюшкин А. И. Как Россия стала для Европы Азией? // Ab Imperio: Теория и история национальностей и национализма в постсоветском пространстве. 2004. № 1. С. 191–228; он же. Когда Россия стала считаться угрозой Западу? Ливонская война глазами европейцев // Россия XXI. 2004. № 3. С. 118–155.
(обратно)Полное собрание русских летописей (далее — ПСРЛ). Т. 12. М., 2000. С. 190–191.
(обратно)Панова Т. Д. Кремлевские усыпальницы: История, судьба, тайна. М., 2003. С. 141; Клулас И. Лоренцо Великолепный. М., 2006 (серия «ЖЗЛ»). С. 109–110.
(обратно)ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. М., 2000. Стб. 84. Здесь и далее (кроме оговоренных случаев) перевод мой.
(обратно)ПСРЛ. Т. 25. М.; Л., 1949. С. 275.
(обратно)Каштанов С. М. Социально-политическая история России конца XV — первой половины XVI в. М., 1967. С. 23.
(обратно)Зимин А. А. Россия на рубеже XV–XVI столетий (Очерки социально-политической истории). М., 1982. С. 67–68.
(обратно)Каштанов С. М. Социально-политическая история… С. 51–52, 54; Зимин А. А. Россия на рубеже… С. 68.
(обратно)Каштанов С. М. Социально-политическая история… С. 36–37.
(обратно)ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1. Вып. 2. Л., 1925. С. 459, 527–528; Вып. 3. Л., 1929. С. 610–611; Т. 43. М., 2004. С. 210–211.
(обратно)ПСРЛ. Т. 8. Ч. 2. М., 2001. С. 234; Т. 12. С. 246.
(обратно)Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в России. М., 1988. С. 102.
(обратно)Романов Б. А. Люди и нравы Древней Руси. Л., 1966. С. 125.
(обратно)Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М. Л., 1950. С. 13, 20, 27, 30, 32, 39, 40, 42. № 2, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15.
(обратно)Цит. по: Дьяконов М. А. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. 4-е изд. М.; Л., 1926. С. 205.
(обратно)Веселовский С. Б. Владимир Гусев — составитель Судебника 1497 г. // Исторические записки. Т. 5. М., 1939. С. 31–47; Базилевич К В. Внешняя политика Русского централизованного государства. Вторая половина XV в. М., 1952. С. 364; Fennell J. Ivan the Great of Moscow. London, 1961. P. 343–347; Каштанов С. М. Социально-политическая история… С. 87–90; Зимин А. А. Россия на рубеже… С. 145–147.
(обратно)Каштанов С. М. Социально-политическая история… С. 98.
(обратно)ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1. Вып. 2. С. 530–531; Т. 6. С. 279; Т. 12. С. 263.
(обратно)Черепнин Л. В. Русские феодальные архивы XIV–XV вв. М.; Л., 1951. Ч. 2. С. 306, 316; Зимин А. А. Россия на рубеже… С. 113.
(обратно)Лурье Я. С. Первые идеологи московского самодержавия // Ученые записки ЛГПИ. 1948. Т. 78. С. 97; Черепнин Л. В. Русские феодальные архивы… Ч. 2. С. 308–316; Хорошкевич А. Л. Об одном из эпизодов политической борьбы в России в конце XV в. // История СССР. 1974. № 5. С. 137.
(обратно)1494, января 17 — февраля 12. Посольство от великого князя Александра Казимировича с паном Петром Яновичем, воеводою Троцким, с товарищами, к великому князю Ивану Васильевичу, для заключения мирного и брачного договоров // Сборник Русского исторического общества (далее — Сб. РИО). Т. 35. СПб., 1882. С. 114–138; 1494, марта 9 — апреля 28. Посольство от великого князя Ивана Васильевича с боярами, князем Василием Ивановичем Патрикеевым и князем Семеном Ивановичем Ряполовским к великому князю Александру Казимировичу // Там же. С. 139–144.
(обратно)Обзор историографии см.: Зимин А. А. Россия на рубеже… С. 164–171; Казакова Н. А. Вассиан Патрикеев и его сочинения. М.; Л., 1960. С. 44–46.
(обратно)Каштанов С. М. Социально-политическая история… С. 145–165.
(обратно)Зимин А. А. Россия на рубеже… С. 187–188.
(обратно)ПСРЛ. Т. 8. С. 242; Т. 12. С. 255; Т. 20. М., 2005. С. 373.
(обратно)Ховлетт Я. Ересь жидовствующих и Россия в правление Ивана III // Труды кафедры истории России с древнейших времен до XX в. СПб., 2006. Вып. 1. С. 120.
(обратно)Там же. С. 121.
(обратно)Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития (Обзор редакций и тексты). М., 1915. Тексты. С. 57.
(обратно)Последний обзор источников и историографии об эсхатологических ожиданиях в конце XV в. см.: Алексеев А. И. Под знаком конца времен. Очерки русской религиозности конца XIV — начала XVI в. СПб., 2002. С. 45–130.
(обратно)Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. С. 329.
(обратно)Бегунов Ю. К. «Слово иное» — новонайденное произведение русской публицистики XVI в. о борьбе Ивана III с землевладением церкви // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР. Т. 20. М.; Л., 1964. С. 352; Зимин А. А. Россия на пороге… С. 62.
(обратно)Кобрин В. Б., Юрганов А. Л. Становление деспотического самодержавия в средневековой Руси (к постановке проблемы) // История СССР. 1991. № 4. С. 55.
(обратно)Хорошкевич А. Л. Великий князь и его подданные в первой четверти XVI в. // Сословия и государственная власть в России. XV — середина XIX в. М., 1994. Ч. 2. С. 165.
(обратно)Назаров В. Д. Свадебные дела XVI в. // Вопросы истории. 1976. № 10. С. 110–115.
(обратно)Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969. С. 169–172; Зимин А. А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой половине XVI в. М., 1988. С. 191–194.
(обратно)Зимин А. А. Формирование боярской аристократии… С. 193,
(обратно)Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев… С. 190–191.
(обратно)Зимин А. А. Россия на пороге нового времени (Очерки политической истории России первой трети XVI в.). М., 1972. С. 67.
(обратно)Герберштейн С. Записки о Московии / Пер. А. И. Малеина, А. В. Назаренко; вступ. ст. А. Л. Хорошкевич. М., 1988. С. 71.
(обратно)Ср. тексты разных редакций, опубликованные в сводном издании сочинения С. Герберштейна: Herberstein S. Rerum Moscoviticarum. Commentarii. Synoptische Edition der lateinischen und der deutschen Fassung letzter Hand Basel 1556 und Wien 1557 / Unter der Leitung von F. Kampfer, erstellt von E. Maurer und A. Fulberth, hrsg. von H. Beyer-Thoma. Munchen, 2007. S. 56–57.
(обратно)Публикацию текста см.: Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. С. 353–364. № 89.
(обратно)Перевод-интерпретация Третьего послания Андрея Курбского Ивану Грозному // Филюшкин А. И. Андрей Михайлович Курбский: Просопографическое исследование и герменевтический комментарий к посланиям Андрея Курбского Ивану Грозному. СПб., 2007. С. 565.
(обратно)Золтан А. К предыстории русск. «государь» // Из истории русской культуры. Т. 2. Кн. 1: Киевская и Московская Русь / Сост. А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский. М., 2002. С. 554–560; Vodoff W. Remarques sur ie valeur du temie «tsar» applique aux princes russes avant ie milieu du XV sicle // Oxford Slavonic papers. New series. Oxford, 1978. Vol. II. P. 25–41.
(обратно)Алексеев Ю. Г. «К Москве хотим»: Закат боярской республики в Новгороде. Л., 1991. С. 86, 101, 119–120; ср.: Назаров В. Д. Великий князь московский: «господин» удельных князей или их «господарь»? (полемические заметки) // Восточная Европа в древности и средневековье. Автор и его источник: восприятие, отношение, интерпретация. XXI Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР Владимира Терентьевича Пашуто. Москва, 14–17 апреля 2009 г. Материалы конференции. М.: Институт всеобщей истории РАН, 2009. С. 236–243.
(обратно)Грамота прота Св. Горы Паисия великому князю Василию III Ивановичу с сообщением о возвращении на Св. Гору архидьякона Пахомия и др. и о получении милостыни // Посольская книга 1509–1571 гг. по связям Русского государства с Балканами и Ближним Востоком («Греческие дела». Книга № 1) // Россия и греческий мир в XVI в. М., 2004. Т. 1. С. 131. № 5; Грамота игумена Пантелеймонова монастыря Паисия с братиею великому князю Василию III Ивановичу с просьбой о помощи, около 23 марта 1516 г.// Там же. С. 127. № 2; Грамота служилого татарина Камая Василию III, апрель 1514 г. // РГАДА. Ф. 89. Оп. 1. Д. 1. Л. 9.
(обратно)Ключевский В. О. Курс русской истории // Ключевский В. О. Сочинения. М., 1957. Т. 2. С. 122.
(обратно)Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. М., 1984. С. 49.
(обратно)Цит. по: Кром М. М. Рождение государства Нового времени в России и Европе: сравнительно-историческая перспектива // Труды кафедры истории России с древнейших времен до XX в. / Отв. ред. А. Ю. Дворнченко. СПб., 2006. Вып. 1. С. 31.
(обратно)Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси // Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. Добрые люди Древней Руси. М., 1994. С. 4, 6.
(обратно)Кром М. М. «Мне сиротствующу, а царству вдовствующу»: кризис власти и механизм принятия решений в период боярского правления (30–40-е гг. XVI в.) // Российская монархия: вопросы истории и теории. Воронеж, 1998. С. 44–45, 48.
(обратно)Подробнее см.: Филюшкин А. И. Законодательная деятельность Боярской Думы в конце XV — середине XVI в. (К вопросу о процедуре законотворчества) // Судебник 1497 г. в контексте истории российского и зарубежного права XI–XIX вв. / Под общей ред. А. Н. Сахарова. М., 2000. С. 200–210.
(обратно)Правящая элита Русского государства IX — начала XVIII в. Очерки истории / Отв. ред. А. П. Павлов. СПб., 2006. С. 175.
(обратно)Зимин А. А. Состав Боярской думы в XV–XVI вв. // Археографический ежегодник за 1957 г. М., 1958. С. 48–49.
(обратно)Петров К В. Приказная система управления в России в конце XV–XVII вв. С. 29–49.
(обратно)Зимин А. А. Дьяческий аппарат в России второй половины XV — первой трети XVI в. // Исторические записки. М., 1971. Т. 87. С. 282; Каштанов С. М. Русская дипломатика. М., 1988. С. 168–169; Кром М. М. Рождение государства Нового времени… С. 31–32.
(обратно)Бычкова М. Е. Правящий класс Российского государства (XVI–XVII вв.) // Европейское дворянство XVI–XVII вв.: Границы сословия / Отв. ред. В. А. Ведюшкин. М., 1997. С. 236–237.
(обратно)Там же. С. 239; она же. Состав класса феодалов в России в XVI в. М., 1986. С. 94–98.
(обратно)Эскин Ю. М. Очерки истории местничества в России XVI–XVII вв. М., 2009. С. 405.
(обратно)Коллманн Н. Соединенные честью. Государство и общество в России раннего нового времени. М., 2001. С. 235; см. также: Эскин Ю. М. Очерки истории местничества… С. 21, 95–98.
(обратно)Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. С. 260–270.
(обратно)Новожилов А. Г. Деревня и двор Новгородских писцовых книг конца XV в. // Труды кафедры истории России с древнейших времен до XX в. СПб., 2006. Т. 1. С.488, 490.
(обратно)Алферова Г. В. Русские города XVI–XVII вв. М., 1989. С. 50–51.
(обратно)Чечулин Н. Д. Города Московского государства в XVI в. СПб., 1889. С. 31.
(обратно)Зимин А. А. Россия на пороге… С. 212–213.
(обратно)Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. С. 155.
(обратно)Аминова Г. К методике составления административной карты Казанского ханства // Казанское ханство: Актуальные проблемы исследования. Казань, 2002. С. 117–134.
(обратно)Walicki A. The Political Heritage of the Sixteenth Century and its Influence on the Nation building Ideologies of the Polish Enlightenment and Romantism // The Polish Renaissance in it’s European Context / Ed. by S. Fiszman. Bloomington, 1988. P. 35–36.
(обратно)Длугош Я. Грюнвальдская битва. М.; Л., 1962. С. 11–15; см. также: Юргинис Ю. М. Литовские книги XVI в. и проявление в них идей гуманизма // Культурные связи народов Восточной Европы в XVI в. М., 1976. С. 61.
(обратно)Меховский М. Трактат о двух Сарматиях. М.; Л., 1936. С. 98–99.
(обратно)Михалон Литвин. О нравах татар, литовцев и москвитян / Пер. B. И. Матузовой, отв. ред. А. Л. Хорошкевич. М., 1994. С. 86.
(обратно)Марзалюк І. А. Людзі дауняй Беларусі: Этнаканфесійньїя і сацыя-культурныя стэрэатыпы (X–XVII ст.). Магілёў, 2003.
(обратно)Сб. РИО. Т. 35. С. 509, 517–519, 521, 523.
(обратно)ПСРЛ. Т. 8. С. 244–245; Зимин А. А. Россия на пороге… С. 74.
(обратно)ПСРЛ. Т. 19. М., 2000. Стб. 24–25.
(обратно)Исхаков Д. Демографическая ситуация в татарских ханствах Поволжья // Казанское ханство: Актуальные проблемы исследования. Казань, 2002. С. 143.
(обратно)ПСРЛ. Т. 13. М., 2000. С. 1–2; Т. 8. С. 245; в летописи 55 сел: ПСРЛ. Т. 4. М., 2000. С. 536; Т. 43. С. 213. А. А. Зимин сокращает это число до пяти со ссылкой на: Акты западной России. Т. 1. СПб., 1846. № 40. С. 60 (Зимин А. А. Россия на пороге… С. 75, прим. 52). Ссылка ошибочна, такого документа на С. 60 нет.
(обратно)ПСРЛ. Т. 19. Стб. 26.
(обратно)ПСРЛ. Т. 8. С. 246; Т. 13. С. 2–4; Т. 20. С. 376–377.
(обратно)Зимин А. А. Россия на пороге… С. 77–78.
(обратно)Кром М. М. Меж Русью и Литвой. Западнорусские земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в. М., 1995. C. 86–87, 93, 95, 98.
(обратно)Там же. С. 99–101.
(обратно)Материалы посольства Юрия Глебова, Ивана Сапежича и Ивана Федорова, 1506 г. // Сб. РИО. Т. 35. С. 480–481.
(обратно)Кром М. М. Меж Русью и Литвой… С. 120–128.
(обратно)Хорошкевич А. Л. Русь и Крым: от союза к противостоянию. М., 2001. С. 166.
(обратно)ПСРЛ. Т. 12. С. 258.
(обратно)Панова Т. Д. Кремлевские усыпальницы… С. 34.
(обратно)Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. М., 1895. С. 10.
(обратно)Там же. С. 248.
(обратно)Там же. С. 17–18, 45.
(обратно)Зимин А. А. Россия на пороге… С. 103–105.
(обратно)Подробнее см.: Ульяновський В. И. Митрополит Київський Спиридон: Образ крізь епоху, епоха крізь образ. Киів, 2004.
(обратно)Подробнее см.: Дмитриева Р. П. Сказание о князьях владимирских. М.; Л., 1955; она же. О текстологической зависимости между разными видами рассказа о потомках Августа и о дарах Мономаха // Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1976. Т. 30. С. 217–230; Зимин А. А. Россия на рубеже… С. 149–159; он же. Россия на пороге… С. 137–139; Гольдберг А. Л. К истории рассказа о потомках Августа и о дарах Мономаха // Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1976. Т. 30. С. 204–216; Ульяновский В. И. Первая концепция происхождения княжеской власти и ее символов на Руси: «Послание о Мономаховом венце» Спиридона-Савы // Труды кафедры истории России с древнейших времен до XX в. СПб., 2008. Т. 2. С. 65–105.
(обратно)Анализ см.: Ульяновский В. И. Первая концепция… С. 76–80.
(обратно)См., например: Синицына Н В. О происхождении понятия «шапка Мономаха» (к вопросу о концепции римско-византийского преемства в русской общественно-политической мысли XV–XVI вв.) //Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования. 1987. М., 1989. С. 176–195; Жилина Н. В. Шапка Мономаха. Историко-культурное и технологическое исследование. М., 2003.
(обратно)Успенский Б. А. Восприятие истории в Древней Руси и доктрина «Москва — Третий Рим» // Русское подвижничество. М., 1996. С. 469.
(обратно)Синицына Н. В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции. М., 1998. С. 194–199.
(обратно)Ульяновский В. И. Первая концепция… С. 102.
(обратно)Cherniavsky М. Khan or Basileus: An Aspect of Russian Medieval Political Theory // Journal of the History of Ideas. 1959. Vol. 20. P. 459–476.
(обратно)Успенский Б. А. Царь и патриарх: Харизма власти в России: византийская модель и ее русское переосмысление. М., 1998. С. 5.
(обратно)ПСРЛ. Т. 8. С. 279–280.
(обратно)Мусин А. Е. Milites Christi Древней Руси: Воинская культура русского средневековья в контексте религиозного менталитета. СПб., 2005. С. 324.
(обратно)ПСРЛ. Т. 8. С. 255–256.
(обратно)Акты Российского государства. Архивы Московских монастырей и соборов XV–XVII вв. М., 1998. С. 293. № 124.
(обратно)ПСРЛ. Т. 4. С. 539.
(обратно)ПСРЛ. Т. 8. С. 264.
(обратно)ПСРЛ. Т. 4. С. 543–544.
(обратно)Каштанов С. М. Социально-политическая история… С. 244.
(обратно)Там же. С. 248.
(обратно)Каштанов С. М. Финансы средневековой Руси. М., 1988. С. 20–21.
(обратно)Каштанов С. М. Социально-политическая история… С. 253–255.
(обратно)Зимин А. А. Россия на пороге… С. 233–235.
(обратно)Каштанов С. М. Социально-политическая история… С. 257–258.
(обратно)ПСРЛ. Т. 4. С. 540.
(обратно)ПСРЛ. Т. 13. С. 60.
(обратно)Плигузов А. И. О списках Судебника и духовной Ивана III // Судебник 1497 г. в контексте истории российского и зарубежного права XI–XIX вв. М., 2000. С. 137–148; Клосс Б. М., Назаров В. Д. Судебник 1497 г.: рукопись и текст // Там же. С. 53–75.
(обратно)Кистерев С. Н. Владимирский Рождественский монастырь в документах XVI — начала XVII века // Русский дипломатарий. М., 2000. Вып. 6. С. 92–93. № 2.
(обратно)Сметанина С. И. Материалы к каталогу актов Русского государства. Вотчинные архивы Рязанских духовных корпораций XIII — начала XVII в. // Русский дипломатарий. М., 2000. Вып. 6. С. 256. № 21.
(обратно)Акты исторические. СПб., 1841. Т. 1. С. 195. № 134.
(обратно)Франческо до Колло. Доношение о Московии / Подг. текста, пер. и вступ. ст. О. Симчич. М., 1996. С. 27–28.
(обратно)Забелин И. Е. Домашний быт русских царей. С. 246.
(обратно)Библиотека Ивана Грозного: Реконструкция и библиографическое описание / Сост. H. Н. Зарубин; подг. к печати, прим. и доп. А. А. Амосова. Л., 1982.
(обратно)Письма русских государей и других особ царского семейства. М., 1848. Т. 1: 1526–1658. С. 3–5. № 1–5.
(обратно)Keenan E. Ivan IV and the «King’s Evil»: Ni Мака li to budet? // Russian History. 1993. Vol. 20. Nr. 1. S. 5–13.
(обратно)Алмазов А. Тайная исповедь в православной восточной церкви. Опыт внешней истории. Исследование преимущественно по рукописям. Одесса, 1894. Т. 3: Приложения. С. 103.
(обратно)Там же. С. 103–104, 107, 116, 144–147, 149, 151.
(обратно)Там же. С. 171. См. также: Корогодина М. В. Исповедь вельмож // Российское государство в XIV–XVII вв. Сборник статей, посвященный 75-летию со дня рождения Ю. Г. Алексеева. СПб., 2002. С. 47–63.
(обратно)Алмазов А. Указ. соч. С. 174–175.
(обратно)Подробнее см.: Selart A. Zur Sozialgeschichte der Ostgrenze Estlands im Mittelalter // Zeitschrift fur Ost-Mitteleuropas Forschung. 1998. Bd. 47. H. 4. S. 520–543; Ibid. Livland und die Rus’. Koln; Weimar, Wien, 2007; Бессуднова М. Б. История Великого Новгорода конца XV — начала XVI в. по ливонским источникам. Великий Новгород, 2009.
(обратно)Лесников М. П. Ганзейская торговля пушниной в начале XV в. // Ученые записки Московского городского педагогического института. 1948. Т. 8: Кафедра истории средних веков. Вып. 1. С. 61–93; он же. Торговые сношения Великого Новгорода с Тевтонским орденом в конце XIV в. и в начале XV в. // Исторические записки. М., 1952. Т. 39. С. 259–278; Ibid. Die Handelsbeziehungen Gro?-Novgorods mit dem Deutschen Orden // Sowjetwissenschaft. Gesellschaftswissenschaftliche Abteilung. Berlin, 1954. S. 859–878; Ibid. Lubeck als Handelsplatz fur osteupaische Ware im XV. Jahrhundert //Yansische Geschichtsblatter. Koln, 1960. Jg. 78. S. 67–86.
(обратно)Клейненберг И. Э. Цены, вес и прибыль в посреднической торговле товарами русского экспорта в XIV — начале XV в. // Экономические связи Прибалтики с Россией. Рига, 1968. С. 39–40.
(обратно)Казакова Н. А. Из истории сношений Новгорода с Ганзой в первой половине XV в. // Исторические записки. М., 1947. Т. 28. С. 119.
(обратно)Казакова Н. А. Русско-ливонские и русско-ганзейские отношения. Конец XIV — начало XVI в. Л., 1975. С. 314.
(обратно)Псковские летописи / Подг. к печати А. Н. Насонов. Вып 1. М.; Л., 1941. С. 95–96; Вып. 2. М., 1955. С. 257.
(обратно)Зимин А. А. Россия на пороге… С. 123; Масленникова H. Н. Присоединение Пскова к Русскому централизованному государству. Л., 1955. С. 142–150.
(обратно)Зимин А. А. Россия на пороге… С. 99.
(обратно)Горский А. А. Русские земли в XIII–XIV вв.: Пути политического развития. М., 1996. С. 39–41.
(обратно)Ochmanski J. Biskupstwo wilenskie w sredniowieczu. Poznan, 1972. S. 80–81.
(обратно)Кром М. М. Меж Русью и Литвой… С. 162–165.
(обратно)ПСРЛ. Т. 13. С. 16. Подробнее см.: Зимин А. А. Россия на пороге… С. 151–153; Кром М. М. Меж Русью и Литвой… С. 188–189.
(обратно)Кашпровский Е. И. Борьба Василия III Ивановича с Сигизмундом I Казимировичем из-за обладания Смоленском (1507–1522) // Сборник историко-филологического общества при Институте князя Безбородко в Нежине. Нежин, 1899. Т. 2. С. 215–216.
(обратно)Рябинин И. Новое известие о Литве и московитах // Чтения в Обществе исследователей Древней Руси. М., 1906. Кн. 3. Смесь. С. 5.
(обратно)Кашпровский Е. И. Борьба Василия III Ивановича… С. 224.
(обратно)ПСРЛ. Т. 13. С. 19.
(обратно)Зимин А. А. Россия на пороге… С. 161–164; Кром М. М. Меж Русью и Литвой… С. 191–195.
(обратно)Кром М. М. Меж Русью и Литвой… С. 195.
(обратно)Зимин А. А. Россия на пороге… С. 164–165.
(обратно)Речь идет о произведениях: Wapowski D. De bello a Sigismundo I, rege Poloniae, contra Moscos gesto. Romae, 1508; Idem. Panegyris seu Carmen elegiacum in victoriam Sigismundi I, Regis, de Moscis. Romae, 1515; DantyszekJ. De clade Moscorum. Romae, 1515; Epistola Pisonis ad Ioannem Coritium de conflictu Polonorum et Lituanorum cum Moscovitis. Romae, 1515. Анализ этих сочинений см.: Граля И. Мотивы «оршанского триумфа» в ягеллонской пропаганде // Проблемы отечественной истории и культуры периода феодализма. Чтения памяти В. Б. Кобрина. М., 1992. С. 46–50.
(обратно)Korzon Т. Organizacja wojskowa Litwy w okresie Jagiellonskim // Rocznik Towarzystwa przyjaciyl nauk w Wilnie. Wilno, 1908. T. 2. S. 86. Примерно такую же цифру (20–25 тысяч) приводит Л. Коланковский (Kolankowsici L. Zygmunt August wielki ksiaze Litwy do roku 1548. Lwow, 1913. S. 109–110).
(обратно)Лобин A. H. К вопросу о численности вооруженных сил Российского государства в XVI в. // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2009. № 1/2. C. 56, прим. 111.
(обратно)Цит. по: Зимин А. А. Россия на пороге… С. 167.
(обратно)Zygulski Z. (j.). Bitwa pod Orsza — struktura obrazu // Swiatla Stambulu. Warszawa 1999. S. 265–290.
(обратно)Zygulski Z. (j.). «Bitwa pod Orsza» — struktura obrazu // Rocznik Historii Sztuki. Wroclaw;Wirszawa; Krakow; Gdansk, 1981. Т. XII. S. 85–132.
(обратно)Памятники дипломатических сношений Древней России с державами иностранными. СПб., 1851. Т. I. Памятники дипломатических сношений с империею Римскою (с 1488 по 1594 г.). Стб. 154–158.
(обратно)Сб. РИО. Т. 35. С. 509–533.
(обратно)Там же. С. 575–595.
(обратно)Маркс К. Разоблачение дипломатической истории XVIII в. // Вопросы истории. 1989. № 4. С. 6–7.
(обратно)Памятники дипломатических сношений Московского государства с немецким орденом в Пруссии: 1516–1520 г. / Изд. под ред. Г. Ф. Карпова // Сб. РИО. Т. 53. СПб., 1887. С. 6–24.
(обратно)Там же. С. 24–33.
(обратно)Tyszkievicz J. Ostatnia wojna z Zakonem Krzyzackim 1519–1521. Warszawa, 1991. S. 59–60.
(обратно)Лампрехт К История германского народа. М., 1896. Т. 3. С. 11.
(обратно)Хорошкевич А. Л. Русское государство в системе международных отношений конца XV — начала XVI в. М., 1980. С. 205.
(обратно)Переписка пап с российскими государями в XVI в. СПб., 1834. С. 94–97.
(обратно)Франческо до Колло. Доношение о Московии. С. 25–27.
(обратно)Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003. С. 35, 38.
(обратно)Said E. Orientalizm. N. Y., 1978. P. 1, 7.
(обратно)Цымбурский В. Л. «Европа — Россия»: «Третья осень» системы цивилизаций // Политические исследования. 1997. № 2. С. 58.
(обратно)Bugge P. Asia and the Idea of Europe — Europe and its Others // Asian Values and Vietnam’s Development in Comparative Perspective. Hanoi, 2000. P.3.
(обратно)Bagrow L. A History of the Cartography of Russia up to 1600 / Ed. by H. W. Astnew. Wolfe Island, Ontario, 1975. P. 32.
(обратно)Ibid. P. 30, 42–47.
(обратно)Klug E. Das „asiatische“ Russland. Uber die Entstehung eines europaischen Vorurteils // Historische Zeitschrift. 1987. Nr. 245. S. 273.
(обратно)Mund S. Orbis russiarum: Genese et development de la representation du monde „russe“ en Occident a la Renaissance. Geneve, 2003. P. 42.
(обратно)Меховский М. Трактат о двух Сарматиях / Введ., пер. и коммент. С. А. Аннинского. М.; Л., 1936. С. 46.
(обратно)Наиболее полный обзор сочинений о России европейцев эпохи Возрождения и их публикаций см. в монографии С. Мунда: Mund S. Orbis Russiarum. P. 45, 176–178.
(обратно)Альберт Компьенский. О Московии // Россия в первой половине XVI в.: Взгляд из Европы / Сост. О. Ф. Кудрявцев. М., 1997. С. 96–97.
(обратно)Фабри И. Религия московитов, [обитающих] у Ледовитого моря // Россия в первой половине XVI в.: Взгляд из Европы. С. 172, 181, 191, 193, 201.
(обратно)Альберт Компьенский. О Московии. С. 110–111.
(обратно)Кудрявцев О. Ф. Жизнь за царя: Русские в восприятии европейцев первой половины XVI в. // Россия в первой половине XVI в.: Взгляд из Европы. С. 10.
(обратно)Фабри И. Религия московитов. С. 202.
(обратно)Кудрявцев О. Ф. Жизнь за царя… С. 17–18.
(обратно)Иовий П. Книга о московитском посольстве // Россия в первой половине XVI в.: Взгляд из Европы. С. 274.
(обратно)Мюнстер С. VI книг всеобщей космографии // Там же. С. 333.
(обратно)Said E. Orientalizm. Р. 115; подробнее см.: Schwab R. Renaissance Orientale. Paris, 1950.
(обратно)Лаский Ян. О племенах рутенов и их заблуждениях // Акты исторические, относящиеся до России, извлеченные из иностранных архивов и библиотек А. И. Тургеневым. СПб., 1841. Т. 1. (Historia Russia Monumenta). № CXXIII. С. 126–127. (Перевод В. Ю. Мартыновича.)
(обратно)Хорошкевич А. Л. Сигизмунд Герберштейн и его «Записки о Московии» // Герберштейн С. Записки о Московии / Пер. А. И. Малеина, А. В. Назаренко, вступ. ст. А. Л. Хорошкевич. М., 1988. С. 45.
(обратно)Герберштейн С. Записки о Московии. С. 72, 74.
(обратно)Барберини Р. Путешествие в Московию // Любич-Романович В. Сказания иностранцев о России в XVI и XVII вв. СПб., 1843. С. 23.
(обратно)Сб. РИО. Т. 95. СПб., 1895. С. 70–80. № 4.
(обратно)ПСРЛ. Т. 13. С. 13, 14.
(обратно)Загоровский В. П. История вхождения Центрального Черноземья в состав Российского государства в XVI в. Воронеж, 1991. С. 56.
(обратно)Хорошкевич А. Л. Русь и Крым: от союза к противостоянию. М., 2001. С. 170–171.
(обратно)ПСРЛ. Т. 13. С. 26.
(обратно)Сб. РИО. Т. 95. С. 671–672.
(обратно)Грамота белградского митрополита Феофана великому князю Василию III Ивановичу с благодарностью за прежние благодеяния и с просьбой о новых, между 1 марта — 31 мая 1508 г. // Посольская книга 1509–1571 гг. по связям Русского государства с Балканами и Ближним Востоком: («Греческие дела». Книга № 1). С. 136. № 8; Грамота Магмет-бека азовского к Василию III, октябрь 1523 г. // РГАДА. Ф. 89. Оп. 1. Д. 1. Л. 263.
(обратно)Герберштейн С. Записки о Московии. С. 75.
(обратно)Флетчер Дж. О государстве Русском // Проезжая по Московии: (Россия XVI–XVII вв. глазами дипломатов) / Отв. ред. Н. М. Рогожин, сост. Г. И. Герасимова. М., 1991. С. 38.
(обратно)Соловьев А. Великая, Малая и Белая Русь // Из истории русской культуры. Т. 2. Кн. 1: Киевская и Московская Русь / Сост. А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский. М., 2002. С. 489.
(обратно)Усманов М. А. Жалованные акты Джучиева Улуса XIV–XVI вв. Казань, 1979. С. 198.
(обратно)Хорошкевич А. Л. Русь и Крым… С. 189.
(обратно)Там же. С. 202–203.
(обратно)Сб. РИО. Т. 95. С. 632–633, 661, 663.
(обратно)Сыроечковский В. Е. Мухаммед-Герай и его вассалы // Ученые записки МГУ. М., 1940. Серия историческая. Т. 2. Вып. 61. С. 26.
(обратно)Хорошкевич А. Л. Русь и Крым… С. 194.
(обратно)Грамота султана Сулеймана Василию III, 1532 г. // РГАДА. Ф. 89. Оп. 1.Д. 1.Л. 334–336.
(обратно)Грамота турецкого султана Ивану IV, апрель 1544 г. // РГАДА. Ф. 89. Оп. 1. Д. 1. Л. 366 об.
(обратно)Грамота белградского митрополита Феофана великому князю Василию III Ивановичу с благодарностью за прежние благодеяния и с просьбой о новых, между 1 марта — 31 мая 1508 г. // Посольская книга 1509–1571 гг. по связям Русского государства с Балканами и Ближним Востоком: («Греческие дела». Книга № 1). С. 136. № 8.
(обратно)Грамота из Ватопедского монастыря великому князю Василию III Ивановичу о получении милостыни, невозможности приезда в Москву священноинока Саввы и намерении прислать Максима Грека, между 23 марта — 30 июня 1516 г. // Посольская книга 1509–1571 гг. по связям Русского государства с Балканами и Ближним Востоком: («Греческие дела». Книга № 1). С. 129. № 3.
(обратно)Герберштейн С. Записки о Московии. С. 75.
(обратно)Kappeler A. Ivan Grozny im Spiegel der auslandischen Druckschriften seiner Zeit. Ein Beitrag zur Geschichte des westlichen Russlandbildes. Frankfurt/M., 1972. S. 220–221.
(обратно)Хорошкевич А. Л. Русское государство в системе… С. 199–200.
(обратно)Зимин А. А. Россия на пороге… С. 146.
(обратно)Худяков М. Очерки по истории Казанского ханства. М., 1991. С. 83.
(обратно)Акты исторические. Т. 1. С. 192. № 130.
(обратно)Зимин А. А. Россия на пороге… С. 257.
(обратно)Псковские летописи. Вып. 1. С. 102–103.
(обратно)Зимин А. А. Россия на пороге… С. 259.
(обратно)Тихомиров М. Н. Новый памятник московской политической литературы XVI в. // Московский край в его прошлом. М., 1930. Ч. 2. С. 112.
(обратно)Записки о регентстве Елены Глинской // Исторические записки. Т. 46. М., 1954. С. 280.
(обратно)Выпись из святогорские грамоты, что прислана к великому князю Василию Ивановичу о сочетании второго брака и о разлучении первого брака чадородия ради. Творение Паисино, старца Серапонского монастыря // Чтения в Обществе истории и древностей российских. Вып. 8. М., 1847. С. 1–10.
(обратно)Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. СПб., 2001. С. 311–313 (перевод А. А. Алексеева).
(обратно)Герберштейн С. Записки о Московии. С. 87.
(обратно)Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII ст. М., 1901. С. 215, 271.
(обратно)Никитин А. Л. Соломония Сабурова и второй брак Василия III // Григорьев Г. Л. Кого боялся Иван Грозный? М., 1998. С. 91–93.
(обратно)Панова Т., Пежемский Д. Отравили! Жизнь и смерть Елены Глинской: историко-антропологическое исследование // Родина. 2004. № 12. С. 26–31.
(обратно)Никитин А. Л. Указ. соч. С. 95.
(обратно)Панова Т. Д. Кремлевские усыпальницы… С. 148.
(обратно)Зимин А. А. Россия на пороге… С. 254–255.
(обратно)ПСРЛ. Т. 8. С. 270.
(обратно)Казакова Н. А. Вопрос о причинах осуждения Максима Грека // Византийский временник. Т. 28. М., 1968. С. 109–126; Т. 29. С. 108–134; Зимин А. А. Россия на пороге… С. 277. Ср.: Назаров В. Д. Тайна челобитной Ивана Воротынского // Вопросы истории. 1969. № 1. С. 214.
(обратно)Отрывок следственного дела о Иване Берсене и Федоре Жареном, с допросами старцу Максиму Греку и келейнику его Афанасию // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографической экспедициею императорской Академии наук. Т. 1. СПб., 1836. С. 141–145. № 172.
(обратно)Казакова Н. А. Вопрос о причинах… С. 131–134; Зимин А. А. Россия на пороге… С. 290–293.
(обратно)Судные списки Максима Грека и Исака Собаки / Изд. H. Н. Покровский, под ред. С. О. Шмидта. М., 1971.
(обратно)Савич А. А. Главные моменты монастырской колонизации Русского Севера в XVI–XVII вв. // Сборник общества исторических наук при Пермском университете. Пермь, 1929. Вып. 3. С. 47–116.
(обратно)Зимин А. А. Россия на пороге… С. 226.
(обратно)Грамота наместника Кафы к Василию III, 1515 г. // РГАДА. Ф. 89. Оп. 1.Д. 1.Л. 89.
(обратно)Грамота султана Селима к Василию III, 1520 г., привезена 8 января 1521 г. с Василием Голохвастовым // РГАДА. Ф. 89. Оп. 1. Д. 1. Л. 132 об.
(обратно)Грамота султана Сулеймана Василию III, 1532 г. // РГАДА. Ф. 89. Оп. 1. Д. 1. Л. 334–336.
(обратно)Грамота белградского митрополита Феофана великому князю Василию III Ивановичу с благодарностью за прежние благодеяния и с просьбой о новых, между 1 марта — 31 мая 1508 г. // Посольская книга 1509–1571 гг. по связям Русского государства с Балканами и Ближним Востоком: («Греческие дела». Книга № 1). С. 136. № 8; Грамота из Ватопедского монастыря великому князю Василию III Ивановичу о получении милостыни, невозможности приезда в Москву священноинока Саввы и намерении прислать Максима Грека, между 23 марта — 30 июня 1516 г. // Там же. С. 129. № 3.
(обратно)Филюшкин А. И. Титулы русских государей. М.; СПб., 2006. С. 79–80.
(обратно)Герберштейн С. Записки о Московии. С. 75.
(обратно)Зимин А. А. Россия на пороге… С. 140–141.
(обратно)Пономаренко О. И. Послание игумена Хутынского монастыря Феодосия старцу Алексею о дьяке Иване Шишкине // Очерки феодальной России. Вып. 5. М., 2001. С. 36.
(обратно)Успенский Б. А. Восприятие истории в Древней Руси и доктрина «Москва — Третий Рим» // Русское подвижничество. М., 1996. С. 464–501; полемику см.: Синицына Н. В. Третий Рим: истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV–XVI вв.). М., 1998. С. 122.
(обратно)Синицына Н. В. Третий Рим… С. 175–182.
(обратно)Там же. С. 225, 228. (Перевод Н. В. Синицыной.)
(обратно)Там же. С. 236, 238, 246–247.
(обратно)Там же. С. 274, 277.
(обратно)Цит. по: Загоровский В. П. История вхождения Центрального Черноземья… С. 74.
(обратно)Хорошкевич А. Л. Русское государство в системе международных отношений… С. 218–219.
(обратно)Зимин А. А. Россия на пороге… С. 364–366.
(обратно)Там же. С. 381.
(обратно)Описи Царского архива XVI в. и архива Посольского приказа 1614 г. М., 1960. С. 18.
(обратно)Челобитная колыванским посадникам и ратманам [от] заключенных в колыванскую тюрьму новгородцев, священника и купцов, с жалобами на их несносное положение и с просьбою выпустить их на поруку, 1484–1504 гг. // Русская историческая библиотека. Т. 15. СПб., 1894. Стб. 78–79. № 40; 1525 г. Память посланца ивангородского наместника и воеводы князя Василия Ивановича Оболенского к колыванскому командору, посадникам и ратманам… // Там же. Стб. 29. № 17.
(обратно)Казакова Н. А. Русско-ливонские и русско-ганзейские отношения… С. 260; Договор магистра с новгородскими наместниками, заключенный в Новгороде. 1 сентября 1521 г. // РГАДА. Ф. 64. Оп. 2. Д. 4; Договор магистра с новгородскими наместниками, заключенный в Новгороде. 1 октября 1531 г. // РГАДА. Ф. 64. Оп. 2. Д. 5; Договор магистра с Василием III. 1 октября 1531 г. // РГАДА. Ф. 64. Оп. 2. Д. 6; Каштанов С. М. Договор России с Ливонией 1535 г. // Проблемы источниковедения. Вып. 1 (12). М., 2006. С. 182–297.
(обратно)Хорошкевич А. Л. Значение экономических связей с Прибалтикой для развития северо-западных русских городов в конце XV–XVI в. // Экономические связи Прибалтики с Россией. Рига, 1968. С. 21, 23, 27, 28.
(обратно)Зимин А. А. Россия на пороге… С. 314–315.
(обратно)Там же. С. 386.
(обратно)Пресняков А. Е. Завещание Василия III // Сб. статей по русской истории, посвященных С. Ф. Платонову. Пг., 1922. С. 72.
(обратно)ПСРЛ. Т. 8. Ч. 2. С. 285.
(обратно)Псковские летописи. Вып. 1. С. 106.
(обратно)Подробнее см.: Кром М. М. «Вдовствующее царство»: Политический кризис в России эпохи «боярского правления» (30-е — 40-е гг. XVI в.). М., 2010.
(обратно)Артамонов В. Василий III. Исторический роман. М., 1995; Шишов А. В. Василий III. Последний собиратель земли Русской. М., 1997.
(обратно)Зимин А. А. Состав Боярской думы… С. 52–53.
(обратно)Кром М. М. «Вдовствующее царство»…
(обратно)Зимин А. А. Дьяческий аппарат в России второй половины XV — первой трети XVI в. // Исторические записки. Т. 87. М., 1971. С. 282.
(обратно)Bogatyrev S. Localism and Integration in Muscovy // Russia Takes Shape: Patterns of Integration from the Middle Ages to the Present / Ed. by S. Bogatyrev. Helsinki, 2004. P. 59–127; Кром М. М. «Вдовствующее царство»…
(обратно)Война Алой и Белой розы — конфликт в Англии в 1455–1487 годах между сторонниками двух ветвей династии Плантагенетов — Ланкастеров и Йорков. В результате Плантагенеты практически истребили друг друга и в 1485 году к власти пришла династия Тюдоров. Бургундские войны — вооруженный конфликт в 1474–1477 годах за объединение земель между Бургундским герцогством, с одной стороны, и Францией и Швейцарским союзом — с другой. В результате Бургундия была разделена между Французским королевством и династией Габсбургов.
(обратно)Тамга — право постановки клейма (тавра) на коней, за которое собиралась специальная пошлина, называемая тамгой; пуд, померное — торговые пошлины с меры веса или объема товара.
(обратно)Федлин, Витгенштейн и Везенберг — замки и города, крупные центры Ливонии.
(обратно)Дата вычисляется следующим образом: в «Послании…» говорится, что царским венцом венчаются Василий III, его братья Ивановичи и Андреевичи. Здесь не упоминаются Борисовичи, последний из которых, Федор, умер в 1513 году, — значит, «Послание…» составлялось тогда, когда род Борисовичей уже пресекся. Иван Андреевич умер в 1523 году, после этого оставался только один Андреевич — Дмитрий, то есть о них уже нельзя было говорить во множественном числе.
(обратно)Герберштейн, видимо, отождествил индийского царя Пора, воевавшего с Александром Македонским, и эпирского Пирра (319/318–272 до н. э.), который неоднократно воевал с Римом. Что же касается Вероны, то она принадлежала императору Священной Римской империи Максимилиану с 1509 по 1517 год.
(обратно)Слово «гамаюн» (райская птица; от младоавестийского humaiia — искусный, хитроумный, чудодейственный) входило в титул персидских и турецких правителей. Считалось, что мифологический образ птицы гамаюн связан с образом власти: над кем птица гамаюн пролетит так близко, что крыльями своими повеет ему на голову, тот будет непременно владыкой. Отсюда в турецком языке слово «гумаюн» обозначает понятие, близкое к европейскому «августейший».
(обратно)Фиваида — область Верхнего Египта, термин происходит от греческого названия его столицы Фив. Известна большим количеством скитов и обителей.
(обратно)Причем оставались таковыми еще долго: в 1569 году, во время первой в истории Русско-турецкой войны, османское войско, отступая от Астрахани, выберет самый трудный маршрут отхода, через безводную степь между Нижней Волгой и Приазовьем, и почти полностью сгинет от голода и жажды, заблудившись в неведомых землях.
(обратно)