Предисловие
Представление европейских народов о короле гуннов Аттиле основывается, главным образом, на легендах и преданиях и имеет мало общего с исторической личностью Аттилы. Исторический Аттила практически не известен нам, хотя о нем и дошло до наших дней больше свидетельств современников, чем о большинстве других исторических персонажей той эпохи. Сотворение мифа об Аттиле началось еще в древности, с успехом продолжилось в Средние века и, похоже, не завершилось по сей день, с той лишь разницей, что современное мифотворчество выступает в виде гипотез, с большей или меньшей основательностью претендующих на научность. В этом нетрудно убедиться, прочитав книгу М. Бувье-Ажана, предлагаемую теперь и российскому читателю. Спешу внести ясность: эта книга служит вкладом не в мифологию, а в библиотеку популярной литературы о замечательных личностях, к числу которых позволительно отнести и Аттилу (замечательный в смысле прославленный, но не обязательно славный). Просто М. Бувье-Ажан увлечен этими гипотезами и щедро делится ими с читателем, ненавязчиво подводя к мысли о предпочтительности той или иной из них. В конце концов, его книга — не научная монография, а скорее историко-биографический роман, и с учетом этого надо подходить к ней. Автор романа находится в иных отношениях с читателем, нежели ученый, опубликовавший монографию: его цель — увлечь, а не убеждать строго научными доводами. Достоверно известные факты столь же достоверно излагаются в книге, а там, где автор ступает на зыбкую почву гипотез, опровергать его можно, разве что предложив еще одну гипотезу…
Трудно говорить очевидные вещи, не рискуя впасть в банальность (потому и банально, что очевидно), но порой еще труднее не сказать их. Рискну и я напомнить, что Аттила был сыном своего народа (не самого смирного) и своего времени (не самого благостного). Каков народ, таков и вождь. Около восьми десятилетий, с 375 по 453 год, из них девятнадцать лет под предводительством Аттилы, гунны повергали Европу в ужас. Страдания, причиненные ими за это время различным народам, неизгладимо запечатлелись в памяти потомков. Само название «гунны» и по сей день вызывает в воображении пугающие образы, и даже исторические исследования, основанные на изучении источников, не смогли сделать эти образы более привлекательными. Гунн — дикий и свирепый варвар. Суждение серьезных исследователей о роли гуннов в истории Европы никогда не менялось.{1} Оно в общем и целом совпадает с народной традицией, даже если и расходится в оценке отдельных событий и фактов. Одно бесспорно: орды гуннов повсюду на своем пути сеяли смерть и разрушение. Ни один из заслуживающих доверия источников не сообщает об освободительной или культурной миссии этого кочевого народа, хотя бы об одном благотворном деянии, пережившем их пребывание в Европе.
Далеко не так просто, как с оценкой гуннов в целом, обстоит дело с суждениями об их знаменитом вожде Аттиле. Его образ словно продолжает жить, постоянно меняясь, то и дело обретая в биографических сочинениях некую романтическую окраску. Вот и в книге М. Бувье-Ажана Аттила выглядит не таким уж и страшным и, совершенно определенно, не столь плохим, как привыкли о нем думать. Если и «Бич Божий», то бичующий по заслугам… Впрочем, полюбить можно кого угодно, любовь не разбирает. Хотя нет, Атгилу, по-моему, нельзя полюбить, да и отношение к нему автора представляемой книги скорее не любовь, а, самое большее, — симпатия, уважение, для которого можно найти обоснование. Все источники свидетельствуют, что Аттила в своей частной жизни был прост и сдержан. Не будучи по своим привычкам и наклонностям аскетом (по гуннскому обычаю он имел многочисленных жен и не чурался известной роскоши при своем дворе), он вместе с тем никогда не забывал, что должен сохранять королевское достоинство. На людях, во время пиров и при переездах, он был исключительно сдержан, что стало его второй натурой. В целом же на основании античных свидетельств создается образ человека, который в качестве вождя варварских орд хотя и внушал ужас, однако лично не производил неблагоприятного впечатления на тех, кто встречался с ним.
Как в легенде, так и в историографии Аттила изображается бесспорно выдающимся правителем, каким представляется, например, Альфред Великий англичанам или Оттон Великий немцам. Был ли Аттила действительно великим правителем? Современные ему авторы характеризуют его как несомненно сильную личность. Аттила был единственным королем гуннов, которому удалось объединить под собственным верховным господством отдельные гуннские и многие другие покоренные ими варварские племена и поставить их на службу своим политическим целям. Во внешней политике он демонстрировал удивительную прозорливость и осмотрительность, умело сочетая силу и хитрость. Проведение им военных кампаний обнаруживает в нем немалый талант стратега. Государственным деятелям Рима он казался тем, кем только и мог казаться — дерзким выскочкой и азартным игроком. Отваживаясь на крупномасштабные акции, он никогда не упускал из виду возможность хотя бы что-то приобрести. Во взаимоотношениях с противниками он становился, как только ощущал неприятие с их стороны, непримиримым и высокомерным до фанфаронства. Несговорчивый и настороженный в переговорах с врагами, он хитро использовал любую их слабость. Зато поверженному противнику он мог продемонстрировать свое великодушие, умел даже привлечь его на свою сторону, оказывая ему доверие. Хорошее взаимопонимание, существовавшее на протяжении многих лет между ним и вождями остготских племен, объясняется исключительно великодушной и умной политической позицией Аттилы. Словом, личность незаурядная, что само по себе и не вызывает сомнений, но не перебарщивает ли М. Бувье-Ажан, с явным удовольствием живописуя, как ловко Аттила водит за нос обоих кесарей, западного и восточного? Конечно, Валентиниан III и Феодосий II — далеко не самые славные персонажи греко-римской истории, но ведь выбирать надо меньшее зло. Впрочем, пусть этот вопрос решают читатели.
Правда, великим человеком Аттила считался лишь в пределах своего собственного мира, среди родственных ему кочевых племен, которые жили грабежом, не зная высоких запросов и не стремясь к тому, что придавало бы их жизни постоянство и более глубокий смысл. Историческое величие обретается не одними только военными успехами: выдающийся человек должен оказывать на окружающих и некое духовное влияние.
Современные Аттиле греки и римляне, сохранявшие приверженность язычеству, видели в нем в высшей мере опасного врага, с которым приходилось считаться, в остальном же презирали его как варвара, человека, во всех отношениях стоящего ниже их. Все авторы, не исключая и осмотрительного грека Приска, необычайно сдержанного и беспристрастного в своих высказываниях, почти всегда говорят о нем как о «варваре». Известно, что варварами греки и римляне называли всех, кроме самих себя (а греки — и римлян тоже), однако Аттила, на их взгляд, концентрировал в себе варварства неизмеримо больше, чем какой-нибудь вестгот или вандал.
Римские и греческие христиане презирали Аттилу как нехристя. Они считали его не достойным милости Божией, а посему предопределенным для совершения дьявольских дел. Именно этот смысл и вкладывается в его прозвище «Бич Божий». Прозвище человека всегда отражает его место в системе ценностных представлений общества. В христианском мире, ориентированном на спасение души и обретение вечного блаженства, Аттила мог считаться только орудием Дьявола.
«Бич Божий» — страшное определение, а применительно к Аттиле как человеку, который, по свидетельству современников, не отличался патологической жестокостью и не преследовал по вероисповедному или этническому признаку (как это делали, например, король вандалов Гейзерих или король готов Эврих), пожалуй, и слишком суровое. Если же рассматривать Аттилу в ипостаси короля гуннов, то он вполне заслуженно заклеймен этим прозвищем. Гунны оказались для народов Европы одним из самых тяжких испытаний в ту столь изобильную страшными бедствиями эпоху. А как сам Аттила относился к этому прозвищу? И вообще, знал ли он, что христианский мир наложил на него подобное клеймо? Свидетельства источников на сей счет достаточно баснословны и потому не кажутся убедительными. Античные авторы любили приукрасить свой рассказ заведомо вымышленными эпизодами, баснями и анекдотами, не только развлекавшими читателя, но и работавшими на авторскую концепцию. Басня о том, как некий христианский аскет бросил прямо в лицо Аттиле: «Бич Божий!», и как реагировал на это вождь гуннов, в какой-то мере правдоподобна, и этим охотно пользуется М. Бувье-Ажан, заставляя басню работать на собственную концепцию. Авторский выигрыш очевиден: исторической фальсификации нет, Аттила же благодаря этому нехитрому приему предстает еще более загадочной и сложной личностью, интригуя читателя.
Для крещеных и некрещеных римлян Аттила был варварским королем в ряду многих других, столь же, а порой даже и еще более ужасных. Разве Аларих и его преемники не опустошили Италию, Испанию и Галлию? Разве Гейзерих не пронесся смерчем по африканским провинциям Рима и не захватил Сицилию? В отличие от них Аттила, с которого Аэций глаз не спускал, по крайней мере, поддерживал с 434 по 449 год дружеские или хотя бы нейтральные отношения с Западной Римской империей. И тут мы подходим к основной интриге сочинения М. Бувье-Ажана, главными персонажами которой являются Аттила и римский патриций Аэций. Весь сюжет строится вокруг взаимоотношений этих «друзей-врагов», в руках которых на какое-то время оказалась судьба Западной Римской империи. Это — наиболее сомнительный, но вместе с тем и самый выигрышный литературный прием, позволяющий держать читателя в напряжении. На мой взгляд, здесь автор заходит слишком далеко, покидая даже зыбкую почву гипотезы и проваливаясь в трясину ничем не обоснованного допущения того, что эти «друзья-враги» задумали поделить греко-римский мир и равноправными партнерами господствовать в нем. Правда, и здесь нет прямой фальсификации, поскольку читатель без труда может понять, что речь идет не о бесспорном историческом факте, а о догадке автора популярной книги.
По смелости с этой догадкой может сравниться лишь гипотеза, к тому же весьма распространенная, о психической неуравновешенности (если не сказать шизофрении) Аттилы. Так пытаются объяснять нелогичность некоторых поступков предводителя гуннов. М. Бувье-Ажан не разделяет эту гипотезу, хотя и не отвергает ее полностью. Он резонно допускает, что могли быть причины, о которых нам ничего не известно. Действительно, в источниках зияют пробелы, для заполнения которых предлагаются многочисленные гипотезы, и порой довольно сенсационные.
Что же касается целей завоевательной политики Аттилы, то он предпринимал военные походы против Западной и Восточной Римских империй в надежде разжиться богатой добычей, необходимой для оплаты преданности подчиненных ему вождей и верности находившихся под его командованием чужих войск. Когда же король гуннов попытался хитростью и угрозами обеспечить за собой право на управление Западной Римской империей (о чем живо повествуется в книге М. Бувье-Ажана), его намерения разбились о непреклонную позицию Валентиниана III. Так Европа была избавлена от прискорбной участи лицезреть Аттилу сначала в качестве соправителя, а затем, вероятно, и единоличного правителя в Риме или Равенне. Нескольких месяцев его господства хватило бы, чтобы уничтожить в Италии, и без того пострадавшей от нашествия варваров, последние остатки культуры.
Но сумел ли бы Аттила удержаться на западно-римском императорском троне? Едва ли, и не потому, что его личные качества не позволяли этого. Личные качества не имели тогда решающего значения, иначе такой недостойный во всех отношениях правитель, как Валентиниан III, не удержался бы в течение тридцати лет на троне. Решающее значение имело то, что Аттила, вождь кочевников, не обладал государственным мышлением и не имел при себе полководцев и министров, достаточно опытных для управления Империей. В отличие от него вожди готов и вандалов были потомками правителей, повелевавших оседлыми народами; обосновавшись в римской провинции, они тут же создавали постоянную резиденцию, становившуюся действующим центром их нового королевства. Кроме того, они, чтобы упрочить свое господство, привлекали к себе на службу римских чиновников и использовали уже имевшиеся на захваченных территориях управленческие структуры.
Германские народы издавна, а особенно после принятия христианства, стояли ближе к римлянам, чем гунны. Готы и вандалы долгое время поддерживали тесные отношения с римским миром, тогда как между гуннами и римлянами не наблюдалось даже и малейшего сближения. Главные опорные пункты гуннов находились в римских провинциях Мезия и Паннония, а также в Северном Причерноморье, то есть вдали от римских культурных центров. Готы же, в отличие от гуннов, поселились в провинциях, которые уже много сот лет находились во владении римлян. И под господством готов местное галло-римское население сохраняло свой статус римских граждан. Гражданское управление там в основном оставалось прежним — римским.
Впрочем, говорить о том, сумел ли бы Аттила удержаться на римском императорском троне, можно лишь гипотетически. Достоверно же известно, что он не смог завладеть этим троном, а его огромная империя развалилась вскоре после его смерти. Он совершил вторжение в Италию, и до Рима было уже рукой подать, когда он внезапно изменил свои намерения и повернул назад, загадав историкам одну из самых главных загадок своего правления. Имеющиеся факты позволяют лишь строить догадки и придумывать разнообразные объяснения — от очередного приступа шизофрении у гуннского вождя до чуда, сотворенного папой римским Львом I Святым. М. Бувье-Ажан, похоже, склоняется к последней версии, читателю же придется смириться с мыслью, что он так и не узнает правды. Возможно (опять гипотеза!), история эта получила бы продолжение, если бы год спустя Аттила не умер.
Наконец, следует сказать несколько слов о такой особенности авторской манеры М. Бувье-Ажана, проявившейся в предлагаемой книге, как написание географических названий. Даже читатель, не искушенный в древней истории, без труда заметит в этом некоторое несоответствие, сообразит, что места, по которым двигался со своим войском Аттила, тогда не могли называться «югом России», «Украиной» или «регионом к югу от Москвы». Не будем подвергать сомнению осведомленность автора в области исторической географии и выскажем предположение, что он допустил подобные вольности во благо читателю, дабы легче было ему ориентироваться на арене исторических событий.
В заключение хотелось бы поздравить российских читателей — любителей популярной исторической и биографической литературы с тем, что они получили весьма добротную книгу об Аттиле, о котором прежде могли узнать лишь скупые сведения из энциклопедий и общих исторических трудов. Достоинств у этой биографии, написанной вполне достоверно и довольно живо, больше, чем недостатков.
I
В ожидании Бича Божия
Неужто конец света? Почти все верили, что он близок, а некоторые ждали его со дня на день.
Все навалилось враз: война, набеги, восстания, нищета, бандитизм, преступность и разврат. Повсюду царила ненависть — политическая, расовая, религиозная и социальная. Власть добывали через заговор и убийство и так же теряли ее. Привилегированные злоупотребляли привилегиями, пока еще не пробил последний час, и не питали иллюзий в отношении завтрашнего дня. Расточительству богатых не было предела, и жажда греховных утех не знала утоления, а нищета и страдания бедноты достигали крайней точки, и целые края находились в состоянии непрекращающегося бунта против властей. Крестьяне бежали с земли от грабежей и насилия варваров, регулярных войск, мятежников, дезертиров, благородных разбойников и бандитов с большой дороги. Все слои общества и все государственные структуры находились в противостоянии: борьба за трон, соперничество гражданских и военных чиновников, конфликты между центральной властью и крупными землевладельцами, тяжбы между латифундистами и арендаторами, грызня между христианами и язычниками, христианами и христианами, язычниками и язычниками, епископами и графами, крепостями с многочисленными гарнизонами и разного рода общинами, от городской коммуны до притона бунтовщиков, колонов и беглых рабов.
Так умирала Римская империя.
Плоды блистательных побед — бескрайняя территория и сотни покоренных племен и народов — стали причиной ее гибели.
Агония началась уже очень давно, и попытки разделить императорскую власть или, напротив, сконцентрировать ее в руках одного энергичного деятеля не могли ее остановить. Несмотря на все преобразования, Рим был везде, и Рима не было нигде.
В целях сплочения Империи, в 212 или 213 году был издан знаменитый Эдикт Каракаллы, по которому все свободные люди всех провинций получали «право римского гражданства» и становились — включая галлов — римскими гражданами. Действие эдикта не распространялось ни на вольноотпущенников, ни на иностранных наемников и колонов-иммигрантов, которых не предполагалось ассимилировать с коренным населением. В действительности это юридическое уравнивание в правах всего лишь закрепляло фактическое равенство, которое появилось в результате предшествующей политики Траяна, Адриана и Антонина Пия. Эдикт не имел больших последствий. Впрочем, он подтвердил законность институтов, существовавших в наиболее романизированных областях Империи. При этом Рим провозглашался скорее столицей столиц, нежели единой столицей Империи.
Распад Империи продолжался, и серия политических убийств, последовавшая за покушением на Каракаллу и его гибелью в 217 году, только ускорила процесс. Увеличение налогов и податей с граждан Империи привело к уклонениям от платежей и отказам от гражданства. Многие иммигранты, издавна жившие в Империи и имевшие право на гражданство, прилагали все усилия, чтобы его не получить. Римский гражданин, урожденный или получивший гражданство, не верил в будущее Рима и считал, что отныне защита Империи — дело наемников и «союзных» варваров. В императорский пурпур облачались выходцы из Сирии и Фракии, и не за горами было время, когда самые высокие гражданские и военные должности будут занимать вандалы, уроженцы Паннонии и франки.
Рим везде и Рима нет нигде. Какие бы чувства ни испытывали галлы в прошлом к римским завоевателям, они теперь совместно с легионерами отбивали атаки алеманнов и франков, вторгавшихся на их территорию. В 223 году, пока император Александр Север, финикиец, тщетно пытался изгнать персов из римской Месопотамии, алеманны возобновили свои нашествия. Дорогу им преградило галльское народное ополчение. Ненавидевшие Рим и романизацию галлы встали на борьбу с общим врагом. Александр Север послал гонца сообщить им, что идет на выручку во главе войска из сирийцев и наемников с Востока. Галло-римская армия возмутилась: неизвестно, что хуже — романо-сирийцы или алеманны! Галльские ирредентисты разошлись по домам, а между галло-римскими и римско-сирийскими легионами очень скоро наступил разлад, к тому же восточная стратегия крупномасштабных сражений не годилась против алеманнской тактики засад, мелких стычек, атак смертников и истребления мирных деревень. Потери росли, воины винили начальников, начальники — императора. Александр Север был убит у Майнца в марте 235 года во время военного мятежа, возглавленного его помощником фракийцем Максимином, который провозгласил себя императором. Он разжигал боевой пыл наемников, позволяя им всё и раздавая обещания, разорил земли алеманнов и перенес военные действия в придунайские области; однако он наобещал своим воинам больше того, что мог выполнить, и был ими убит.
В течение последующих тридцати лет галло-римляне остаются главными стражами северных и восточных границ Империи, не только отбивая новые нападения алеманнов, но и ведя упорную войну с франками, прочно осевшими по правому берегу Рейна от Черного моря до окрестностей Майнца. Италийские римляне сдерживали южных алеманнов, пытавшихся захватить их земли.
Но какие произошли перемены!
Во-первых, несмотря ни на что, натиск варваров становился все сильнее, угрожая стать неудержимым, а римский мир этого не замечал. Политики, сочинители исторических трактатов и прочие современники туманно объясняли его алчностью, врожденной тягой кочевников к перемене мест, притягательной силой океана, судьбой, капризом богов или игрой сил Зла.
Во-вторых, необходимость защищать свои границы во многих местах одновременно вынуждала Империю призывать одних варваров для борьбы с другими варварами. Целые племена их спешно включались в состав римской армии. За «федератами» закреплялись права на землю в обмен на поставку в войска требуемых контингентов. Военные поселенцы, так называемые «леты», в большинстве своем рейнского происхождения, должны были выступать в поход по первому сигналу и нести постоянную службу по охране границ. Они, конечно же, приобретали легкий налет романизации, но при этом «варваризировали» Империю. Им никак нельзя было полностью доверять, особенно в войне с их соплеменниками или родственными народами.
В-третьих, огромная территория Империи, административный, налоговый, военный и экономический гнет, слабость центральной власти и пугающая частота политических убийств и государственных переворотов порождали в провинциях всплески национализма, восстания и сепаратистские мятежи. Попытки отколоться происходили почти повсюду: в Малой Азии, Сирии, Египте, Галлии, Британии, Испании, якобы романизированной Германии, дунайских провинциях… И порой сепаратисты достигали впечатляющих успехов: Галлия избрала собственного императора, не признававшего власть Рима, и только военное поражение вернуло мятежную провинцию в лоно Империи; Сирия, «романизированная» Малая Азия и Египет объединились в «Восточную империю», во главе которой встал «самодержец» Септимий Оденат, а после смерти последнего в 267 году — его вдова «императрица» Зенобия; дунайский князь Авреол совершил поход на Медиолан, который ему удалось захватить, и император Галлиен, не сумевший ему помешать, был убит в 268 году своими военачальниками, которые с трудом повели контрнаступление, завершившееся в конце концов победой Рима.
И наконец, повсюду царила удручающая нищета, и даже не столько из-за поборов и злоупотреблений Рима, сколько по причине полного развала экономики и самоуправства латифундистов.
В качестве примера возьмем римскую Галлию. Уже с конца I века здесь устанавливается домениальная система, основанная на господстве крупных землевладельцев. Рядом с бесправными владельцами жалких клочков земли хозяин большого поместья чувствовал себя всемогущим. У него была укрепленная усадьба, превращенная в крепость, и собственная гвардия, его земли возделывали рабы и слуги или же крестьяне-арендаторы, часто вынужденные заключать договора на драконовских условиях. Однако его реальная власть этим не ограничивалась. Он беспощадно эксплуатировал свободных крестьян, которые в те тяжелые времена вольно или невольно переходили под его «защиту». Латифундист устанавливал для подвластных ему людей собственные законы, заставлял их отрабатывать барщину и отдавал на произвол управляющих и свирепых арендаторов, которые выжимали из поместья последние соки, отдавая хозяину только часть дохода в виде оброка. Запрет уходить с земли распространялся практически на всех, кто жил крестьянским трудом. Позднее римские законы только усилят этот крепостной гнет. Суровые наказания, невыносимый труд и злоупотребления латифундистов и их управляющих приводили к тайному бегству крестьян, а порой и вспышкам насилия. Беглые, беднота, разорившиеся крестьяне и безработные устраивали голодные бунты, громили все, что попадалось под руку, и захватывали целые области, организованно обеспечивая их оборону и хозяйственное использование. К 280 году эта вольница занимала около трети страны. Это были «багауды», люди, поставленные в Империи вне закона, жившие по собственным законам и всегда готовые дать вооруженный отпор «силам правопорядка», регулярным войскам и частным отрядам крупных землевладельцев.
Багауды сыграют не последнюю роль в жизни Аттилы. Их первое крупное восстание произошло в 270 году. Тогда началось «революционное крестьянское движение», организованная или, как часто говорят историки Галлии, «первая багаудия». Волнения то затухали, то вспыхивали с новой силой, но никогда не прекращались. Слово Bagaudae или Bacaudae по одной версии означало на кельтском «борцы», по другой — происходило от имени одного из вождей мятежников — Бага или Бака.
Багауды селились общинами, в которых были свои начальники и подчиненные, крестьяне, ремесленники, проповедники и воины; они добывали себе пропитание крестьянским трудом и отбивались от римских войск оружием, захваченным в боях или произведенным в собственных мастерских. К ним стекались все, кто искал лучшей доли: беглые рабы, крепостные, батраки, разорившиеся ремесленники и дезертиры. Они сторонились разбойников, но иногда устраивали совместные набеги на богатые поместья. Волнения происходили не только в Галлии, но и в Испании, Иллирии, Египте и даже самой Италии. Но то были восстания рабов, а не крестьянские войны, как в Галлии.
Багауды то объединялись с регулярными войсками и отрядами местной самообороны для борьбы против внешнего врага, то, наоборот, переходили к захватчикам, видя в них освободителей и надеясь затем поторговаться с ними. Какое искушение для агрессора заручиться поддержкой этой вольницы! Тем более, что в посредниках и предателях, как увидим далее, недостатка не было…
Несомненно, что сами огромные размеры Империи служили первой причиной ее уязвимости. В середине III века при императоре Валериане были получены неумолимые свидетельства того. Императору пришлось одновременно отбиваться от северных и южных алеманнов, франков, дунайских готов и персов. Валериан спешно привлекает к управлению страной своего сына Галлиена (253 год) и поручает ему оборону западных рубежей, а сам устремляется на персов, которые захватили Сирию. Валериан был разбит и захвачен в плен персидским царем Пором, которого римляне называли Шапуром, и в течение девяти лет царь, садясь на коня, использовал спину римского императора вместо подножки, а затем приказал живьем содрать с него кожу. Галлиен же после ряда несомненных успехов был убит — за то, что не смог остановить поход дунайских племен на Медиолан.
Настоящее возрождение стало возможно только благодаря гению императора Аврелиана. Начав свою карьеру полководцем при Клавдии II, он отогнал варваров от западных границ, вынудил готов капитулировать и оставил в тех местах необходимые войска, дабы не допустить возобновления готской угрозы, а затем встретил легионы «императрицы Востока» Зенобии, которая, придя на смену почившему супругу Септиму Оденату, встала во главе сепаратистов Сирии, Малой Азии и Египта, разбил ее и захватил в плен, уничтожив так называемое «Пальмирское царство». Став императором и возвратившись в Рим в 270 году, он укрепляет столицу, как ни один из его предшественников — «Аврелианова стена» сохранилась до наших дней. Но в это время от Империи отложилась Галлия, обремененная возобновившейся войной с франками, алеманнами и другими германскими племенами и кланами, которых все прибывающие новые пришельцы вытесняли на земли Империи, а также выступлениями багаудов, усугублявшими глубокий экономический кризис. Был избран «галльский император» Тетрик, которого Аврелиан хорошо знал по совместным походам против германцев.
Тетрика и его сына Тетрика II, разделившего власть с отцом, тут же накрыло волной бандитизма, захлестнувшего страну, восстаний колонов-варваров и разбойных нападений багаудов. Оба Тетрика были напуганы поглощавшей их пучиной анархии и тайно вошли в сношения с Аврелианом. Был разработан следующий план: Аврелиан вторгнется в Галлию и окружит войско Тетриков, галлы сдадутся на почетных условиях и перейдут под командование Аврелиана, а самих «императоров» сопроводят под эскортом в Рим. Все вышло, как и было задумано. Аврелиан жестоко подавил внутреннюю смуту. Тетрики какое-то время жили под надзором в роскошном особняке — как и Зенобия! Затем Тетрику-старшему вернули его прежнее достоинство римского сенатора и поручили управление одной из областей Италии…
Но всё та же проблема с огромной Империей: Аврелиан вознамерился покончить с персами, и в результате возникли трения с верховным командованием, а дальше — заговор командиров, убийство Аврелиана вольноотпущенником, расправа разъяренных солдат с заговорщиками и новый император — Тацит, семидесятипятилетний потомок великого историка. Тацит — все те же бескрайние просторы Империи! — предпринимает безумный поход на аланов, спустившихся с Кавказа и захвативших территорию современной Турции. Снова конфликт с верховным командованием, и Тацит убит после каких-нибудь восьми месяцев правления (276 год).
Аланы еще не раз встретятся на страницах этой книги. Это был удивительный народ. Пришли аланы неизвестно откуда, возможно, из Казахстана, теснимые другими кочевниками. В конце концов они осели между Волгой, Кавказом и Доном, став мирными пастухами, больше думающими о защите своих семей и стад, чем о расширении владений. Обороняли они главным образом восточные рубежи, откуда время от времени появлялись орды кочевников. Затем совершенно неожиданно аланы, как следует вооружившись, вторгаются на Северный Кавказ, а потом ценой невероятных усилий преодолевают Кавказский хребет, опустошают районы Батума, Тифлиса и даже Баку, после чего, точно по сигналу, возвращаются, откуда пришли, обремененные трофеями, явно не оправдывавшими тягот похода. Возможно, это было временное отступление, поскольку на другом берегу Волги были замечены угрожающие скопления грабительских шаек кочевников и нужно было где-то переждать, пока опасность не исчезнет. Но почему аланы двинулись в труднодоступные Кавказские горы, а не на север? Несомненно потому, что на русских равнинах обосновались достаточно энергичные и агрессивные народы, а также в связи с тем, что из центральной Руси полились пугающие орды, до странности похожие на те, что маячили на волжских берегах. Их целью, по-видимому, было Каспийское море. Римляне полагали, что эти кочевники пришли из Сибири. Итак, аланы оказались зажатыми с востока и с севера новыми пришельцами, а так как они ни за что на свете не желали столкнуться с могучими и страшными готами, обосновавшимися на западе и ставшими также хозяевами Меотиды (Азовского побережья), у них просто не было другого пути, кроме как с боями прорываться на юг.
Их дерзкое вторжение показало всем слабость Рима: границы Империи не были непреодолимы, а ее реакция — молниеносной. Другие варвары возьмут это на заметку. В конце концов, не желая затягивать войну и удовлетворившись захваченной добычей, аланы заключили предложенный римлянами довольно шаткий мир и ушли, подумывая о новых набегах (276 год).
Римляне и аланы снова начали все чаще сталкиваться с дикими ордами, появлявшимися в местах, в которых, казалось бы, их и быть не должно. Аланам они были знакомы несколько лучше, чем римлянам. Несмотря на свою храбрость и осторожность, аланы время от времени уже предоставляли право проезда их конникам и обозам.
Аланам даже пришлось смириться с тем, что некоторые из этих малоприятных кочевников оседали — конечно, в небольшом количестве и, в принципе, ненадолго — на их земле, большей частью на берегах Волги. Большой симпатии они не вызывали. И когда аланы отправились походом в Турцию, они не без некоторого смятения заметили, что несколько отрядов этих незваных гостей двинулись той же дорогой и даже ввязывались в стычки с ними, а потом так же неожиданно, как и пришли, ушли, и никто не знал, почему.
Это были, как впоследствии опишет их римский командир Аммиан Марцеллин, диковинные существа монголоидного типа, от которых воняло прогорклым маслом, отвратительно грязные и грубые, убивавшие ради удовольствия убивать и поджигавшие ради удовольствия поджигать. Они мало говорили, но испускали гортанные крики, похожие на хиунг, хианг, хун!
Это были первые мимолетные появления гуннов на юго-востоке Европы.
Они не отличались от множества других косматых варваров, грабителей и убийц. Ничто не предвещало того, что им предстоит объединить вокруг себя гигантские массы людей, совершить дальние походы и величайшие завоевания. О них вообще еще ничего не знали, считая заурядными разбойниками, которых рано или поздно удастся перебить. Их появление на исторической сцене осталось практически незамеченным: сколько других народов так же возникало из небытия, терроризировало мир в течение нескольких лет, а то и месяцев, и снова растворялось во мраке!
Совершенно необходимо проследить, хотя бы в общих чертах, эволюцию Римской империи с момента первого мимолетного появления гуннов до того дня, когда остро встанет вопрос римско-гуннских отношений. Долгая и полная кровавых битв борьба гуннов с Римской империей занимает главные страницы истории Аттилы — равно как и его предшественников, — и невозможно понять мотивы, способы и даже сами факты сменявших друг друга этапов этого ужасного поединка, не зная, как для него готовилась почва.
Аттила обрушился на римский мир. Следует вспомнить, как выглядел этот мир, какие события привели его к этому состоянию, в чем были его сила и его слабость.
Римская империя, союзниками, а затем врагами которой стали гунны, была двуглавой. Для осмысления политики Аттилы необходимо знать истоки и последствия этого раздвоения, неспособного сдерживать стремления к национальной независимости подчиненных и эксплуатируемых «провинций».
Несмотря на все зигзаги своей эволюции, Рим еще оставался Римом, но уже был не тот. Империя хотела быть экуменой, цивилизованным миром, цивилизованным в том смысле, который она придавала этому слову. Это стремление не раз будет объяснять поведение римлян в отношении гуннов, им объясняются союзы, войны и неожиданные смены курсов. Это был неизменный фактор. Но Аттила умел постигать и побеждать римских императоров, столь непохожих друг на друга; его дипломатия, его поведение, его войны и союзы всегда в значительной степени основывались на знании их личных способностей и характера, поэтому и нам стоит выяснить о них то, что было известно ему.
Рим, официально принявший христианство, ждал «Посланца Господня». Причины этого знать тем важнее, что они во многом объясняют, почему Аттила счел за честь быть «Бичом Господним».
Итак, в 276 году аланы согласились заключить мир. Но почему римляне не пожелали начать переговоры намного раньше, вместо того чтобы ввязываться в кровопролитную борьбу?
Тацит, как и Аврелиан до него, мечтал возродить Империю во всем ее величии. В славные времена Антонинов, особенно с правления Траяна до Марка Аврелия, Империя именовалась экуменой, то есть цивилизованным миром, — другими словами, миром, подвластным Риму. Эта экумена, не замечавшая других цивилизаций и презиравшая соседние варварские народы, должна была сохранять свое единство, несмотря на все различия составлявших ее частей.
Восстановив власть Рима над «Пальмирским царством» и Галлией Тетрика, Аврелиан провозгласил себя «восстановителем экумены». Восстановление экумены было главной идеей, смыслом существования всех этих беспокойных героев, которых позднее назовут «последними римлянами», это была неосуществимая мечта всех, кто не понимал, что мир развивается иначе.
После трагической гибели Аврелиана и бесконечных споров в Сенате императором был назначен Тацит, даже не претендовавший на верховную власть. Старик, слывший мудрецом и благодаря этому избранный, решил оправдать свое избрание, с энтузиазмом принявшись за восстановление экумены, ибо так он мыслил доказать, что действительно мудр! Он стал еще одной жертвой мечты об экумене.
Тяжелый кризис, вызванный последовавшими сразу друг за другом убийствами Аврелиана и Тацита, был прерван приходом к власти Диоклетиана, который стремился проявить себя решительным реформатором, устроителем экумены.
Далматинец Диоклетиан, уроженец Иллирии — он появился на свет в нынешнем югославском Сплите — решил навести порядок. Для поддержания единства Империи необходимо было перестроить систему управления. Так возникла тетрархия, что означает «власть по четвертям».
Один император — разумеется, он сам, Диоклетиан — становится воплощением римского единства, воплощением Рима, но территориально императорская власть распределяется между двумя императорами, каждый из которых получает титул Августа. Каждому Августу помогает в делах вице-император с титулом Цезаря. Цезарю доверяется командование примерно половиной всех территориальных войск его Августа.
Город Рим в этих условиях становится символом, производным от которого является название государства. При распределении территориальной власти он мог стать столицей империи, но это не было обязательным.
А пока что Август Диоклетиан обосновался в Никомедии на Пропонтиде (Мраморном море), защищая границы от Дуная до Евфрата, которые постоянно подвергались нападениям варваров, тогда как Август Максимиан избрал своей столицей Медиолан — Милан, обеспечивая защиту альпийских перевалов и путей сообщения с линией обороны по Рейну. Каждому Августу подчинялся его заместитель — Цезарь. Цезарь Диоклетиана, Галерий, устроил свою штаб-квартиру в Сирмии на Саве, а Цезарь Максимиана, Констанций Хлор — в Трире на Мозеле. В Риме не осталось ни августов, ни цезарей, но сам Диоклетиан и был «Римом».
Эта реформа — которая в конечном итоге приведет к разделению Римской империи на Западную Римскую империю со столицей в Риме или Равенне и Восточную Римскую империю со столицей в Константинополе — не решила проблем огромной территории и разноплеменного населения. Преобразования Диоклетиана носили оборонительный, военный характер. Император не мог разорваться, отбивая нападения и германцев, и персов, подавляя освободительные восстания в покоренных странах и крестьянские волнения дома. К внешним врагам добавлялись внутренние — багауды и узурпаторы, пытавшиеся создать свои собственные империи, как, например, римский флотоводец Караузий в Британии.
Максимиан, коллега-Август Диоклетиана, «восстановил порядок» в Галлии, истребив шайки разбойников и устроив резню багаудов, не утруждая себя необходимостью отличать опасных мятежников от мирных крестьян, и широко практиковал массовые казни и показательные расправы. Сам Диоклетиан стремился унифицировать Империю, превратить ее в абсолютную монархию, беспрекословно подчиняющуюся воле правителя. Любые проявления свободы подавлялись, свободные и полусвободные крестьяне и ремесленники практически уже не отличались от рабов. Повсюду учреждались профессиональные «коллегии», жившие по жесткому регламенту. Всё и вся подчинялось строгим правилам: найм на работу, способы производства, количество, качество, обмен, цены. Налоги превысили все границы разумного; на собрания христиан, уход с земли колонов и крестьян наложен запрет. Огромные массы людей, уставшие жить в страхе, только и желали, чтобы явился избавитель и положил конец издевательствам. Только Цезарь Констанций Хлор, носивший с гордостью титул Caesar Galliarum — Цезарь Галлии, являл собой образец умеренности и человеколюбия; ему практически удалось стереть из памяти народа жестокости Максимиана; он противился любым религиозным преследованиям и не исполнял деспотичных указов Диоклетиана; его даже полюбили! Увы, после отставки — согласно тетрархической конституции — Диоклетиана и Максимиана, он пробыл императором — Констанцием I — немногим более года (305–306 гг.).
Ему наследовал сын Константин, который станет «Константином Великим». Максимиан, не желавший уходить с политической арены, организовал заговор против него, но потерпел неудачу и покончил с собой. Узурпации, мятежи, войны между Августами и Цезарями следовали бесконечной чередой. Галерий, коллега-Август Константина, был изгнан из Италии узурпатором Максенцием, сыном Максимиана. Он создал собственное королевство в дунайских провинциях, только усилив там поборы и преследования, поэтому, когда он скончался в 311 году, Церковь усмотрела в этом «руку Господа», и простой народ в этом не усомнился. Всемогущему уже давно следовало вмешаться. И вот Константин провозглашает свободу вероисповедания.
Не раз пользовавшийся поддержкой епископов в борьбе с многочисленными соперниками, Константин издал в 313 году Миланский эдикт, в котором провозглашалась свобода вероисповедания и предоставлялись большие льготы христианской церкви, хотя император тогда еще к ней не принадлежал. Он утвердил постановления Никейского собора 325 года, объявившего ересью арианство — учение, которое возникло в Александрии и получило свое название по имени своего создателя — священника Ария. Ариане отрицали божественную единосущность Отца и Сына и не признавали божественность Слова, воплощенного в Сыне. Раскол между католиками, принадлежавшими к «римской» Церкви, и арианами, проклятыми этой Церковью, тем самым был лишь закреплен, что влекло за собой тяжелые последствия.
Константин считал себя повелителем экумены. И повелитель этот был христианином. Начиналась новая эра: неужто Господь наконец-то признал своих?
В 330 году Константин оставляет Рим и провозглашает столицей древний греческий город Византий, который станет Константинополем — городом Константина. Императорский деспотизм и рабовладение переживали свой последний расцвет. Со смертью императора 22 мая 337 года все рухнуло. Повсюду начались мятежи, возобновились братоубийственные войны. Нет, Господь так и не признал своих.
Все вернулось на круги своя! Узурпации, предательства, убийства, самоубийства, казни… Все чаще претенденты на императорский трон прибегали к помощи варваров, которые пользовались этим, чтобы осесть на римских землях.
Племянник Константина, Цезарь при Августе Констанции, Юлиан сумел в конце концов отбросить за Рейн алеманнов (август 357 год).
Он перенес столицу в свою «дорогую Лютецию». Констанций, виновный в возмутительных сделках с самыми сомнительными варварами, приревновал к его славе и повелел Юлиану направить на Восток свои лучшие войска, состоявшие главным образом из галлов. Легионеры взбунтовались и провозгласили Юлиана Августом (т. е. императором), даже не спросив его согласия. Вскоре Юлиан получил уже безраздельную власть (361 год).
Он был неутомимым воителем и мудрым администратором; его даже полюбил простой люд из бедных городских кварталов и крестьянских деревушек. В Галлии, освобожденной им от алеманнов, к нему относились с глубоким уважением и искренней симпатией. Забрезжила надежда на мир и благоденствие. И вот тут Юлиан неожиданно обрушился на христианство и вознамерился восстановить язычество! Он стал Юлианом Отступником.
Но почему?.. Реакция на постылые обряды, к коим он принуждался в детстве? Возможно, и даже вероятно.
Но, несомненно, сыграли свою роль и личные убеждения: Юлиан был язычником и не считал, что кто-нибудь может помешать ему оставаться им. Нельзя сбросить со счетов и экуменизм, его видение экумены: Империя не может быть сведена к христианской общине, католическим или арианским народам. По прихоти или злоупотреблению императоров христиане слишком осмелели, надо их поставить на место и не позволять им подрывать государственную религию, которая могла быть только языческой, традиционной, но и умевшей при необходимости возводить новых богов на свой Олимп. Разумеется, он не тронет богатых и могущественных христианских священников, сохранив популярность и влияние их церкви, поскольку прежде всего им двигала забота об общественном благе.
Но Юлиан был римским императором, а не одних только западных провинций. И вновь возникла проблема огромности Империи. Империя превыше всего! Юлиан решил, что пришло время покончить с персами, так уж сложились обстоятельства.
Персы уже когда-то расправились с одним римским императором. Они представляли для Рима постоянную угрозу, плод извечной ненависти. Но персы не были непобедимы: «император Пальмиры» Септимий Оденат умел нагнать на них страху!
Во времена Юлиана персидским шахом был Шапур II, которого сами римляне называли Шапуром Великим. Именно его требовалось победить.
Юлиан, отступник Юлиан, погибнет в войне с Шапуром. Империи снова было отказано в Милости Божией.
Империя снова погрузилась в пучину анархии. Императорами провозглашали детей, а иногда и младенцев. Повсюду узурпаторы и народные восстания.
Но когда император Валент был убит готами в сражении при Адрианополе в 378 году, его соправитель Грациан, правивший на Западе, назначил на его место сурового воина, «графа»{2} Феодосия, который стал императором Востока. Грациан, любивший только удовольствия и вызвавший всеобщую ненависть, был изгнан из Лютеции узурпатором Максимом — военачальником испанского происхождения, который командовал легионами в Британии. Города закрывали ворота при приближении ненавистного беглеца. Тем не менее Грациану удалось добраться до Лиона, где он покончил с собой. Феодосий от своего имени и от имени своего юного сводного брата Валентиниана II, теоретически правившего Италией, Иллирией и Африкой, признал Максима императором Галлии, Британии и Испании. Но Максим пожелал захватить еще и Италию. Он потерпел ряд поражений, солдаты взбунтовались и выдали его Феодосию, который приказал обезглавить его. Феодосий стал полновластным хозяином Империи.
Не был ли этот Феодосий I, который очень скоро станет Феодосием Великим, Посланцем Господа? В 380 году Феодосий крестился. Он мечтал о христианской экумене. По его приказу сносили языческие храмы, даже столь известные, как Александрийский Серапеум; все языческие обряды были запрещены под страхом смертной казни. Узурпаторов казнят, бунтовщиков, кто бы они ни были, беспощадно истребляют. В Фессалониках был убит один из римских военачальников, и Феодосий приказал произвести показательную расправу: солдаты согнали в цирк и перебили семь тысяч горожан. Разве так поступают Посланцы Господа? Архиепископ Миланский отлучил Феодосия от церкви. Тот совершил покаяние и был прощен. Человеку свойственно заблуждаться, и избыток рвения — это всего лишь избыток рвения… И Феодосий все-таки, возможно, Посланец Господа.
В последний раз вся власть в Империи была собрана в руках одного человека. Три года потратил Феодосий, чтобы укрепить трон своего сводного брата Валентиниана II, который должен был управлять одновременно и Галлией, и Британией, и Италией, и Испанией, и Иллирией, и «римской» Африкой… Феодосий выбрал для него столицей Трир, дав в главнокомандующие и наставники энергичного франка Арбогаста (или Аргобаста). В 391 году, когда Валентиниану исполнилось двадцать лет, Феодосий вернулся в Константинополь.
Увы! Силы Зла снова нанесли удар: Валентиниан нашел несносным надзор Арбогаста и покинул Трир, направившись во Вьенн. Арбогаст настиг его, произошло резкое выяснение отношений. Валентиниана нашли повешенным на дереве. «Самоубийство!» — заявил Арбогаст. «Убийство!» — возопили священники, и этого мнения придерживались почти все. И вот Арбогаст провозглашает Августом ритора Евгения, утверждая, что будет всего лишь его советником и главнокомандующим. Оба узурпатора объявили язычество государственной религией и обратились за поддержкой ко всем язычникам Империи. Феодосий, в свою очередь, призвал к «священной войне» во имя Христа. У Аквилеи Евгений был схвачен и обезглавлен, Арбогаст бежал и покончил с собой. Феодосий оказался истинным Посланцем Господа, доказательство было налицо, и никто больше в этом не сомневался.
Но на востоке снова сгущались тучи. Казалось, что некая сатанинская сила насылала неистребимых врагов. Феодосий перевел правительство Галлии в Арль, поскольку тяжело было организовать отпор захватчикам из находившегося под постоянной угрозой Трира. Купаясь в лучах славы, Феодосий какое-то время оставался в Милане, вкушал радость вновь обретенного внутреннего мира и покоя. Оттуда он слал приказы по наилучшему обустройству границ. Главная ставка делалась на верных крещеных варваров. Пока Господь еще не призвал его к себе, Феодосий разумно разделил власть между двумя своими юными сыновьями: Аркадий стал императором Востока, получив в наставники и главнокомандующие галла Руфина, Гонорий — императором Запада с вандалом Стилихоном в качестве наставника и главнокомандующего. Узы крови, связывавшие двух императоров, должны были сохранить единство экумены. Императорский орел отныне становился двуглавым. Господи, продли дни Феодосия Великого, дабы укрепилось воздвигаемое им здание! Смерть настигла императора в Милане, 17 января 395 года. Наступило всеобщее замешательство.
И это замешательство только усиливали тревожные вести, приходившие с востока. Те странные существа, мелькнувшие рядом с аланами во время их перехода через Кавказ, при императоре Таците, были всего лишь перебежчиками или, что вернее, разведчиками большого азиатского народа — гуннов. Говорили даже о двух народах, имевших, должно быть, общие корни: белых гуннах, вышедших к берегам Каспийского моря, и черных, более смуглых, гуннах, занимавших западные склоны Уральских гор. Черные гунны в 374 году переправились через Волгу и под предводительством своего вождя Баламира обрушились на аланов, кочевавших в степях между Волгой и Доном. Аланы бежали, переправившись через Борисфен (Днепр). Роксоланы и прочие сарматы, занимавшие пространства между Доном и Днепром, пропустили их при условии, что те пойдут дальше. И часть аланов добралась до самого озера Леман, подавляющее же большинство их осталось на месте и покорилось гуннам, которые теперь относились к ним как к союзникам и совместными усилиями вытесняли готов с их земель к западу от Борисфена.
Началось массовое переселение на европейский запад. Гунны и аланы теснили остготов, которые сгоняли с места вестготов, те — других германцев, в числе которых были и франки. Остготы создали настоящую империю на сарматских и скифских равнинах от Дона до Балтики. Баламир во главе войск гуннов и аланов разбил остготов, и их король Эрманарих покончил с собой. Остготы бежали, выталкивая дальше на запад вестготов, занимавших территорию к западу от Борисфена вплоть до Дуная. Вестготы часто вмешивались в дела Империи, выступая то врагами, то союзниками. Когда остготы были вынуждены признать власть гуннов, вестготы поняли, что скоро придет и их черед. Вестготы, скопившиеся на восточном берегу Дуная, должны были выбирать между бегством и капитуляцией. Единственным решением оставалось попросить убежища в Римской империи. Согласие было получено. Так гунны одним ударом захватили всю территорию до самого Дуная. Именно у этой реки поселятся их главные вожди. Но каким бы ни было влияние Баламира, гунны не представляли собой единого народа. Орды каспийских белых гуннов не участвовали в походе Баламира, а многие племена черных гуннов остановились далеко от Дуная и не поддерживали прочных связей с теми, кто вышел к окраинам Римской империи, наконец, часть гуннских родов, расселившихся вдоль Дуная и к востоку от этой реки, сохраняли независимость, подчиняясь своим вождям и признавая только родственные связи и союзы, заключенные между соседями. Некоторые мятежные галльские вожди находили у гуннов хороший прием: каждое племя было вольно заключать союзы, с кем пожелает. Одни намеревались захватить часть римской территории, другие предлагали Империи свои услуги по защите ее границ — естественно, на выгодных для себя условиях.
Феодосий знал об этом. Он знал также, что гунны быстро поглотили все запасы, захваченные у готов, что они не умеют возделывать землю и могут жить только грабежом или службой в наемниках. Феодосий брал их на свою службу, манипулировал ими: использовал в борьбе с готами, сумевшими отстоять свою независимость, заключал союзы с белыми гуннами, чтобы держать в узде черных, и, признавая всех дунайских гуннов своими союзниками, натравливал одно племя на другое. В конце концов, разве эта ловкая политика не обеспечивала спокойствия Империи?
Но в Империи мало знали об этой политике, и неожиданное известие о новых пограничных стычках на Дунае, столкновениях между гуннами и германцами, между самими гуннами и самими германцами вызвало панику, как только стало известно о смерти Феодосия. Положение вдруг предстало в ином свете, эйфория улетучилась: Феодосий мертв, Империя разделена надвое и оба императора совершенно неопытны. Что станет с нами завтра? Все предвещало наступление черных дней — соперничества, братоубийственных войн, вторжений, восстаний…
Епископы отправились в Рим молить святых Петра и Павла о заступничестве, надеясь услышать свыше слова утешения. Но святые молчали. Отшельники, затворники, языческие ведуны и прорицатели все в один голос возопили: Небеса прогневались. И христианские моралисты нашли устрашающее объяснение: нельзя ждать от Господа милосердия, ибо мир — экумена — не следовал его законам, везде только ненависть, война, убийство, разврат, воровство и гнет. Чаша гнева обманутого Бога, ждавшего, что люди останутся верны Образу его, переполнилась. Пробил час расплаты. Придет вершитель Его мести — Бич Божий.
Феодосий умер в тот день, когда в деревянном дворце на берегу Дуная родился Аттила.
II
Блестящая юность
Сын короля? Аттила, во всяком случае, так и будет говорить. Но когда он родился (видимо, в начале 395 года), короля гуннов в собственном смысле слова просто не существовало — по крайней мере, одного.
Во главе каждой орды стоял свой вождь, избираемый воинами, а воинами были все гунны, способные носить оружие. Но вождю часто помогал управлять племенем один из братьев или сыновей, который становился наиболее вероятным преемником.
Дальние походы, совсем не похожие на обычные грабительские набеги, способствовали сосредоточению всей власти в одних твердых руках и установлению военной иерархии. Нельзя с полной уверенностью утверждать, что Баламир был вождем большого племени: он считался прославленным воином, достойным возглавить крупномасштабную кампанию. Во время длительного перехода войска сливались, перемешивались, и образовавшиеся орды признавали одного командира или нескольких военачальников, умевших договориться друг с другом. Так зарождались «королевские» фамилии, и передача власти от брата к брату практиковалась чаще, чем от отца к сыну. Продвижение по параллельным или даже разным маршрутам приводило к назначению «полководцев», которые часто не могли постоянно поддерживать связь друг с другом, да и не слишком об этом заботились. Это, в свою очередь, приводило к появлению других «королей» и королевских фамилий, которые могли случайно сталкиваться в бою или объединяться для войны против общего противника. Другие кланы предпочитали вести более оседлый образ жизни, довольствуясь набегами и грабежами в ближайших землях и время от время перебираясь на новые территории. У них также были свои царьки и более или менее отлаженная система передачи власти по наследству.
Об отсутствии сильных королевств гуннов свидетельствует и тот факт, что кочующие племена разделялись и выбирали стойбища по своему усмотрению и пользовались абсолютной свободой принятия решений, заключая такие союзы, что зачастую оказывались противниками в бою. Но большие племена, образовавшиеся в результате слияния нескольких родов, оставались неделимыми и управлялись «королем» или, в большинстве случаев, «королями» — братьями или отцом и сыновьями. В таких случаях один из соправителей, и далеко не всегда старший по возрасту, доминировал над другими, особенно во время визита «послов» и обсуждения условий военных союзов.
Поскольку война была средством существования гуннов, они сражались постоянно, как за себя, так и за тех, кто пожелал их нанять. В первом случае надо было награбить как можно больше, во втором — продаться как можно дороже. Для этих наемников политические предпочтения не играли никакой роли. Кочевая жизнь не способствовала ни развитию сельского хозяйства, ни освоению ремесел. Грабеж и наемничество были их единственными источниками дохода и любимыми занятиями, которые они всегда старались совмещать.
Баламир умер вскоре после того, как обосновался на Дунае, успев порадоваться переходу под его власть части остготских племен Эрманариха. Самым большим племенным союзом теперь управляли четыре брата, «суверенные вожди», которые были сыновьями Турды и правнуками Аттеля (одним из названий Волги в то время было Аттель). Четыре соправителя звались Октар, Мундзук, Эбарс и Роас. Старший, Октар, считался главным, но его чаще других тянуло ввязаться в какую-нибудь авантюру, и он то и дело заключал союзы с соседними племенами, чтобы пускаться в рискованные походы. Следующий брат, Мундзук, в большей мере был «администратором» и чаще оставался в главном лагере племени, который, должно быть, находился где-то к северу от современного Линца, но определенно на восточном берегу Дуная. Возможно, именно там появился на свет его сын Аттила, в одном из тех деревянных «дворцов», которые строились для вождей гуннов, когда они намеревались провести достаточно продолжительное время на одном месте.
Сколь бы крупным ни было «королевство» сыновей Турды и какое бы влияние оно ни оказывало на другие племена, его положение не было уникальным. Сильную орду удалось сколотить другому великому вождю — Ульдину, всадники которого считались лучшими среди всех дунайских гуннов. Ульдин установил прочные связи с «римскими» задунайскими легионами. Он даже обменялся «послами» с вандалом Стилихоном, полководцем-наставником императора Западной Римской империи Гонория. Это подвигло Мундзука направить «легата» с приветствием императору.
Детство Аттилы сильно отличалось от детских лет его отца и дядьев. Те были настоящими кочевниками и появились на свет в кибитках или наспех поставленных шатрах, а не в деревянных теремах. Большая часть конников скакала далеко впереди тяжелых повозок, на которых ехали женщины и дети вместе с добычей и запасами еды — довольно небольшими, поскольку они постоянно пополнялись за счет грабежа. Обоз охранялся с флангов и с тыла, а самые резвые всадники сновали между выдвинувшимся вперед войском и обозом. Все вместе собирались в момент трудных переправ через реки, для чего приходилось сооружать деревянные мосты и плоты, а некоторые повозки становились амфибиями.
Аттила родился во время необычно продолжительной остановки. Конечно же, он часто покидал «дворец» и трясся в кибитке, но всегда возвращался домой. Вместе со сверстниками он осваивает борьбу, искусство владения оружием, особенно кинжалом, и стрельбу из лука. Слишком рано он начинает ездить верхом и приобретает характерную черту всех гуннов — кривые ноги. Вопреки легенде, его щеки не покрывали искусственные шрамы: ни один из лично видевших его современников не засвидетельствовал этого, а Проспер Аквитанский вспоминал о безмятежном выражении его лица.
Нанесение шрамов на лицо практиковалось всеми гуннскими воинами с целью запугать противника, а главным образом мирных поселян, подвергавшихся набегам. Часто довольствовались глубоким порезом, оставлявшим уродливый шрам, чем страшнее, тем лучше, но иногда прибегали к более сложной операции: щеку разрезали, а затем сшивали так, чтобы щетина могла прорастать изнутри шрама. Таким образом, война и грабеж были источниками существования гуннов, а запугивание врага являлось осмысленной тактикой, элементами которой становились искусственные шрамы, шлемы с рогами, нарочито варварское одеяние из шкур животных, грубо выделанной кожи и тканей кричащих расцветок. Неизменным атрибутом гуннов была ужасающая вонь, исходившая от них.
Однако, если боевые шрамы (равно как нелепая, точно на огородном пугале, одежда и тошнотворная вонь) по-прежнему были в чести, то искусственные порезы применялись все реже и, возможно, практиковались в основном у разведчиков и воинов передовых отрядов. Ни одно из дошедших до нас описаний Аттилы не позволяет думать, что он подвергался подобной операции. Зато известно, что у него были необычайно большая голова, заостренный подбородок, выступающие скулы, крупный и длинный нос с приплюснутым кончиком, вероятно, каштановые волосы, выкрашенные в рыжий цвет. Он был небольшого роста, по свидетельствам современников — не более метра шестидесяти сантиметров. Щеки покрывала редкая растительность, которая к подбородку превращалась в густую, но вытянувшуюся узким клинышком бородку. Глаза черные, глубоко посаженные, с пронизывающим взглядом. Хотя большинство признает, что красавцем он не был, это еще не означает, что он был чудовищным уродом. Аттиле часто хотелось внушать страх, и большинство говоривших с ним запомнили перекошенное гневом, налитое злобой или застывшее холодной маской лицо, которое не приходилось видеть его близким и боевым друзьям. Его лицо было худощавым, но все-таки с довольно гармоничными чертами, и сразу говорило об остром уме, что, однако, не исключало первобытной дикости.
Юный Аттила вел жизнь варварского принца со всеми присущими ей парадоксами. Вероятно, уже в детстве он освоил азы латыни, и вполне возможно, что в период нормализации отношений между Римом и его отцом ему давал уроки учитель латинского языка, живший в дворце. Позднее он приступит и к изучению греческого.
Правда, юный принц недолго оставался в варварском мире: чрезвычайные события вскоре перевернули всю его жизнь.
Мундзук умер в 401 году, когда его сыну Аттиле было лет шесть. Октар по-прежнему затевал одну авантюру за другой, нарушая договоренности с Империей. Правда, его опасно участившиеся рейды за Дунай были направлены в основном против готов и бургундов, пришедших с берегов Вислы и заселивших весь дунайский запад до Герцинского леса и долины Майна. Роль «суверенного вождя» перешла к Роасу, серьезному и относительно сдержанному политику, способному вести переговоры с иностранными державами. Эбарс занялся связями с другими гуннами и, если можно так выразиться, внутренними делами.
Роас старался поддерживать максимально корректные отношения с императором Гонорием, что было нелегко изза выходок Октара. К тому же ему было известно о стремлении гуннского короля Ульдина монополизировать дружбу с Римом и о его беспрестанных предложениях услуг Империи. И тогда Роас предложил наставнику императора и военачальнику Стилихону направить к нему знатного римлянина, способного на месте оценить его политику и возможности честного партнерства. Стилихон согласился и отозвал от двора вестготского короля Атанариха — который, кстати, уже начал вызывать у него беспокойство — юного аристократа Аэция и направил его в окружение Роаса. В 405 году, к моменту прибытия, этому весьма даровитому юноше было пятнадцать или шестнадцать лет. Он понравился Роасу, и Роас ему также пришелся по душе. Аэций познакомился с десятилетним Аттилой, который взрослел гораздо быстрее, чем рос. Юноша и ребенок прониклись к друг другу взаимной симпатией. Аэций вызвал некоего образованного уроженца Паннонии, который не только преумножил знания Аттилы в области латыни, но и приобщил его к изучению греческого.
А тем временем разворачивались грандиозные события. В Италию вторглись внушительные силы вестготов под предводительством Радагеза. Стилихон, отбросив все сомнения, призвал на помощь гуннов Ульдина. Великолепная конница гуннов проявила чудеса храбрости и внесла немалый вклад в победу Стилихона под Флоренцией. Радагез был схвачен и обезглавлен, половина его войска перебита, а оставшиеся бежали, преследуемые гуннами.
Аланы, жившие между Доном и Волгой, устали от гнета гуннов, которые эксплуатировали этих несчастных, бывших своих врагов, формально ставших союзниками. И многочисленные контингента аланов направились в районы Лемана и Альп, куда еще раньше бежали первые волны их соплеменников. Продолжая движение, они проникли в Галлию почти одновременно с вандалами. Часть аланов осталась в районе Баланса и к югу от Луары, тогда как вторгшимся вандалам частично удалось осесть в окрестностях Байё и Кана. Впервые появившись в этих местах в конце 406 года, и те и другие будоражили Галлию в течение почти четырех лет, и только угроза обращения к гуннам в борьбе против них помогла вытеснить большую их часть в Испанию.
Бургунды, осевшие на территории между Арденнами и Рейном, без конца подвергались нападениям со стороны других варваров из долины Майна, а также гуннов Октара. Император Гонорий, уступив их просьбам, предоставил им право проживания в Гельвеции, откуда они распространились по всему юго-востоку Галлии. Октар обрушился на тех, кто задержался у Майна, и, одержав победу, отметил успех с таким размахом, что упился до смерти. Из «суверенных вождей» королевства Турды остались двое: Роас и Эбарс.
Роас усилил дипломатическое давление на императора Западной Римской империи Гонория, прислушавшись к совету своего друга Аэция, рекомендовавшего ему установить отношения с императором Восточной Римской империи — Феодосием II, который в 408 году сменил у власти своего отца Аркадия. Феодосия больше заботила судьба дунайских провинций, которые составляли основу его империи, к тому же Гонорий сделал ставку на Ульдина и не был заинтересован в реальном союзе с Роасом. Кроме того, Гонорий ревновал к славе своего наставника, вокруг которого коррумпированные придворные всегда плели сеть заговоров и интриг, и решился на убийство Стилихона, вандала, которого многие авторы называли «последним римлянином». Стилихон, похоже, был единственным, кто мог осуществить союз Западной Римской империи с «королевством» Роаса. Аэций же, которому тогда было около двадцати, уезжает в Рим, где его ждали удачная женитьба на богатой патрицианке и головокружительная карьера с трагическим концом.
Его советы Роасу принесли свои плоды: Феодосий принял предложения Роаса и даже назначил его римским полководцем! Был заключен договор, по которому Дунай считался границей Империи и гунны не имели права переходить с его северного берега на южный, кроме как по просьбе императора в целях совместных военных действий. В оплату жалованья и соблюдения условий союза Роас ежегодно получал из Константинополя 350 фунтов золота.
Почти в то же время Феодосий II заключил аналогичный союз с Ульдином. Разница состояла лишь в том, что от Ульдина тотчас же потребовали выступить против гота Гайнаса, который состоял на службе Империи, но поднял мятеж и провозгласил себя императором на территории между Дунаем и Рейном. Ульдин становился единственным признанным военачальником и полномочным «королем» гуннов и мог оставаться к западу от Дуная сколько хотел. Во главе своей несравненной конницы он направился к лагерю Гайнаса, рассеял его орды, захватил его самого, лично обезглавил и направил изящно упакованную голову поверженного врага императору Феодосию, который оценил подарок, добавив еще один кошель золотых к установленной плате.
Необходимо было что-то предпринять, чтобы снискать не меньшее расположение императоров, чем этот Ульдин, и Роас предлагает Гонорию в залог дружбы принять при императорском дворе одного из членов своей семьи. Это должно было свидетельствовать о вере в единство двуглавой империи и желании заявить о преданности обоим правителям. Гонорий посоветовался с Аэцием и принял предложение в весьма лестных выражениях. В 408 году Роас направил к нему члена королевской фамилии, своего племянника, сына великого Мундзука, юного друга Аэция — тринадцатилетнего Аттилу.
Часто Аттилу и Аэция называют заложниками, соответственно, Гонория и Роаса. Однако в данном случае смысл этого слова несколько иной.
В обычном понимании заложник — это пленник, которого удерживают, заставляя его близких выполнять те или иные условия. Жизнь его находится под постоянной угрозой в течение всего времени, пока идет торг между сторонами. При заключении договора тот, кто сомневался в честных намерениях другой стороны, мог потребовать заложников из числа достаточно высоко чтимых лиц, с которыми хорошо обращались, пока договор соблюдался, но которых ждала мучительная смерть в случае предательства.
К Аэцию и Аттиле это никоим образом не относилось.{3} Они были так называемыми «почетными заложниками», то есть своеобразным залогом дружбы. Они тоже подвергались определенному риску в случае разрыва, но в меньшей степени, чем можно было бы подумать. На них распространялся своего рода дипломатический иммунитет. Они были не пленниками, а гостями, которых один правитель принимал у себя по просьбе другого правителя в знак высокого расположения. Заложник-гость становился живым свидетельством уважения, которое его господин испытывал к принимающей стороне. Обычно таким «заложником» становился молодой человек, чей господин хотел показать, что время, проведенное им при дворе принимающего правителя, станет для него полезной стажировкой, которая положительно скажется на становлении будущего государственного деятеля и предрасположит его к пониманию союзника и сотрудничеству, когда он займет высокий пост в своем отечестве. Заложник-гость, как правило, следовал за хозяином во всех поездках, но при этом пользовался большой свободой передвижения и мог возвратиться домой, когда бы этого ни пожелала его сторона. Этим определялась и роль посла-посредника, которую часто играли «почетные заложники».
И вот Аттила — при дворе Гонория, то в Риме, то в Равенне. Какая перемена! Он видит роскошь, разврат, пороки и интриги. С ним обходятся как с юным принцем, каким он в сущности и был и каким его воспринимали эти «римляне», все больше полагавшиеся на «суверенных» и прочих вождей варваров в деле защиты и укрепления столь обветшавшей Империи!
Какая перемена! Из деревянного терема — в мраморный дворец, от сырого мяса к изысканнейшим блюдам, из звериных шкур в тогу, от вони гуннского кочевья к благовониям римского двора, от размахивающих руками и орущих воинов Роаса к эротическим танцам и песням артистов Гонория!
Принял ли Аттила все это или отверг? Выдвигались обе версии.{4} Истина, скорее всего, где-то посередине. Он не мог не приспособиться к окружавшей его среде хотя бы в силу необходимости. Он одевается просто, но на римский манер, ограничивается только самыми простыми блюдами императорской кухни, заводит друзей, говорит медленно, на примитивной, но правильной латыни, всерьез занимается греческим и становится неплохим эллинистом. Какой огромный культурный разрыв между Аттилой и его отцом, дядьями! Аттила наблюдает и оценивает общество Империи времен упадка, легко усваивает историю Рима и Византии, постигает все надежды и страхи Империи в отношении варваров. Он узнает, в чем сила Империи и в чем ее слабость. Оставаясь для придворных тайной за семью печатями, он разберется в их устремлениях, менталитете, сомнениях, ожиданиях, тайном соперничестве в борьбе за власть. Из контактов двух императоров и двух дворов и тех поездок в Константинополь, которые он мог совершить, Аттила уяснил, что некоторая «римская» солидарность еще существует, но в политике и нравах правящих кругов господствует восточное влияние.
Продолжительное пребывание в Италии сыграло неоценимую роль в его становлении. Он узнал о многом, что могло бы помочь ему в возможной борьбе с Империей. Познакомился с влиятельными людьми, начиная с самого Гонория и заканчивая его министрами, фаворитами, полководцами и дипломатами. Он развил собственное врожденное чутье дипломата, которое особенно отмечали все его биографы.
Происходя из довольно примитивного народа, склонного к постоянной агрессии, уверенного в своих силах и жаждавшего господства, он с удовлетворением отмечал наряду с последними крохами наследия славного прошлого многочисленные проявления упадка некогда великой Империи. Римляне еще пытались бороться за существование, но большинство жило только сегодняшним днем, несмотря на страх перед будущим, а может быть, и благодаря ему. Аттила не участвовал в императорских оргиях и не дал вовлечь себя ни в одну интригу, всегда сохраняя редкостное самообладание. Варвар, которого Рим рассчитывал «цивилизовать» на свой манер, с радостью взирал на разлагающийся, агонизирующий «старый мир», на который он уже мечтал нагнать страху, использовать его в своих интересах и, если получится, подчинить собственному закону.
Он часто видится с Аэцием и несколько раз навещает Роаса за Дунаем, шлет обоим дружеские письма. Но в 411 или 412 году до дунайских гуннов дошли известия о тяжелом положении их кавказских собратьев. Роксоланы, метиды, аланы и даже колхи, появившиеся с другой стороны горных хребтов, напали на гуннов, которые к тому же еще сражались и друг с другом, будучи связанными союзами с разными противоборствующими сторонами.
Эбарс отправился в поход, уведя с собой часть отрядов, «суверенным вождем» которых он считался, а также многочисленные контингента, выставленные другими племенами дунайских гуннов. По пути в его армию вливались кочевые племена, а также наемники, которых он вербовал в других варварских кланах. Он шел водворять порядок на Кавказе!
Роас остался единственным «суверенным вождем» в дунайском гуннском «королевстве». Он призывает к себе племянника Аттилу, которому уже было около семнадцати и который получил основательный, можно даже сказать, капитальный опыт.
На Кавказ! Похоже, эти гунны уже повсюду! Откуда мог выплеснуться этот поток? Как вообще стала возможной такая экспансия? Как могли сохраниться остатки общности между группами гуннов, которых разделяли столь огромные расстояния? Гипотез много, а ответа нет.
Многие исследователи утверждают, что гунны произошли от хионг-ну — монголов из Маньчжурии и северного Китая, от которых Поднебесная империя вынуждена была отгородиться Великой стеной. Другие, начисто отвергая эту идею, полагают, что гунны — это куан-лун или хуан-лун, монголы из района к северу от Тибета, к западу от хионг-ну и к востоку от Памира. По другим версиям, гунны спустились с Алтайских гор, были сибиряками с берегов озера Байкал или оказывались маньчжурами, которые откололись от восточных маньчжур и ушли с берегов Японского моря в Монголию, где их лица претерпели определенные изменения.
В этом споре всегда сталкиваются антропологи с историками. Разрешить его достаточно трудно, так как то, что одни считают «прародиной», другие принимают за место временной остановки и исходный пункт последующего расселения. Но разве можно вообще быть уверенным в реальных истоках какого бы то ни было народа?
По одной из популярных гипотез происхождения гуннов, родиной этого народа в незапамятные времена была Корея. Перенаселение могло привести к массовому исходу в разных направлениях как на запад, в Маньчжурию, так и к северу от Тибета вплоть до Памира. Одни этнологи указывают на различия найденных скелетов, которые не увязываются с теорией о едином происхождении, другие допускают сосуществование в Корее в далекие доисторические времена нескольких человеческих типов, из которых один остался доминирующим, а остальные разбрелись по свету. Затем выяснилось, что боевые приемы нападения и обороны древних корейцев в войнах с Китаем были те же, что и у хионг-ну и даже хуан-лун, а свойственные им качества — отвага, настойчивость, упорство в обороне — были типичны и для азиатских гуннов. Позже установили сходство в устройстве поселений, вооружении, домашней утвари и предметах искусства. Однако оседлый образ жизни и земледелие корейцев невозможно было увязать с кочевым народом гуннов, не имевшим представления о земледелии, но тут же нашлись ученые, которые указали на большие группы оседлых азиатских гуннов, располагавшихся на равнинах и плоскогорьях к северу и северо-западу от Китая, нравы которых не имели ничего общего с укладом отколовшихся гуннов-кочевников.
По каким же дорогам они шли?.. Был ли это один путь для всех или сразу несколько направлений? Конечно же, не может быть и речи об одной массовой эмиграции или серии волн переселения по одному проторенному маршруту. Гунны могли пройти к северу от Алтая, через впадину, которая стала озером Балхаш, к северу и югу от Небесных гор — Тянь-Шаня, к северу и югу от Крыши мира — Памира. Дороги вели к югу от Урала, к Аральскому, затем к Каспийскому морям, оттуда — на Кавказ и на Волгу. Большие колонии «белых гуннов» закрепились в каспийском регионе, «черные гунны» осели в уральском, однако расселение не завершилось и из этих районов концентрации выплескивались новые волны переселенцев. Но, кочуя по свету, гунны уже сохраняли связь с основными базами и помнили, откуда пришли. Между Волгой и Дунаем образовалась связующая цепочка поселений оседлых гуннов. Стратегическая система таких стойбищ обозначила пути, по которым гунны пробирались с одного конца Империи до другого. Намерения и сила этого народа, кочевавшего на огромных пространствах и ставшего соседом Империи, уже начинали вызывать беспокойство в Константинополе.
Как только Эбарс получил сведения о положении на Кавказе, он спешно собрался в поход. Роас, должно быть, завидовал ему, так как вынужденное бездействие начинало его тяготить. Ведь в это время вестготы Алариха разграбили весь Балканский полуостров, а после гнусного убийства Стилихона императором Гонорием вторглись в саму Италию, и в 410 году Аларих взял штурмом, разграбил и сжег Рим! А Гонорий, укрывшись в защищенной болотами Равенне, даже не призвал на помощь гуннов Роаса! И Роас решил ждать: рано или поздно он еще понадобится.
Но что его выводило из себя, так это терпимое — зачастую поневоле! — отношение Западной Римской империи ко всем этим франкам, вандалам, бургундам и даже вестготам, которые оседают в Галлии или перебираются в Испанию и Северную Африку, тогда как он, римский полководец, не имеет права даже ступить на другой берег Дуная. Это определило его политику. Будучи «союзником» Рима, он считает себя — и желает, чтобы таковым его считали другие, — территориальным правителем задунайского края и не упускает случая напомнить об этом обоим императорам: никто не проникнет на «его» земли без его согласия.
Пока что его претензии игнорировались. Вскоре после своего возвращения Аттила предпринял ряд поездок по основным гуннским племенам к северу и востоку от его родного клана и понял причину такого отношения: несмотря на заключение союза, Константинополь вел тайные переговоры с не-гуннскими народами, чтобы в нужный момент натравить их на гуннов. Пока что Аттила не мог ничего сделать, кроме как сообщить об этом Аэцию, будучи уверенным, что и тот возмутится подобным двурушничеством и через своих многочисленных легатов, отправлявшихся из Равенны в Константинополь, убедит Византию отказаться от этой игры.
О весьма длительном периоде жизни Аттилы, с восемнадцати до двадцати шести лет, т. е. с 413 по 421 год, мало что известно. Тем не менее, хотя мы не можем установить точную хронологию событий, но можем с уверенностью утверждать, что деятельность Аттилы была разнообразна и всегда большой политической важности.
Роас призвал племянника, чтобы приобщить его к управлению страной. У него имелся и другой племянник, старший брат Аттилы — Бледа, но тот был туповат и к тому же пьяница. Однако это не мешало дяде нежно его любить и делать все, чтобы заставить его взяться за ум, но ответственного поручения старшему племяннику доверить было нельзя. С отъездом Эбарса потребовался помощник, и Роас послал за Аттилой. Нет подтверждений ни достаточно распространенному мнению о недоверии в отношениях между племянником и дядей, ни будто бы проявленному Аттилой нетерпению заполучить власть.
Как уже говорилось, одним из первых выполненных Аттилой заданий был объезд соседних дунайских племен. Затем Роас поручает ему ведение пропаганды, т. е. внушение другим гуннским вождям мысли, что он, Роас — самый главный. Следовало уважать их «независимость», но при этом убедить их признать Роаса и его преемников — а значит, и самого Аттилу — верховным вождем, кем-то вроде императора. То маня пряником, то грозя кнутом, рассыпая подарки вперемежку с угрозами, понимая, что, работая на Роаса, он работает на самого себя, Аттила блестяще справляется с поручением. Об этом становится известно Аэцию и обоим императорам.
Теперь Аттила причастен власти, которую уже можно назвать императорской. К тому же позиция обеих римских империй побудила Роаса четко обозначить границы своих владений.
У империи гуннов были все необходимые атрибуты, за исключением постоянной столицы. Ни Роас, ни впоследствии Аттила не имели основной резиденции. Провозгласив себя императором, Аттила постоянно переезжал с место на место, равно как и его министры, они же полководцы. У кочевого народа и правительство мобильное. Выдвигались различные предположения о месте базового лагеря: Линц (но, видимо, это был всего лишь аванпост), Токай на берегах Тисы, современный Будапешт или, вернее, Буда, Сёнь близ Комарома на берегу Дуная, Шёвенихара в венгерских степях или окрестности Тасберени рядом с горным массивом Матра на севере Венгрии. Скорее всего, Аттила имел резиденции, добротные деревянные дома, во всех этих местах. По мнению венгерских историков, самый крупный и обустроенный лагерь, ordu, находился «где-то к востоку от Тисы, к югу от Крисоша и к северу от Мароша», то есть в центре большой равнины. На это смутно указывает Приск, и о том же свидетельствуют некоторые археологические находки.
Но как бы то ни было, сформировалось огромное сообщество белых и черных гуннов или племен, подчиненных гуннам. Сообщество достаточно хрупкое, с вечно изменяющимся составом и туманным будущим. С первых дней своего правления Аттила прилагал все усилия, чтобы придать ему стабильность, заложить основы порядка, обеспечить защиту и укрепить внутренние связи.
Ему удалось справиться с этой задачей, и во многом потому, что он многократно лично играл роль связного, обеспечивая взаимодействие дунайского штаба Роаса и кавказской ставки Эбарса. Несмотря на все трудности и постоянную смуту, Эбарсу удалось стать верховным вождем и главным арбитром гуннских племен на Северном Кавказе и в донских степях. Этому несомненно незаурядному человеку удалось умиротворить аланов, роксоланов, методов и сарматов и обеспечить превосходство своего племени. Он пришел с отрядом черных гуннов и увеличил войско за счет влившихся белых гуннов, которые затем стали составлять подавляющее большинство в его народе. Некоторые склонны видеть в этом попытку колонизации одной расы другой, но это совершенно невозможно, так как в силу своего численного преобладания и уровня культуры белые гунны, эти оседлые пастухи, хорошие ремесленники, кузнецы, оружейники и воины, мало подходят на роль колонизуемых. К тому же гипотеза о расовом различии черных и белых гуннов отбрасывается многими антропологами, которые полагают, что простое и весьма относительное отличие оттенка кожи обусловлено климатом и возникло, когда черные гунны отдалились от белых и попали в другие климатические условия. Другие исследователи, не поддерживая прямо теорию о расовом единстве, тем не менее говорят о некой расовой общности, достаточной, чтобы обе ветви продолжали ее ощущать. Главное, что никто не отрицает их принадлежность к одной группе. «Воцарение» Эбарса и челночная дипломатия Аттилы укрепили эти естественные связи. Самые глубокие различия этих двух типов гуннов носили не этнический, но географический и экономический характер: черный гунн — прежде всего воин, белый — скотовод.
Сохранилось знаменитое описание этих диких гуннов, терроризировавших античный Рим со дня своего первого появления. Римский военачальник Аммиан Марцеллин оставил записи о том, чему был свидетелем. Поскольку этот текст хорошо известен, приведем только главное:
«Гунны превосходят в дикости и варварстве все, что только можно себе представить о варварстве и дикости. Они наносят глубокие порезы на щеки своих детей с самого их рождения так, чтобы волосы бороды торчали из шрама. (…) Их кряжистые тела с огромными руками и чрезмерно большой головой придают им чудовищный вид… Эти существа в человеческом обличии пребывают в животном состоянии.
Их жизнь столь примитивна, что они не знают ни огня, ни приправ, питаясь кореньями диких растений и сырым мясом, которое согревают, подложив между собственными ягодицами и спиной коня. Они не умеют обращаться с плугом (…) и не чувствуют себя в безопасности, находясь под крышей. Они скитаются по горам и лесам, постоянно меняя жилища или, скорее, вовсе их не имея; они с самого детства подвержены всем напастям — холоду, голоду, жажде. Их стада следуют за ними, животные тащат кибитки, где укрываются их семьи: там их женщины прядут и шьют, принимают мужей, рожают и растят детей, пока те не возмужают. (…) Их одежда состоит из длинной льняной рубахи и куртки из шкурок диких крыс, сшитых вместе; рубахи грязные, преют на их телах; они переменяют их, только когда разлезается ткань. Колпак или шапка и козьи шкуры, обернутые вокруг их волосатых ног, довершают их одеяние. Их обувь сшита так грубо, что они ходят с трудом и не могут драться в пешем строю; они как будто припаяны к своим уродливым, но неутомимым и быстрым, как молния, конькам. Верхом на коне они проводят всю свою жизнь, держат совет, ведут обмен, пьют и едят и даже спят, склонившись на шею своего скакуна. В битвах они несутся без порядка и без плана, подчиняясь сигналам вождей, и издают ужасные крики. Если гунны сталкиваются с сопротивлением, они рассыпаются, чтобы вновь спешно собраться, и возвращаются, круша все, что встает у них на пути. Вместе с тем они неспособны взобраться на укрепление или взять укрепленный лагерь. (…) Их язык туманен, исполнен метафор. У них нет религии, по крайней мере, они не исповедуют никакого культа; их единственная страсть — это золото».
Да, все так. Но не стоит забывать, что этот римский военачальник наблюдал гуннов во время военных походов и сражений. Им не было необходимости строить прочные жилища накануне битвы, и их не заботила их одежда и наличие смены белья: надо было внушать страх, и вонь была даже кстати. В походе питались, конечно, чем придется, жили в кибитках. Большее значение имеют слова Аммиана Марцеллина о стратегии гуннов, их кавалерийском пыле при неумении справиться с некоторыми укреплениями, что впоследствии не раз будет отмечено. И еще одно интересное наблюдение: отсутствие культа, указывающее на отсутствие религии. Это правда, за исключением, наверное, только оседлых пастухов с донских равнин. Аттила, его военачальники и воины не веровали — ни в Бога, ни в черта. Они не понимали смысла ни язычества, ни христианства, ни какой-либо другой религии, с которой им приходилось сталкиваться. Однако это не мешало им верить в божественные добродетели выдающихся людей или колдунов, равно как и быть очень суеверными, гадать на огне, костях или внутренностях. Но ни Бог, ни боги, ни ангелы с Сатаной не играли для них какой-либо значимой роли. Аттила не возражал, чтобы другие народы имели своего Бога или своих богов, но считал, что их божества существуют для них и только для них, у гуннов же богов нет. Что до разглагольствований о великих моральных ценностях верующих империй, то в Равенне он увидел достаточно, чтобы не принимать их всерьез. Зато он довольно часто проявлял неожиданную обходительность с высокопоставленными особами духовного звания. Конечно, это не было правилом, случалось и обратное, ибо его любезность всегда была продиктована политическими мотивами, а иногда и простым уважением.
К концу 421 года в жизни Аттилы произошел очередной поворот, ознаменовавшийся его настоящим выходом на мировую арену.
В свои двадцать шесть Аттила оставался еще молодым человеком. В те далекие времена деятели в его возрасте были уже довольно зрелыми, солидными людьми. Он же по-прежнему был юным, очевидно, благодаря разнообразию поездок и поручений, которые позволили избежать засасывающей рутины спокойной и стабильной карьеры. Эта долгая молодость, богатая столь ценными для пытливого ума наблюдениями и размышлениями, уходила в прошлое, знаменуя приближение великих испытаний, которые принесут с собой огромную личную ответственность и напряжение воли.
III
Пять главных действующих лиц драмы
Итак, Аттила по-настоящему вырвался на мировую арену. Но его дальнейшие действия невозможно понять, не зная всех прелюдий той политической драмы, в которой ему предстоит сыграть главную роль, а также личных качеств всех вдохновителей масс, выразителей народной воли или просто волевых людей, способных заставить других прислушиваться к своему мнению, которые станут его союзниками или врагами.
Вернемся на несколько десятилетий назад в то время, когда только формировалась среда, с которой столкнулся и которую до основания потряс Аттила, и рассмотрим основных персонажей, с которыми так или иначе приходилось считаться нашему герою.
В 410 году, опустошив римские и греческие земли, вестготы захватывают Рим, пока Гонорий, император Западной Римской империи, укрывается в своей роскошной резиденции в Равенне. В том же году умирает король Аларих, который, разоряя Империю, одновременно заявил о готовности вернуть Риму былое величие и предлагал Гонорию стать первым среди его приближенных. Не получив ответа, Аларих сам назначил римским императором ритора Аттала, которого время от времени отрешал от должности, но потом возвращал на место, пытаясь таким образом завязать диалог с Гонорием. Он располагал и другим средством нажима, удерживая в плену родную сестру Гонория — Галлу Плацидию, которая тоже была дочерью Феодосия Великого. Аларих относился к пленнице с большим почтением.
После его смерти власть унаследовал его брат Атаульф. Он продолжил завоевание Галлии, был разбит под Марселем, но тем не менее захватил Тулузу и Нарбонну, а также вынудил к сдаче Бордо. Став хозяином Нарбонны, Атаульф предложил Галле Плацидии компромисс: она выходит за него замуж, и тогда он становится зятем Гонория, признает его императорскую власть и выступает от его имени восстановителем и защитником Империи. В отношении Гонория это был напрасный демарш, но Галла Плацидия принимает предложение, несмотря на проклятия со стороны брата. Эта красивая и горделивая принцесса была убеждена, что приносит себя в жертву во славу Империи.
Гонорий
Этот сын Феодосия Великого родился в Константинополе в 384 году. В 395 году он в возрасте одиннадцати лет становится императором Западной Римской империи, а его старший брат Аркадий восходит на трон Восточной Римской империи.
Очень скоро Гонорий проявил себя тем, кем прожил всю оставшуюся жизнь: трусом, лицемером, убийцей, мотом и гулякой. Он терпеть не мог любых проявлений порядочности и предавался всем известным грехам. Его дипломатия, вернее, полное отсутствие дипломатического чутья, чаще всего сводилась к невмешательству, что создавало благоприятную почву для заговоров и узурпации. Несмотря на показную роскошь, или даже как раз из-за нее, его ненавидели все, за исключением прикормленных клевретов. Не помогало и то почтение, которое ему по-прежнему оказывали варвары, поскольку он был единственным законным порфироносцем, чей пурпур еще напоминал о былой славе.
Мудрый Феодосий приставил к сыну наставника и главнокомандующего — вандала Стилихона, «последнего римлянина». Хотя Стилихон и не уделял достаточно внимания положению в Галлии, он стал героическим защитником Империи, сумев при мощной поддержке гунна Ульдина оградить Италию от нашествий вестготов. Вместо заслуженной награды Гонорий убил Стилихона, приревновав к его славе. Вестготы быстро появились вновь.
Гонорий остался глух к предложениям Роаса, но по совету Аэция принял юного Аттилу в качестве почетного заложника. Аттила был достаточно умен, чтобы понять, чего стоил император. Все последующие обращения Роаса Гонорий также оставил без ответа, равно как и предложения Атаульфа, набивавшегося в союзники. И тогда Атаульф возводит на трон Аттала, «римского императора», дабы унизить «равеннского императора» Гонория, а в январе 414 года играет пышную свадьбу с сестрой последнего в Нарбонне. Свадебным подарком новобрачной стали блюда драгоценных камней и золотых украшений из доли добычи готского короля, захваченной при взятии Рима!
На новое обращение римского секретаря Атаульфа Гонорий соизволил дать ответ: никогда он не признает законным брак Галлы Плацидии. Итак, Аттал сохранил императорский пурпур, а Гонорий продолжил пировать в Равенне. Аэций выразил ему свое недоумение, которое Гонорий, как у него было заведено, проигнорировал.
Атаульф продолжил свой поход на юг Галлии, но встретил серьезное сопротивление полководца Флавия Константина, командующего армии, которую некогда сформировал Стилихон. К тому же страшный произвол наместников и военачальников Гонория в Галлии вызвал восстания рабов и нищих колонов, охватившие всю страну и создавшие немалые трудности как для римских легионов, так и для войска вестготов. Атаульф вторгается в Испанию, но от неудач последних лет его слава сильно потускнела, а требовательность к подчиненным утомила солдат и военачальников. В 415 году он был убит в Барселоне. Спустя некоторое время Гонорий вступил в переговоры с вестготом Валлией. Вестготы снова стали федератами и получили во владение «вторую Аквитанию» с городами Бордо, Ажен, Ангулем, Пуатье, Перигё, Ош, Базас (который им никогда не удавалось взять) и Лектур. Правление Гонория стало временем широкого проникновения варваров. Бургунды осели по течению Рейна, алеманны — в Швейцарии, Эльзасе и долинах Дубы и Мозеля, восточные франки-рипуарии распространились к югу от Мааса и Самбра, северные салические франки продвинулись к югу от Бельгии, Шельды и Арденн, а саксы опустошали побережье.
Гонорий жуировал в своем равеннском дворце, благо его казна была практически неистощимой, ибо кое-какие налоги пока что продолжали поступать. Он скончался в 423 году, и власть захватил Иоанн Узурпатор.
Галла Плацидия
Немногие исторические персонажи того времени удостоились столь полярных оценок. Красивая и властная Галла Плацидия, несомненно, была сильной личностью, стремившейся руководствоваться исключительно государственными интересами, но так, как она понимала их, то есть зачастую весьма спорным образом. Она могла пойти на жертвы, если того требовали «ее» государственные интересы, но при этом отличалась пугающей предвзятостью и поразительной недальновидностью в выборе своих приближенных. Она поддавалась слепой страсти, которой стала и любовь к сыну, и могла проявить почти преступное снисхождение к предателю и жестоко унизить усердного слугу. Иногда она демонстрировала решимость и настойчивость, достойные восхищения, а порой выказывала только тупое упрямство, полное непонимание ситуации и настоящее злонравие. Упрямство парадоксальным образом уживалось в ней с ветреным непостоянством.
Ее жизнь — сюжет для романа. Если верить равеннским историкам, дочь Феодосия Великого и сестра Аркадия и Гонория родилась в 386 году. Последнего Галла Плацидия не любила, считая трусом, каким он, собственно, и был. Попав в плен к вестготам, она соглашается выйти замуж за их короля Атаульфа. Единственной причиной, побудившей ее пойти на этот шаг, несомненно, были государственные интересы Империи. Она поверила, что Атаульф возродит Империю и, кто знает, может быть, воссоединит все ее земли, как того хотел Стилихон.
Хотя Гонорий и не признал этот брак, она сопровождала Атаульфа во всех походах. Однако весьма вероятно, что они никогда не были настоящими мужем и женой, ибо государственные интересы того не требовали. Этот брачный союз двух амбициозных политиков оставался исключительно политическим союзом. Атаульф неоднократно предлагал Гонорию вернуть ее, так же как и низложить в очередной раз Аттала, но Гонорий, естественно, не удостаивал его ответа.
Когда Атаульф был убит в Барселоне, а Аттал благоразумно исчез из Рима, она попыталась скрыться, но была схвачена не признавшими ее вестготами и должна была вместе с другими пленницами пройти за колесницей вождя Зигриха, который вскоре также был убит. Ее, наконец, узнали, и король Валлия вернул ее Гонорию, который этим был не слишком обрадован. Возвращение «римской королевы вестготов» римскому императору походило на возврат заложника, к тому же она была вдовой побежденного.
Готовился очередной политический брак, но на этот раз он был задуман уже самим Гонорием. Галла Плацидия должна была выйти замуж за Флавия Константина, одержавшего победу над Атаульфом в Галлии и приобщенного Гонорием к императорской власти под именем Констанция III. Опять соображения государственного интереса, и Плацидия согласилась. Возможно даже, что она любила второго мужа. У них родился сын Валентиниан, затем дочь Гонория. Но в 421 году Констанций III умирает, и Галла Плацидия вторично оказалась вдовой. По соглашению с Феодосием II, императором Восточной Римской империи, Гонорий даровал ей почетный титул «августы». Затем упомянутый Гонорий распустил императорскую гвардию из гуннов, ту самую гвардию, которую Стилихон получил от Ульдина и так высоко ценил, и после ряда бестолковых назначений полностью развалил главнокомандование, весьма эффективное при Констанции.
После смерти Гонория в 423 году повсюду вспыхивают волнения, и в первую очередь в армии. Один из высокопоставленных сановников, уже упоминавшийся Иоанн Узурпатор, провозгласил себя императором. Ссылаясь на свой титул августы, Плацидия поручила нескольким верным ей полководцам начать борьбу против узурпатора, дабы отстоять трон для Валентиниана — своего сына от знаменитого героя Констанция, для племянника почившего императора Западной Римской империи и здравствующего императора Восточной Римской империи. А сама, забрав детей, бежит в Константинополь.
Феодосий II никогда не любил ее, но отказать в приеме не мог. Он собрал сильную армию, главным образом из варваров-федератов и наемников, даже не вспомнив о Роасе и гуннах, о которых не подумали и полководцы Галлы Плацидии. Феодосий намеревался воспользоваться этой кампанией и захватить власть над Западной Римской империей, восстановив, таким образом, единство страны. Галлу Плацидию это не устраивало. Она напомнила, что ее войска в Италии полны решимости возвести на престол Валентиниана и к противостоянию римских легионов и войск Узурпатора добавится раскол в императорском лагере, чем не преминут воспользоваться враги. Феодосий, часто проявлявший слабость, внял этим доводам и направил свои войска на соединение с верными легионами, чтобы общими усилиями разгромить Иоанна. Он прибыл в Аквилею в сопровождении Галлы Плацидии и ее детей. Между его штабом и войсками, верными делу Валентиниана, было установлено сообщение. Иоанн Узурпатор был схвачен в Равенне, доставлен в Аквилею и обезглавлен там в июне 425 года.
И, прямо скажем, вовремя: Иоанн при посредничестве Аэция сумел договориться с гуннами, и патриций уже приближался к Италии во главе гуннской армии. Стороны заключили сделку. Гуннам выплатили большую компенсацию и отпустили домой. Аэций получил титул графа и назначение командующим легионами в Галлии. Валентиниан III был провозглашен императором, а Галла Плацидия добилась регентства до достижения императором совершеннолетия.
Злополучная регентша лишь приумножила совершенные ранее глупости. Она во всем следовала советам патриция Феликса, убийцы и военачальника, ненавидимого собственными командирами и солдатами. Вскоре взбунтовавшиеся легионеры растерзали этого фаворита и вырезали всю его семью. После гибели своего любимца она ничего не решала без совета графа Бонифация, фанатичного католика и друга святого Августина. Впоследствии он, влюбившись, стал таким же исступленным арианином. Этот Бонифаций, будучи наместником римской Африки, просто сдал все доверенные ему провинции королю вандалов Гейзериху, однако затем счел благодарность вандалов слишком скромной и, укрепив Карфаген, объявил им войну. Но бывшие сообщники вновь нашли общий язык, и в результате был подписан унизительный для Рима договор, а Галла Плацидия устроила Бонифацию триумфальную встречу! Немного времени спустя он был убит в драке, вспыхнувшей между его эскортом и охраной Аэция. Галла Плацидия приказала схватить «убийцу Аэция», который скрывался у Роаса, оказавшего ему радушный прием, и назначила «защитником Рима» сына Бонифация — Себастиана, оказавшегося полной бездарностью. Разбитый гуннами Себастиан был смещен, и Аэций, диктовавший теперь свои условия, стал истинным защитником Рима и «августы», которая осыпала его почестями, но продолжала ненавидеть.
Нетерпеливый Валентиниан — Валентиниан III — отстранил мать от регентства. Она умерла в Риме около 450 года, когда к ней давно уже никто не обращался за советом. Она заказала построить для себя в Равенне мавзолей, который и по сей день остается одной из жемчужин этого города, однако тело ее так и не было перевезено туда. Галла Плацидия обрела вечный покой в феодосийской усыпальнице в Риме.
Аэций
Какая неординарная и притягательная личность! Он и Аттила были самыми выдающимися военными и политическими деятелями своего времени.
Историки XIX и XX веков обычно были очень благосклонны к нему, признавая в нем добродетели, в которых отказывали, и, как правило, абсолютно справедливо, его противникам, равно как и его правителям и союзникам. Многие даже считают несправедливым наделять Стилихона титулом «последнего римлянина», считая, что он должен по праву принадлежать Аэцию. Кроме того, французские историки знают, что Стилихон мало заботился о Галлии, тогда как Аэций ее спас.
Вопрос спорный, за исключением последнего утверждения: этот «последний римлянин» не раз предавал Рим. В стремлении к личной власти он многократно поступался интересами римлян. Велики его гений и героизм, но его эгоизм, честолюбие и гордыня еще больше. Он погиб от вероломной руки недостойного императора, но вместе с тем и пал жертвой собственной неудержимой жажды власти и почестей.
Аэций родился около 390 года, то есть был лет на пять старше Аттилы и на четыре года моложе Галлы Плацидии. Он появился на свет, видимо, в Паннонии (обширный край между Дунаем и Балканами на территории современных Австрии, Венгрии и Югославии) и, вероятнее всего, в «первой Паннонии» — западной части, принадлежавшей Западной Римской империи. Однако выдвигались предположения, что он мог родиться в Мезии (Босния, Сербия и Болгария), когда там временно проживали его родители. Предполагаемым местом его рождения называют также виллу его матери в окрестностях Рима.
Отец его был уроженцем Паннонии, из Скрабантии, к югу от современной Вены. Он был римским военачальником, достаточно рано добившимся высоких постов: командовал императорским ополчением Паннонии и Мезии, получил титул «графа африканского», а затем стал главнокомандующим в Галлии. Там он и был убит в 403 году во время вспыхнувшего мятежа.
Мать происходила из знатной и очень богатой римской семьи. И сам Флавий Аэций женился около 409 г. на дочери богатого римского патриция Карпилио. У него родился сын Гауденций, которого он глубоко любил и которому прочил блестящее будущее.
Аэций провел самые счастливые годы своей юности в «римской» Паннонии, которой вскоре пришлось примириться с беспокойным соседством «варварской» Паннонии, объявленной гуннами своей землей. Аэций, римский уроженец Паннонии, с детских лет узнал, кто такие эти гунны, с которыми будет тесно переплетена вся его жизнь. Он не испытывал к ним ни малейшего презрения, напротив, понимал их в той мере, в какой можно было понять, с их благими помыслами и бесчинствами, удалью и малодушием, прямотой и двуличием. Более того, он мог свободно изъясняться на их тюркском наречии, а если учесть его происхождение по отцовской линии, то для гуннских вождей Аэций был почти своим, но считать его по примеру некоторых «романизированным гунном» было бы крайностью.
Аэций принадлежал к знатному римскому роду, и Стилихон направил его, тогда еще тринадцати или четырнадцатилетнего, почетным заложником к вестготу Атанариху. Затем, в 405 году, он в том же качестве попадает к гунну Роасу. Не исключено, что им доводилось встречаться и раньше. Он становится другом Роаса и молодого Аттилы. Именно по его совету Роас начинает переговоры с Феодосием II, в результате которых становится римским военачальником, хотя (к его великому разочарованию) Империя так и не прибегла к его услугам.
Аэций возвратился ко двору Гонория — curia imperatoria — в конце 408 или начале 409 года, когда готовился его выгодный брак с дочерью патриция. Гонорий назначил его на высокую должность управляющего императорским дворцом. Императорский двор был средоточием интриг, которые серьезно беспокоили юного сановника, хотя и нет оснований утверждать, что он сам не был замешан в некоторых из них. Всякий раз, говоря императору, что не понимает его отношения к Атаульфу и Галле Плацидии, он наталкивался на стену враждебного молчания. Сам Аэций не видел никаких препятствий для этого брака, который, как он считал, мог быть платой Атаульфу за его службу во славу Империи. Зато позднее он мог поздравить себя с обручением Плацидии и Констанция III, своего друга, способного, по его мнению, упрочить пошатнувшееся положение Империи.
Умирает Гонорий. Аэций хорошо знал высокопоставленного императорского сановника Иоанна и поддерживал с ним добрые отношения. Быть может, они вместе участвовали в одном из многочисленных заговоров, со всех сторон опутавших двор. Без малейших колебаний Аэций признает узурпатора Иоанна императором Иоанном, и это в то время, когда Плацидия, уезжая в Константинополь, обратилась с воззванием к римским военачальникам и сановникам хранить верность правопорядку, изгнать Иоанна и призвать на трон Валентиниана.
Было высказано очень много предположений о взаимоотношениях Аэция и Плацидии. Доминирующей в их отношениях всегда оставалась обоюдная враждебность. Временные перемирия заключались только в интересах государства. Родилась даже версия, что причиной этой ненависти служила неразделенная страсть, по крайней мере, со стороны Плацидии. Гордая принцесса до беспамятства влюбилась в красивого паннонийца. Ей импонировала его приверженность интересам государства — то качество, которым, полагала она, и сама обладает в полной мере. Лишь заботясь о благе государства, решила она, Аэций поддержал ее брак с Атаульфом, а сама вышла замуж из чувства долга перед отчизной, но не разделила ложа с супругом, надеясь, что придет миг, когда она упадет в объятия своего избранника. Она без радости согласилась на брак с Констанцием, так как уже предпочла другого; возненавидела жену и сына Аэция и, раздираемая противоречивыми страстями, безрассудно отказалась призвать на помощь Аэция, когда со смертью Гонория наступила смута. Затем она все время искала случая досадить тупому Аэцию, который никак не мог всего понять и броситься к ее ногам. Она проиграла и была вынуждена уйти с политической арены, но ее не покидала жажда мести, и она стала вдохновительницей убийства Аэция.
Все знают, что от любви до ненависти один шаг. Незатухающая ненависть Галлы к Аэцию действительно поражает. Столкнулись два сильных и практически во всем схожих характера. Но как бы там ни было, если в этом вечном противостоянии Галла часто играла неприглядную роль, то Аэций тоже далеко не всегда выглядел достойно.
Считается, что Аэций принял сторону узурпатора, усмотрев в нем человека, способного устранить от власти трусов и бездарностей, восстановить порядок и, может быть, даже объединить обе империи, возродив единство римского государства. Но думать так, значит признавать в Аэции исключительно самоотверженного героя, оторванного от реальных условий своего времени и готового любой ценой осуществить свой благородный план. К сожалению, перед нами человек, преследовавший собственные интересы и потому не допускавший возможности возврата к власти Галлы даже при поддержке Феодосия, предпочитавший присоединиться к Иоанну, который, несомненно, сделал бы его своей правой рукой, если не соправителем. Флавию Аэцию не давала покоя императорская порфира.
Галла Плацидия и не помышляла о том, чтобы обратиться к гуннам. Аэций же вовремя вспомнил о них и был встречен Роасом и Аттилой с распростертыми объятиями. Он с легкостью добился их поддержки, которой пренебрегли Гонорий и Феодосий, и направился на защиту узурпатора в Италию во главе шестидесяти тысяч гуннов. Они опоздали всего на три дня. Узурпатор был побежден и обезглавлен, Валентиниан III провозглашен императором. Войска римлян и гуннов застыли в ожидании напротив друг друга. Галла и Аэций примирились, поцеловались (но не от любви), и Аэций, отпустив своих гуннов, возвратился в Равенну. Желая избавиться от вечного соперника, Плацидия направляет его наместником в Галлию и дарит своим благорасположением сначала Феликса, затем Бонифация, а после Себастиана. Чаша терпения переполнилась. Хотя Аэций усмирил в Галлии вестготов, при дворе его считали второстепенным военачальником, а предателя Бонифация встретили как героя. Известно, что Бонифаций погиб в драке его эскорта с охранниками Аэция, и можно с уверенностью предположить, что смерть эта была не случайной, а хорошо спланированной Аэцием. На сей раз он был наивен, если ждал, что после гибели фаворита сможет занять его место. Узнав, что Плацидия назначила «протектором Империи» Себастиана, он не стал попусту тратить время и немедленно отправился к Роасу просить о помощи.
Надо быть слепым обожателем Аэция, чтобы утверждать, что «последний римлянин» привел гуннов, дабы обеспечить спокойствие Империи! Единственным желанием Аэция было отомстить за причиненную обиду и укрепить собственное положение. Благодаря гуннам он быстро одержал победу, и Себастиан бежал. Новый поцелуй примирения — но не любви — с Галлой Плацидией, и Аэций становится уже настоящим правителем Империи, наставником Валентиниана III.
Валентиниан заключил договор с Роасом, по которому Первая Паннония, разумеется, оставалась провинцией Западной Римской империи, тогда как на севере Второй Паннонии, хотя и остававшейся провинцией Восточной Римской империи, до берегов Дравы и Дуная, гуннам выделялась область, где они могли пользоваться «вечным гостеприимством». Предусматривалось, что договаривающиеся стороны будут совместными усилиями защищать всю Паннонию (все три ее части) от посягательств любого агрессора.
Аэций победил франков и ретов, принудив их подчиниться своей воле. Гунны пока еще оставались единственным сильным союзником Рима, хотя Аэций уже тогда понимал, что дружба эта продлится недолго.
Когда в Бельгию вторглись бургунды под предводительством короля Гундахара или Гондикера — Гюнтера из «Песни о нибелунгах», — Аэций направляет против них сводную армию варваров из аланов, франков и герулов, а также убеждает гуннов напасть на новых пришельцев, пообещав им новые области поселения. От руки гунна погиб и сам Гондикер.
К гуннам же Аэций обратился, когда потребовалось подавить сепаратистский мятеж галла Тибатона, опиравшегося на широкую поддержку багаудов.
Примерно тогда же (437 год) Аэций направляет большое войско гуннов под командованием своего помощника Литория, дабы остановить вестготов, попытавшихся захватить средиземноморское побережье. Победа над вестготами казалась уже обеспеченной, когда Литорий был ранен и попал в плен, и гунны, потеряв командира, были разбиты. Но Аэций опять сумел навязать готам мирный договор, пригрозив призвать на них новых гуннов.
Тогда как Западная Римская империя обретала в гуннах самоотверженных защитников, Восточная Римская империя, попирая заключенные соглашения, только и делала, что сеяла вражду между задунайскими гуннами и их соседями. Роасу это надоело, и он пригрозил войной. Аттила предупредил Аэция, чтобы тот остановил византийцев, пока не поздно. Аэций сделал, что мог, но Феодосий II, считавший себя тонким дипломатом и мудрым стратегом, продолжил свою тактику, лишь постаравшись действовать более скрытно. Сохранить все в тайне ему не удалось, так как Роас перехватил его гонцов с золотом для варварских вождей. Аэций снова предупредил Феодосия, что игра становится слишком опасной, вместе с тем постаравшись успокоить Роаса. Когда же дело приняло необратимо дурной оборот, Аэций нашел смелость занять твердую позицию и обвинил императора в развязывании войны.
Уместно возникает важный и интересный вопрос о том, как относились друг к другу Аэций и Аттила. Они познакомились еще в юном возрасте: Аттиле было десять лет, а Аэцию пятнадцать-шестнадцать. Старший стал помогать развиваться младшему. Они всегда встречались с радостью, обменивались дружескими подарками, старались не терять связи друг с другом, знали, что могут положиться один на другого, отважно противились воле своих господ, действия которых нарушали их дружеский договор. Аэция неоднократно, и не без основания, обвиняли в предательстве Рима, когда он приводил гуннов против легионов Галлы Плацидии, но предавал он не ради гуннов, а в собственных интересах. Аттилу, в свою очередь, винили в сочувствии Риму, вплоть до того, что Роас заговорил об излишней сдержанности племянника — Аттила и сдержанность! — в ситуациях, когда тот становился жертвой внезапной перемены императорских планов и когда следовало бы действовать более решительно.
Между Аэцием и Аттилой, несомненно, был сговор, и не дружеский, а политический. Не исключено, что в те времена последних Августов и Цезарей они думали о власти над миром и делили сферы влияния.
В 441 году, когда Аттила разорял придунайские земли Восточной империи и Феодосий II обратился за помощью к Западной империи, Аэций, с которым консультировались, посоветовал не оказывать поддержки византийцам, сославшись на трудности, впрочем, действительно страшные, с которыми римляне столкнулись на Сицилии и в Северной Африке, сдерживая натиск вандалов. Но при этом, получив послание от Аэция, Аттила вдруг останавливает свой успешный завоевательный поход на Балканах, так как возникла спешная необходимость подавить восстание белых гуннов.
Когда девять лет спустя Аттила под весьма сомнительным предлогом потребовал отдать ему часть территории Империи, Аэций заявил обоим императорам, что предпочел бы рассмотреть правовую и дипломатическую обоснованность притязаний Аттилы, прежде чем дать решительный отказ, который неизбежно приведет к войне.
Когда в конце 450 года на восточной границе Галлии скопилось такое количество войск гуннов, что в их скором вторжении уже никто не сомневался, Аэций вместо решительного наступления, на котором настаивал Валентиниан III, выжидал под предлогом, что другие границы Империи также находятся под угрозой и еще точно не известно направление главного удара. Похоже, он тайно пытался убедить Аттилу отказаться от задуманного вторжения и рассмотреть возможности мирного урегулирования. Ничего не помогло, и двое друзей стали заклятыми врагами. Однако все равно продолжали отлично понимать друг друга. Они заявляли, что война окончится только со смертью одного из них на поле брани, но при этом взаимно воздерживались от покушений и не препятствовали побежденному выйти из боя, когда поражение могло бы стать полным разгромом. Даже во вражде сохранялся негласный сговор. Оба героя считали, что от них зависит равновесие мировых сил и гибель одного из них может его нарушить.
Два гиганта сошлись на знаменитых Каталаунских полях. Аттила потерпел поражение, но не был уничтожен, так как этого не захотел Аэций. Карьера гунна не оборвалась навсегда. И когда Аэций победителем, во главе своих овеянных славой войск, возвратился в Равенну, Валентиниан III обвинил его в том, что он намеренно упустил Аттилу. Однако новый император Восточной империи Марциан, тоже паннониец, испытывал к Аэцию глубокое уважение и слал гонцов с предложениями об организации совместной обороны рейнских и дунайских рубежей. Валентиниан был вынужден не только отказаться от судебного процесса, но и заявить о благосклонном отношении к браку своей дочери Евдоксии и любимого сына Аэция — Гауденция.
Аэций был несказанно рад. Его сын войдет в императорскую фамилию, и тогда все станет возможным!.. Но вот Аттила вторгается в Италию и осаждает Аквилею. Валентиниан не спешит обратиться к военному гению Аэция и даже не прислушивается к его совету призвать на помощь императора Марциана. Раздосадованный Аэций уезжает погостить к другу. Когда Валентиниан был вынужден предложить ему принять командование армией, он поначалу отказывается и лишь затем уступает уговорам и призывает Марциана. Предстояло возродить армию и наладить оборону. Тем временем Аквилея была захвачена, вырезана, разграблена и сожжена. Аттила брал один город за другим, так как многие сами открывали ему ворота, чтобы избежать участи Аквилеи.
Аэций держал оборону к югу от По и предпринимал контратаки. Аттила остановился в Мантуе и готовил решительные броски к Равенне и Риму. Однако вмешательство папы Леона убедило Аттилу уйти из Италии, что дало современникам повод говорить о чуде.
Аэций отвел войска, но собирался продолжить реорганизацию армии. Однако Валентиниан III не был намерен вернуть ему военные полномочия и легко дал себя убедить, что Аэций готовится свергнуть его с престола. Он отменяет намеченную свадьбу своей дочери и Гауденция. На Аэция совершается целый ряд покушений. В конце концов, в 454 году Валентиниан собственной рукой убивает его в своей комнате. Меньше чем через год император и сам будет убит одним из ближайших советников, жену которого он изнасиловал.
Онегез
В окружении Роаса уже находились писцы и переводчики, необходимые для поддержания отношений с Римом и другими государствами. Все послы или высокопоставленные заложники предоставляли своих секретарей в его распоряжение. При императорских дворах также принимали образованных варваров, как писцов-переводчиков, так и дипломатов, которые участвовали в делах внешней политики.
Аттила долгое время жил при римском дворе и видел, что там помимо бесполезных высокородных приживал имелась и развитая администрация, способная облечь в форму документа приказы и распоряжения властей и проследить за их выполнением. Конечно, он не собирался копировать весь сложный и отточенный механизм управления, который казался ему излишне тяжелым и бюрократичным, но он понимал полезность административной работы и политической информации. Аттила не был тупым завоевателем, целенаправленно разрушавшим цивилизацию. Его успехи в области политического управления и организации общественного порядка впечатляют не меньше, чем военные победы.
Правой рукой Аттилы во всех начинаниях был грек Онегез. Он был главным советником и часто выступал в роли то полномочного посла, то военачальника, то короля гуннов, когда Аттила уходил в поход без него.
Онегеза сравнивали с великим визирем, вице-королем, гуннским королем — вассалом императора. И на то были свои основания. Он сопровождал Аттилу на многих сложных дипломатических встречах, руководил широкомасштабными боевыми действиями, брался за самые тяжелые поручения и выполнял их с блеском, умел подчинить своей воле самых гордых гуннских вождей. Везде, где он останавливался на продолжительное время, возводился деревянный дворец, настоящая королевская резиденция. Его жена, которая была и осталась его единственной спутницей жизни, активно участвовала в политической жизни и устраивала торжественные приемы правителей и зарубежных посланников. Ее имя не дошло до нас, она осталась в истории как «супруга короля Онегеза».
Современники оставили много упоминаний об иноземных командирах, советниках, атташе, переводчиках и секретарях при дворах Аттилы и Онегеза. Бок о бок с ними находились также образованные и способные гунны. Главнокомандующим гвардией, впоследствии ставшим военным министром, был Эдекон, белый гунн характерного монгольского типа, а поддержанием дипломатических отношений с Империей занимался Берик, черный гунн, отличавшийся суровостью. Но Берик зависел от первого советника Аттилы, римского паннонийца Ореста, являвшегося одновременно начальником секретариата и ответственным за внешние сношения.
Орест
Это была еще одна незаурядная личность. Поразительный сплав государственного мужа и искателя приключений! И какая судьба!..
Родился Орест близ Петавии (Петтау) на Драве в богатой семье, женился да дочери графа Ромула, видного деятеля Западной империи, который выполнял поручения первостепенной важности. Орест и сам очень быстро достиг в Империи поста, достаточно ответственного, но тем не менее не удовлетворявшего его амбициям. К тому же ему претили упадок и разложение императорского двора. Прибыв с письмом ко двору Аттилы, он был очарован сильной личностью этого гунна и решил остаться, убежденный, что сделает здесь блестящую карьеру. Орест становится ближайшим советником Аттилы, столь уважаемым, что осмеливался возражать против решений вождя, если не был с ними согласен, и не раз Аттила принимал его доводы. Ему поручали вести самые трудные переговоры, зная, что он никогда не подведет. Со временем он сколотил огромное состояние.
У него было лишь одно разногласие с Аттилой — но какое разногласие! Как и Онегез, Орест был сторонником захвата Рима, тогда как Аттила уступил просьбе папы Леона. После смерти Аттилы он, как и Онегез, тщетно противился разделу Империи гуннов и, разочаровавшись в новой родине, возвратился в Италию. Он становится начальником ополчения при императоре Юлии Непоте, далматинце по происхождению. Убедившись в полной неспособности последнего, Орест свергает его и провозглашает императором своего сына, который вступает на престол под именем Ромула Августула! Последним римским императором Запада становится сын Ореста, великого министра Аттилы! Разумеется, страной от имени малолетнего сына правит отец.
Толпы варваров подступают все ближе к Риму. Оресту предлагают раздел Империи, при котором значительная часть досталась бы гуннам. Орест отказывается. В 476 году король герулов Одоакр захватывает Рим и начинает раздел — треть итальянской территории предназначена гуннам. Одоакр приказывает отрубить Оресту голову, низлагает Ромула Августула, отменяет титул императора и провозглашает себя королем-патрицием Запада. Finis Romae.
Если «взаимное проникновение варваров и Рима» показалось Фердинанду Лоту фундаментом феодального, а затем и классического общества, то на скольких же кровавых битвах, заговорах и преступлениях они зиждились!
IV
Создание империи
К концу 421 года Аттила, которому, видимо, исполнилось 27 лет, уже входит в правительство своего дяди Роаса и выполняет важные поручения. Несмотря на то, что Роас не обделял вниманием и старшего брата Аттилы — Бледу, тот был слишком ненадежен и склонен к пьянству, чтобы разделить власть. Можно поручиться, что только неожиданная и скорая смерть помешала Роасу завещать королевский трон одному Аттиле, способному хоть в какой-то степени компенсировать недостатки братца. Во всяком случае, вплоть до своей смерти в конце 434 года Роас опирался только на Аттилу. Таким образом, последний не только вышел на международную арену, но и прошел серьезную школу, предшествовавшую созданию империи гуннов.
По свидетельству современников, Аттила знал греческий и латинский, причем греческим языком владел лучше. Это позволило ему стать естественным посредником дяди во всех переговорах с обеими империями. К тому же он располагал и личными связями.
Феодосий II вызывал его беспокойство. Аттила никогда не верил и не поверит впредь ни единому слову этого правителя Восточной империи. Поборник строгих нравов при своем распутном дворе, набожный до смешного, суеверный до глупости, рогоносец, которого супруга обманывала нагло и открыто, Феодосий интересовался только охотой, скачками, бегами, фехтованием и каллиграфией. Друзья недаром называли его Феодосием Каллиграфом — это было его единственное почетное звание. В своем знаменитом «Кодексе Феодосия» он собрал законы, изданные христианскими императорами. Дворцовые перевороты, которым не удавалось даже поколебать его слабой, но реальной власти, следовали с пугающей частотой. Его первые министры, почти исключительно евнухи, чаще всего приходили к власти, удавив предшественника, и едва успевали сколотить себе состояние, как, в свою очередь, погибали от руки убийцы. За двадцать пять лет их сменилось пятнадцать.
Политика Аттилы определилась быстро: на Западе относиться лояльно к Империи, пока Аэций будет там заметной фигурой, на Востоке — по мере возможности запугивать глуповатого императора, расстраивать его примитивные козни и пользоваться его бездарностью и слабостью. Добился же Роас от Феодосия и звания римского полководца, и большого жалованья в 350 фунтов золота в год. Следовало идти дальше под тем предлогом, впрочем, справедливым, что Константинополь подкупает различные народности, поддерживая их враждебность к гуннам. Аттила настолько убедил в этом своего дядю, что тот в 434 году открыто пригрозил Империи вторжением и добился прибытия императорских послов, принесших извинения и откуп, которые Роас считал справедливыми.
В 423 году, после смерти императора Западной Римской империи Гонория, Аэций попросил у Роаса войска для поддержки Иоанна Узурпатора. Аттила немедленно приложил все усилия, чтобы просьба была удовлетворена. Постарался он на славу: большинство историков сходятся во мнении, что предоставленная армия гуннов и их союзников насчитывала от пятидесяти до шестидесяти тысяч воинов! Кроме того, Аттила выделил Аэцию через Роаса огромное войско гуннов, чтобы он мог сместить Себастиана и внушить Галле Плацидии уважение к себе.
Но и это было еще не все. Аттила предпринимал многочисленные шаги по установлению прочных связей между Роасом и Эбарсом, между королевствами дунайских и кавказских гуннов, гуннами «черными» и «белыми». Аттила не раз навещал соседей и добился выполнения своей нелегкой миссии: обеспечить надежное сообщение между Каспием и Дунаем, оборудовать пункты смены лошадей на всей протяженности пути, сплотить земли оседлых или полуоседлых гуннов, развить сельское хозяйство и ремесла, где это было возможно, упростить обмен, то есть облегчить поступление на Запад всего, что производил Восток.
Эти гигантские усилия нашли поддержку у Эбарса и других гуннских вождей и их союзников, расселившихся на бескрайних просторах. Отныне товары шли от современного Баку до Вены, рис и копчености из азиатских кладовых перекочевывали в рейнские погреба, кавказские кузнецы и чеканщики соперничали с ремесленниками из окрестностей Линца, «едоки вареного мяса» из донских степей обменивали меха, кожи и зерно на материи, предметы быта и золото «едоков сырого мяса» с берегов Рейна. Цепочка хорошо охраняемых торговых городков протянулась от Астрахани до Будапешта. Это, вероятнее всего, так, однако, если не считать костей, керамики, оружия и кольчуг, относящихся к концу правления Аттилы, на сегодняшний день не найдено ничего, что могло бы послужить реальным тому доказательством.
Создается впечатление, что из-за ошибки в датах многие авторы преуменьшали масштабы деятельности Аттилы на Кавказе до смерти Роаса. Действительно, упоминается большая встреча Аттилы и Эбарса после 435 года, когда Аттила усмирил акациров. При этом достоверно установлено, что Эбарс умер раньше своего брата Роаса, около 431 года. В предшествующие годы Аттила провел немало времени в полезных беседах с дядей Эбарсом и значительно укрепил свой авторитет. Эбарсу после смерти не наследовал ни один «суверенный вождь». Единственным «королем гуннов» становится Роас; Аттила, долгое время боровшийся за единство империи гуннов и за поддержание порядка на Кавказе, направляется в королевство Эбарса, столицей которого, возможно, являлась Махачкала в Дагестане на западном побережье Каспийского моря. Он проводит здесь некоторое время, необходимое, чтобы показать, что он, племянник почившего короля, а главное, племянник единственного правящего короля, пришел сюда как хозяин, представляя неделимое королевство гуннов. Аттила подтверждает полномочия гражданских и военных чиновников Эбарса, выбор которых пришелся ему по душе, устанавливает налоги, осматривает укрепленные лагеря и крепости, определяет взаимосвязи и иерархическую подчиненность на случай общей обороны, назначает наместников, которых легко убеждает в том, что они не местные князьки, но представители знати всей империи гуннов, которые всегда будут с почестями приняты при дворе; Аттила организует как можно более частое сообщение между кавказцами и дунайцами, равно как и между ними и промежуточными пунктами; он учреждает институт делегатов при дворе от «белых» и «черных», которые должны координировать управление, конечно, довольно условное, но тем не менее имевшее место. Тем самым Аттила хотел показать кавказцам, что они — полноправные подданные всей великой Гуннской империи, что западные гунны не имеют над ними никакой власти, но все подчиняются одному «монарху», а их роль заключается в охране восточных границ империи гуннов.
Но и на этом он не остановился. Отобрав лучших лошадей и наездников, Аттила во главе самого роскошного эскорта, который только можно было найти в этих краях, и с богатыми дарами отправляется к роксоланам и другим сарматским племенам. Обменявшись с ними заверениями в искренней дружбе, лицемерными с обеих сторон, он движется дальше, наносит визит метидским князьям и аланам, занимающим земли между Доном и Волгой, и проводит особенно длительные переговоры с вождем коварных акациров — воинов-кочевников, обитавших на берегах Каспийского моря к востоку от Волги. Хан Куридак оценил поднесенные ему золотые блюда и обещал никогда не вторгаться в земли гуннов. Был заключен первый настоящий договор о дружбе.
В сопровождении своего великолепного эскорта Аттила продолжает путь и навещает массагетов к востоку от Каспия, затем племена хуан-лун и хионг-ну. Появление блестящих воинов на великолепных скакунах немало подивило последних, тем более, что пришельцы говорили на вполне понятном языке. Хионг-ну, настороженные частыми набегами соседей-китайцев, — тех самых китайцев, что в свое время возвели Великую стену исключительно для защиты как раз от них самих, — поинтересовались целью путешествия. Аттила успокоил их, заверив, что гунны и хионг-ну имеют общие корни, это братские народы, поэтому и говорят на схожих языках, что гунны прибыли с дружеским визитом и скоро приедут снова, а в залог дружбы предложил им несколько мечей. Триумфальный прием был обеспечен. Но Аттила намеревался засвидетельствовать почтение китайским властям. Пройти за Великую стену!.. Хионг-ну уверяли, что это безумие: его ждет оскорбительный отказ, а то и того хуже. Аттила направляет нескольких уполномоченных в сопровождении переводчика провести переговоры с китайцами и объяснить, что к ним пожаловал член императорской фамилии гуннов — тех гуннов, что владеют на западе самой большой империей мира, даже большей, чем обе римские, и цель визита — укрепить узы дружбы с властителями Поднебесной.
Посольство гуннов было принято благосклонно. С высоты Великой стены представители китайских властей внимательно рассматривали всадников. Все страхи рассеялись. Перед ними был почетный эскорт, который не вызывал опасений. Через несколько дней, ушедших на подготовку достойного приема гуннского князя, состоялась торжественная аудиенция у китайских наместников в Туен-Хуанге. Аттила провел некоторое время в Северном Китае. Наместникам он подарил нескольких лучших лошадей, золотую посуду и римские монеты из жалованья «римского полководца» Роаса. Китайцы в ответ презентовали украшения, кинжалы с резными рукоятями, слоновую кость и шелковые одежды.
Аттила с трудом расстался с этой удивительной страной. Гостеприимные хозяева хотели, чтобы он продолжил свой визит в Китай, но Аттила объяснил свой отъезд необходимостью присутствовать при дворе и, заключив договор о дружбе с благородным наместником, которому льстило представлять всю Поднебесную империю, царственный посланник империи гуннов возвращается стремительным маршем от Великой стены к берегам Дуная. Его миссия выполнена. Укреплено единство империи гуннов, ее слава достигла сердца Азии, заключены союзы и договоры о дружбе, а народы, населяющие азиатский континент, смогли убедиться, что следует считаться не только с римлянами. Империя гуннов стала реальностью.
Хотя и довольно рыхлая, но все-таки империя, со своими границами, пусть и не постоянными, но защищенными, с бескрайними пространствами, не исхоженными теми, кто считал себя здесь хозяевами, со своими подданными разного рода и племени, которые не могли отличить белых гуннов от черных, со своими земледельцами, пастухами, кочевниками, воинами, горожанами, ремесленниками, торговцами, мастерами, со своими данниками, мятежниками, федератами, истинными и ложными союзниками, со своей официальной религией и многочисленными местными культами. Сколько было этих вездесущих гуннов? Никто не знал.
Все приводимые цифры чрезмерно преувеличены. Одни говорят о тысячах, другие о миллионах. Но кого называют гуннами? Обитателей предгорий Кавказа и верховьев Дуная? Только западный ареал?..
Все «гуннское сообщество», основанное на принципе расового единства, по крайней мере, единства черных и белых гуннов, достигало, по оценочным данным, от двухсот пятидесяти тысяч до пяти миллионов человек!
Любители завышать число говорят о плотной концентрации гуннов между Азовом и Каспием, внушительной колонии между Дравой и Дунаем и значительном расселении на равнинах Тисы и по всей Венгрии, а также большой части современной Югославии. Приверженцы минимума учитывают кочевников, обосновавшихся на Северном Кавказе, отдельные группы, расселившиеся по долинам Тисы и среднего Дуная, некоторое количество поселенцев в Венгрии и военный лагерь на берегах Дуная к востоку от Вены.
Первые принимают во внимание протяженность границ, которые необходимо было охранять, огромные размеры захваченных земель, интенсивность и объем обмена и потребления продуктов питания и, главным образом, внушительное количество воинских когорт и множество наемников, участвовавших в походах. Минималисты указывают на слабость соседей, наиболее часто беспокоивших восточные владения, отсутствие настоящих сельскохозяйственных поселений и сохранение кочевого скотоводства, редкие места долговременного или постоянного пребывания, преобладание сырья в производстве и организованном обмене, участие в походах гуннов значительного количества варваров — союзников или наемников.
Одним из краеугольных камней расчетов выступают размеры армии гуннов, направленной Роасом в помощь Аэцию для поддержки Иоанна Узурпатора. Известно, что цифры в пятьдесят-шестьдесят тысяч человек более чем спорны, и даже если учесть, что Аттила приложил значительные усилия для сбора войск, маловероятно, чтобы он опасным образом ослабил прочие свои легионы. При этих условиях сторонники большого населения оценивают численность гуннов в 250 000 воинов на западе, 200 000 в различных захваченных землях, 200 000 на востоке; контингент в 650 000 воинов предполагает 1 600 000 человек, «следующих за войсками», что в целом дает 2 250 000 личного состава подвижных частей и гарнизонов и примерно такое же количество, если не больше, земледельцев, пастухов, рыбаков, кузнецов и ремесленников в деревнях и городках. Но, скажут минималисты, из 50 000 корпуса Аэция гуннов было не более 15 000. Остальные воины происходили из других варварских племен и пришли вместе с гуннами. Таким образом, основываясь на этих пятнадцати тысячах, можно допустить 25 000 на западе, максимум 5000 гарнизонных войск по различным укрепленным пунктам, около 12 000 воинов на восточных границах, что в целом дает 42 000 воинов и 100 000 «следующих за войсками» и ополчения. Получаем 142 000 плюс около 38 000 в Паннонии и окрестностях, 25 000 разбросанных по степям кочевников, не более 12 000 осевших на западе и 33 000 расселившихся на восточных землях.
Чрезвычайно трудно разрешить этот бесконечный спор. Вместе с тем предположение о 250 000 населения совершенно нереалистично: в условиях того времени сформировать, помимо других войск, легион в 60 000 человек было бы невозможно. Кроме того, если экспедиционный корпус, приданный Аэцию, включал в свой состав не-гуннов, то последние, вне всякого сомнения, составляли весьма незначительное меньшинство. С другой стороны, даже если кочевники трудно поддаются подсчету, их численность в любом случае не могла ограничиваться несколькими тысячами, а постоянный интерес к восточным рынкам достаточно убедительно доказывает, что там имелась давно сформировавшаяся высокая концентрация населения.
Отбросив в сторону примитивистский подход деления на два, можно допустить, что собственно гуннов, черных и белых, было около полутора миллионов человек: от 200 000 до 250 000 на морском побережье и на Кавказе, с учетом не прекращавшегося и все более интенсивного заселения Каспийского побережья; от 450 000 до 500 000 между Днепром и Волгой и в Заволжье; от 80 000 до 120 000 между Днепром и Вислой, Вислой и придунайскими землями, а также в нескольких анклавах, точное место расположения которых трудно установить; от 100 000 до 120 000 к западу от Дуная и даже Рейна (там осели гунны Октара; наемники-гунны приглашались часто, и скрытое проникновение продолжалось вплоть до открытого вторжения); но на всех этих пространствах имелись области повышенной концентрации населения, которые следует учитывать отдельно: от 160 000 до 200 000 только в Восточной Паннонии и на территории современной Венгрии и по меньшей мере 300 000 в громадном дунайском скоплении, которое современные авторы предпочитают называть «большим лагерем» или «цепочкой лагерей» (но, естественно, при этом не учитывается ранее упоминавшееся гуннское население Паннонии и Венгрии, более оседлое и разнородное).
Следует ли говорить о «гуннском народе» или же о народах, а то и просто племенах? Разница заключается только в выборе названия. Если допустить — что чаще всего и делают — единство происхождения белых и черных гуннов, история сама разделила их на два весьма разных «общества»: оседлое скотоводческое каспийцев и противостоявшее ему грабительское кочевников-дунайцев, живших войной. На востоке хоть и неразвитое, но все-таки сельское хозяйство, вобравшее в себя знания китайцев и хионг-ну: тут рис, там тутовые деревья, шелковичные черви, фруктовые сады, огороженные пастбища, конные заводы, свинарники и псарни, посевы на грядках, хорошо продуманная ирригация, плуги всех типов от примитивной сохи до железного лемеха, и конечно же, огромные стада скота, кочующие или перегоняемые по регулярным маршрутам, морские и речные рыболовецкие промыслы с отлаженными технологиями и великолепными снастями. На западе — полное бескультурье, которое обычно вызывало усмешку у коренных жителей, если только им самим не приходилось за него расплачиваться, подвергаясь систематическому грабежу. Даже оседая где-либо, западные гунны заставляли обрабатывать землю местное население, хотя бывали и исключения — гунны с венгерских и иллирийских равнин. Белые гунны добывали соль и минералы; черные гунны не тратили на это время и отнимали или покупали добытое у белых, но при этом обеспечивали защиту шахт и иногда внедряли то тут, то там собственные технологии обработки металлов, удовлетворявшие их потребности в вооружении и украшениях.
Так все-таки: народ, народы или племена? Сходства и различия экономического характера мы уже рассмотрели. Что же можно выделить или предположить в социальном плане?
С большой долей уверенности можно утверждать, что гуннский народ или народы были разделены на племена, понимая под этим родственные сообщества, которые в свою очередь делились на хорошо различимые группы и имели примитивную организацию, лишенную единообразия. К основным группам относятся урало-каспийская, степная, русско-украинско-польская и западно-дунайская. Однако такое определение довольно условно, поскольку племена и родоплеменные сообщества, в теории образующие эти группы, существенно отличались друг от друга. На восточных рубежах языковые различия и иной образ жизни позволили гуннским племенам избежать поглощения или покорения китайским народом, но китайская культура тем не менее оказала на них свое воздействие, главным образом, в распространении конфуцианства и его разновидностей с культом предков и более выраженным уважением к политической иерархии, нежели к индивидууму. Но идея Бога-создателя так и не прижилась. Китайское влияние слабеет по мере продвижения на запад. Исчезает и культ предков. Ничего не остается, кроме обычных верований кочевников. Наиболее распространенной была приверженность тотемизму и моногамии. На всем протяжении цепи «ограниченных зон проживания» гуннов от Дальнего Востока до Запада культура этого народа испытывала влияние тибетской, туркменской, персидской, астраханской, тюркской и русской цивилизаций. Но в целом складывается впечатление, что быстрота перемещений, несхожесть языков, дикость и врожденное безразличие гуннов к религиозным культам помешали им воспринять внешние влияния. Как уже говорилось, наиболее общей чертой гуннов было неверие в Бога или богов. Отсутствовал даже фетишизм в самых примитивных племенных формах. Гунны не признавали какого-либо гуннского бога и скептически, но все же осторожно, относились к существованию богов у других народов. Они допускали, что среди других народов могут встречаться существа, обладающие сверхъестественными способностями, несущими добро или зло, но не считали их ни богами, ни демонами. Гунны чтили предков, но не верили в продолжение жизни после смерти, допуская только вечный сон в небытии.
Сколь ни удивительно, однако и социальная иерархия гуннов была предельно упрощенной, примитивной. Несмотря на то что на дальних восточных, прикаспийских и приазовских землях рабство существовало, гуннские сообщества не могут считаться классическими рабовладельческими. Впрочем, гунны редко брали в плен, предпочитая грабить и убивать, и хотя они могли облагать побежденных данью, это не было собственно рабством. Сами гунны были исключительно свободными людьми и гордились этим. Существовала только военная иерархия, причем постоянно, а не только на время походов — того требовала необходимость нападать и обороняться. Этот военный характер сохранялся даже в дунайских и придунайских районах, несмотря на сравнительно многочисленную гражданскую администрацию. «Суверенные вожди» являлись главнокомандующими, министры были одновременно и военачальниками, вожди племенных союзов возглавляли войска, а их командиры сочетали военные функции с «гражданскими».
Каждый гунн был по определению воином, независимо от того, занимался ли он ремеслом, горным промыслом или сельским хозяйством. Оседлый гунн держал оружие наготове, а кочевник вообще с ним никогда не расставался. По первому сигналу тревоги гунны бросали все, а женщин, детей и стариков везли за собой в кибитках, впоследствии же они по возможности старались оставлять их под защитой надежных укреплений.
У гуннов имелись разные типы общества и семьи.
Большинство этнографов полагают, что пастухи-кочевники придерживались моногамии и коллективного проживания детей в общем шатре по выходе из младенческого возраста. В уральском, каспийском, кавказском и днепровском регионах была распространена полигамия с иерархией жен, иногда с различением жен и наложниц, причем полигамия могла сосуществовать с моногамией.
«Общность женщин» у кочевников по-прежнему предполагается многими исследователями. Согласно этой теории, мужчина не имел исключительного права на одну или несколько женщин. Родственные связи мало кого заботили. Младенцы жили в повозках матерей, а когда они подрастали, их переводили в повозку для детей, а позднее, когда мальчики становились юношами, девочки поселялись в отдельной повозке. Вожди не подпадали под общее правило и жили с собственными женами и наложницами, которые растили их детей. Захват женщин был законом войны. Красавицы становились частью добычи, и вожди имели право выбирать первыми.
Эта гипотеза сегодня зачастую ставится под сомнение, и большинство ее приверженцев признают, что обычай общности жен существовал только короткий период и в наиболее примитивных ордах дунайских кочевников.
Моногамия не была абсолютной и сосуществовала с полигамией. Предполагается, что моногамии придерживалось большинство занимавшихся перегонным скотоводством, а также оседлые поселенцы, городские ремесленники и торговцы, обитатели земледельческих поселений. Сторонники моногамии обосновывают это предположение малочисленностью населения и проникновением религий с суровыми требованиями к морали. Высказывалась и еще одна довольно интересная версия. Единого типа семьи не существовало, и военные отряды состояли как из приверженцев моногамии, нарушение которой строго каралось племенем, так и из «многоженцев», не знавших ограничений. Гунн мог свободно выбирать между двумя формами, но, склонившись к моногамии, уже не мог нарушать ее законов. Такие юридические тонкости и нечто вроде полиции нравов, которая должна была бы существовать, лишают эту гипотезу убедительности. Но вполне вероятно, что решительные сторонники моногамии — любовь творит чудеса! — боролись за уважение своих браков и могли, при наличии заслуг, добиться согласия соплеменников или, по крайней мере, вождей.
Выдвигалась также и не слишком убедительная гипотеза существования каст в составе племени: вождь пользовался привилегией неограниченной полигамии, среднее звено имело право на ограниченное количество жен, а простые воины должны были соблюдать моногамию. В пользу этой гипотезы можно привести то, что вожди гуннов действительно придерживались полигамии и количество жен и наложниц возрастало с их рангом, а кроме того, ограничение числа женщин, «следующих за войском», было желательно для сохранения маневренности.
Полигамия также имела свои законы, не обязательно единые для всех племен. Вожди не знали ограничений, и многочисленные браки Аттилы служат ярким примером тому. Что же касается остальных, то не исключено, что, начиная с определенного количества жен, для нового брака требовалось разрешение вождя, и распределение пленниц также проходило под его контролем. Современники Атгилы — Приск и Кассиодор — писали о жестоких изнасилованиях с последующими зверскими убийствами женщин при набегах и захватах городов, но они же утверждают, что с пленницами, полученными при разделе добычи, обращались очень хорошо и порой даже лучше, чем на их родине. У гуннов, по-видимому, даже существовало довольно уважительное отношение к женщине, но при этом кочевники редко пускали старух за спасительный частокол лагеря, и их повозки, замыкавшие обоз и тащившиеся медленнее других, были обречены на уничтожение врагом.
Правда, что гунны недорого ценили жизнь. Вопреки мнению историков классического периода, а также Мишле или Рамбо, Аттила всегда берег жизни не только своих воинов, но и других подданных. Он предпочитал демонстрировать силу, нежели пользоваться ею, запугивать, а не убивать. Но гуннский воин рвался в бой, и яростный порыв преобладал над тактикой. Чем больше риска, тем больше славы, и часто даже полная уверенность в неминуемой гибели не могла его удержать. Умереть ради славы — вот истинная доблесть. Неверие в загробную жизнь не охлаждало пыл воинов, напротив, оно являлось источником отваги гуннов. Хочешь не хочешь, а умирать придется, так что сделать это лучше в яростном боевом порыве. Нет, они невысоко ценили жизнь: воины кончали с собой из любви к почившим вождям, приносили себя в жертву из мелкого тщеславия, так что об истинной жертвенности не могло быть и речи. В каждом отряде были воины, знавшие толк в целебных травах и лечившие настоями и отварами своих товарищей, но в случае тяжелого ранения или болезни гунны кончали с собой без колебаний.
Все это возбуждало потребность в наслаждениях: ведь жизнь так коротка, полна случайностей и в целом жалка, что надо успеть хотя бы вкусить всех ее прелестей, пока еще есть время. Наслаждение битвой, обжорство, пьянство, плотские утехи… Когда король гуннов принимал знатных чужеземцев, его первой заботой было предложить им вина, которое он открыл для себя в походах на запад, и красивых женщин, специально отобранных им лично для услады гостей. Римляне, удостоенные такого гостеприимства, оставляли в своих путевых заметках самые лестные отзывы, хотя и в стыдливых выражениях. Прекрасные куртизанки редко были рабынями, чаще всего они происходили из знатных гуннских родов, специализируясь на оказании определенного рода услуг и умея избегать их нежелательных последствий.
Аттиле приписывали невероятное количество жен. Ученый грек Приск, своего рода социолог и мемуарист, побывавший с посольством Феодосия II у Аттилы и даже допущенный в ближайшее окружение последнего, писал, что им несть числа, а вестгот Иордан, ставший епископом и занявшийся историей варваров через сто лет после смерти Аттилы, утверждал, что тот «имел несметное количество жен», а «чада его, что народ целый». Другие древние историки сообщали о трехстах женах и более чем тысяче двухстах детях. Весьма лестный отзыв о мужской силе гуннов, но едва ли этому примеру следовали в массовом порядке.
У Аттилы очень рано появились «подруги», но мимолетные связи совсем не то, что супруга, возведенная в ранг королевы, равно как нельзя сравнивать взятую в супруги дочь вождя и супругу попроще, наложницу, родившую королевского сына, и наложницу без ребенка, любимую жену и бывшую супругу или бывшую наложницу, которую продолжали терпеть.
Аттила, тогда еще наследный принц, женился около 413 года на дочери вождя племени, не входившего в сферу влияния Роаса и его семьи. Возможно, ее звали Энга. Она, видимо, имела статус наследной принцессы и родила сына Эллака, которого Аттила всегда любил больше других. Но она умерла. Около 421 года Аттила женился на гуннской княжне, возможно, своей двоюродной сестре и дочери «суверенного вождя» крупного племенного союза. Звали ее Керка. Став в конце 434 году королем гуннов, он сделал ее королевой (жена его брата Бледы также получит этот титул), а с 435 года, после его провозглашения императором, Керка стала «королевой-императрицей».
Керка была, видимо, единственной из всех жен, которую Аттила допускал к участию в своей политической деятельности. Известно, что она принимала послов, даже в отсутствие Аттилы, и вела с ними переговоры. Эту задачу она выполняла совместно с женой Онегеза.
Керка родила двух сыновей и нескольких дочерей. Сыновья получили титул «правителей», что обеспечивало им статус королевских наследников, принцев, допущенных к государственным делам. Аттила, по всей видимости, наградил титулом королевы и сестру короля гепидов Ардариха: их сын Гейсм был признан «правителем», а значит, наследным принцем и гуннов, и гепидов.
Аттила сделал королевой и дочь короля «скифов» — видимо, сармата из Северного Причерноморья или какого-то выходца из соседних с Китаем областей. Короля звали Эскам, а дочь многие величали по отцу Эской. Она занимала при дворе второе место после Керки, отчего и величали ее «второй королевой». Она подарила императору сына и умерла при родах.
Вероятно, только Керка, сестра Ардариха и Эска были возведены в ранг королевы. Но еще одна «благородная» жена из знатного гуннского рода, не получившая королевского титула, родила Аттиле сына — Эмнедзара, который также был провозглашен наследным принцем, как и дети Энги и других королев. Более тридцати дочерей царьков-варваров и гуннских вождей стали супругами Аттилы и именовались княгинями. Все они жили в большом королевском дворце или прилегающих к нему теремах, а их дети росли вместе.
Титул королевы или княгини даровался Аттилой, а брак освящался исключительно свадебным пиром. Если невеста происходила из знатного и влиятельного рода, то на празднества приглашались зарубежные гости, и событие приобретало международный характер. В прочих случаях свадьбу играли в тесном семейном кругу.
«Случайные» жены — предмет внезапной страсти — могли претендовать только на совместную трапезу и проживали в некоем подобии сераля вблизи королевской резиденции, удовлетворяя сиюминутные прихоти императора. Содержались они за счет казны, а дети их могли рассчитывать на высокое положение, если не были совсем бездарны. Если же детей не было, их могли отпустить на волю, подарить другу или отправить обслужить высокого гостя.
Простая наложница была разменной монетой. Если она рожала ребенка от императора, то оставалась в «серале», выполняя роль служанки или «фрейлины» супруги. Ее дети росли во дворце, но не могли претендовать на милости, сравнимые с теми, что получали сыновья императорских жен. Если же детей не было, она могла остаться, уйти, если переставала нравиться повелителю, или выйти замуж за придворного, в глазах которого ее облагораживала благосклонность императора.
Триста «жен»? Не больше тридцати, но и того довольно, зато число второразрядных жен, наложниц и любовниц, забытых, но оставленных при себе, действительно могло доходить до четырехсот-пятисот. Тысяча двести детей? Но и у самого ничтожного царька их бывало с полсотни. Положение обязывает!..
В жизни Атгилы было несколько особенных любовных романов: романтическое, забавное и двусмысленное приключение с Гонорией, волнующий, непонятный и, возможно, платонический эпизод с Еленой и романтическая, ужасная и загадочная драма с красавицей Ильдико. Но мы вправе утверждать, что единственной «женщиной всей жизни» Атгилы была императрица Керка, и никто не мог занять ее место. Она умерла в 449 году, до последнего дня оставаясь деятельной и всеми почитаемой императрицей. Дочь Эскама умерла вслед за ней. Онегез и его жена переживут императорскую чету, но добровольно уйдут с политической сцены в год смерти Аттилы.
С учетом собственного опыта поездок, встреч и переговоров Аттила разработал свою первую имперскую программу. У него были виды на обе Римские империи (время, проведенное в почетных заложниках, не прошло зря), но особенно на территории Западной Римской империи, управлявшиеся из Равенны, и дунайские земли, находившиеся под властью Византии. Однако в то время, которое очень быстро прошло, он хотел лишь избежать неприятных сюрпризов и не давать водить себя за нос: правитель гуннов останется верным союзником, пока римляне будут лояльны по отношению к нему.
Вопреки мнению ряда серьезных исследователей, трудно предположить, чтобы Аттила строил какие-либо планы по захвату Китая или земель хионг-ну. Он лишь следил за тем, чтобы и с той стороны все было спокойно и никто не пытался расстроить заключенные им союзы. Аттила стремился обеспечить безопасность везде, где гунны были хозяевами, как на каспийских, так и на дунайских землях, а по возможности и в областях их ограниченного проживания.
Однако Аттила неоднократно имел случай убедиться, что эта цель еще далеко не достигнута. Римские эмиссары пытались подкупить хана акациров и даже самого Эбарса; дунайским племенам делались предложения о тайном или явном союзе; гуннские отряды открыто переходили на службу Риму, не затрудняясь уведомить о том «римского военачальника» Роаса; «князья» из гуннской племенной верхушки становились советниками императоров в Равенне и Константинополе; на дунайских землях были задержаны тайные римские гонцы с золотом. Терпение лопнуло. Аттила убедил Роаса, что нужно предпринять ответные действия и притом самые решительные.
Роас отправил Феодосию II гневное послание с требованием прислать к нему двух полномочных послов, которым будут подробно изложены причины неудовольствия и сообщено, какая сумма компенсаций и какие гарантии позволят избежать войны. Посоветовавшись с Аэцием, Феодосий согласился и назначил послами Плинфаса и Эпигения. Посольство направилось в римский город Маргус в устье Моравы, где должна была состояться встреча с Роасом и его советниками.
Это было, видимо, в октябре 434 года, переговоры же назначались на начало ноября. Тем временем скоропостижно скончался Роас. Вожди и воины спешно провозгласили «суверенными вождями» двух его племянников, сыновей Мундзука — Бледу и Аттилу. Начинался великий период в истории гуннов.
V
Становление императора
С момента своего столь внезапного провозглашения императором Аттила уже не был ни «суверенным вождем», как его отец, ни «королем варваров» с титулом «римского военачальника», как его дядя.
Верховенство королевского рода Турды, славным отпрыском которого был Аттила, признавалось отныне всеми западными гуннами, даже если отдельные вожди и надеялись на восстановление господства Рима. Это верховенство, хотя и в значительно меньшей степени, ощущалось и восточными гуннами. Сознание некой этнической и даже политической общности было присуще обеим группам.
Официально Аттила провозгласил себя императором только в начале 435 года. Он именовался королем-императором или «императором, королем гуннов». Но уже с самого начала самостоятельного правления иностранные партнеры его величали правителем Империи. Послы Феодосия первыми обратили на это внимание и были вынуждены последовать общему примеру.
Аттила сам определил границы империи, которую считал своей по праву на момент прихода к власти. Это была его основная империя, сложившаяся в результате прежних миграций и походов. Для признания земли своей было достаточно, чтобы на ней имелись поселения гуннов или через нее пролегал путь гуннских переселенцев. Пределы империи впоследствии могли и расшириться, но пока это была его земля, и он не желал, чтобы кто-либо приходил сюда без его ведома и согласия и жил здесь не по его законам. Аттила (в теории) оставлял только за собой право поддержания порядка в империи и ее защиты.
Его империя простиралась от Уральских гор и Каспийского моря до Дуная. На юге ее естественными границами были Кавказ, Азовское море, Черное море и Карпаты. Граница огибала Карпаты и где-то с середины южного склона спускалась к Дунаю, который, в свою очередь, становился «естественной границей». Таким образом, территория современной Венгрии рассматривалась Аттилой как неотъемлемая часть его империи, однако Румыния не входила в ее пределы. На севере не имелось естественных границ. Поэтому он решил проложить границы по прямой линии от Уральских гор (примерно с последней четверти западного склона) до верховьев Волги (к югу от Рыбинского водохранилища) и по другой прямой линии — от северного берега Дуная до Виндобоны (Вены). Эта граница была полностью искусственной, выдуманной и даже иллюзорной, но надо было принять решение, и к тому же на севере некого было опасаться!
Мания величия! Пустые мечтания больного рассудка! Наглость царька, объявившего себя владетелем пустынь и непроходимых мест, только бы пустить пыль в глаза действительно великим мира сего! Провокация шарлатана! — Сколько историков разоблачало «манию Аттилы»!
Другие же, напротив, видели в этих абсурдных границах фиктивной империи проявление его дипломатического гения. Одним махом Аттила поставил себя в ряд с другими императорами, которые не смогли ему в этом помешать, и обеспечил себе возможность играть на «незаконном» нарушении границ, как и сами они не раз поступали, когда дело заходило о слабо контролируемых землях.
Конечно же, придворных в Равенне и Константинополе немало позабавили «наивные» претензии гунна. Только Аэций и, возможно, Галла Плацидия отнеслись к ним со всей серьезностью. Аттила прекрасно отдавал себе отчет в своих речах и поступках. Он не питал ни малейших иллюзий насчет реальности своей империи, ее единства и сплоченности, размеров подвластных ему территорий и лояльности тех, кого он называл своими подданными, отдельные из которых даже не знали о его существовании. А насколько трезво в те времена упадка, когда многие ждали пришествия Бича Божия, оценивали силу собственной власти императоры Восточной и Западной Римских империй? Аттила в бытность свою при дворе Гонория научился различать видимость от реальности. Он знал, что огромная территория Империи стала в конце концов причиной ее раздела на две части, каждая из которых оставалась слишком большой, чтобы в ней можно было установить прочный порядок. Императоров обеих империй он считал лишь номинальными, а потому не видел причин, по которым нельзя было бы и ему стать императором, великим императором, сверхвеликим номинальным императором. Это произведет впечатление на других, к тому же заставит их думать, что ему еще многое предстоит сделать, чтобы укрепиться в намеченных им пределах, а значит, он не причинит им значительного беспокойства. Они не знают, говорил себе Аттила, что он не только способен стать реальным полновластным господином своей империи, но и захватить обе Римских империи. И в этом, надо признать, проявилась мания величия Аттилы.
Но, провозгласив себя императором, Аттила имел свои доводы, и доводы разумные, а не безумные: он хотел равенства, а затем и превосходства в переговорах, хотел выгодных союзов и выполняемых обещаний. Он хотел внушать страх и уважение. Империй, по крайней мере официально, становилось теперь четыре: Западная Римская, Восточная Римская, Китайская и Гуннская. Аттила отметил для себя малоприятный факт, что из всех империй его знают только в Китайской, и только с ней установлены дипломатическим путем дружественные связи.
Итак, предстояло установить отношения с римлянами, однако встреча должна была состояться не в Маргусе (не к лицу независимому правителю гуннов останавливаться в римском городе), а неподалеку от него, на моравской равнине на правом берегу Дуная. Аттилу, разумеется, будет сопровождать Бледа, которого вместе с ним возвели на престол в спешке, последовавшей за смертью Роаса. Бледа ничем не стеснял брата. Он мало что понимал и предпочитал отмалчиваться. Ему и в голову не приходило, что он мог бы не признать главенство своего младшего брата.
Аттила знал, что послов Феодосия будет двое, Плинфас и Эпигений, которых должны сопровождать легаты рангом пониже. Он принял решение, что и его с братом будут сопровождать два посла, также располагавшие штатом помощников.
Сообразительность Аттилы подсказала ему выбрать в послы двух своих ближайших и самых любимых советников — грека Онегеза и паннонийского римлянина Ореста. Таким образом, межимперская конференция приобретала по-настоящему международный характер. Помощниками послов стали гунны ярко выраженного монгольского типа — Эсла и Скотта.
Желая подчеркнуть свою роль принимающей стороны, делегация Аттилы прибыла на место встречи первой. Демонстрируя собственное пренебрежение к римским обычаям, Аттила и «сопровождающие лица» не сошли с коней; римские послы посчитали себя обязанными также остаться в седлах.
С обеих сторон последовали высокопарные приветствия. Перед отъездом в Маргус Плинфас несколько преждевременно выразил Феодосию свое удовлетворение тем, что переговоры предстояло вести с новоиспеченным королем, а не с матерым несговорчивым Роасом. Посол начал свою речь, призвав оценить милостивое снисхождение, проявленное императором, который любезно направил послов по первой просьбе короля гуннов. Аттила холодно оборвал его: если Феодосий уступил требованию, то только потому, что отказ привел бы к войне, и стоит поверить его слову, что в данных условиях гунны готовы сражаться; правитель гуннов здесь потому, что желает сообщить послам, какую цену римляне должны заплатить, чтобы избежать столкновения, а послы должны только ответить на изложенные требования «да» или «нет».
Плинфас и Эпигений не ожидали ни такого приема, ни грозной речи на латинском. Им пришлось сдержаться и выслушать требования гунна до конца, оставив за собой возможность поторговаться. А требования были простыми и ясными: расторгнуть все союзы, заключенные де-юре или де-факто между Константинополем и странами, вошедшими в Гуннскую империю; отказать в какой-либо поддержке дунайским и каспийским племенам и отозвать эмиссаров; уволить со службы всех гуннов, нанятых без согласия Роаса; выдать всех гуннов, предательски укрываемых Феодосием II, и всех дезертиров, нашедших прибежище в Римской империи; торжественно обещать никогда не оказывать, прямо или косвенно, помощи врагам гуннов.
Плинфас наконец-то смог вставить несколько слов. Он заверил, что император Восточной Римской империи не держит наемников-гуннов и это требование следовало бы предъявить императору Запада. Аттила промолчал, а Онегез ответил, что возьмет это на заметку. Тогда Плинфас заявил, что хочет убедиться, правильно ли он понял требования вождя гуннов, и повторил их все одно за другим, каждый раз спрашивая: «И что будет, если император не согласится?..» На что Аттила каждый раз отвечал: «Значит, он выберет войну». Столкнувшись с подобной решимостью и уверенностью в собственной правоте, Плинфас отступил. Слишком быстро отступил, так как Аттила, увидев, что выигрывает партию, только усилил нажим. Он напомнил, что несколько римских заложников сбежали, не заплатив выкупа. Их надо либо вернуть, либо заплатить восемь золотых монет за каждого. Но это мелочь, главный вопрос касается возмещения ущерба, нанесенного гуннам происками римлян в дунайских и каспийских землях. Кроме того, чтоб вы знали, дружба гуннов сегодня стоит дороже, чем вчера, и «жалованье» в 350 фунтов золота, платившееся «римскому полководцу» Роасу, должно стать ежегодной «данью» в 700 фунтов золота, которую император Восточной Римской империи будет платить императору гуннов.
Тут Эпигений не выдержал и взорвался: «Император на это не пойдет никогда!» На что Орест очень спокойно ответил ему: «Тогда он выберет войну». И вежливым, но твердым тоном дал послам ночь — одну ночь — на размышления и назначил встречу на утро следующего дня.
Послы провели весьма скверную ночь. Аэций предупреждал их, что к угрозам Аттилы нельзя относиться легкомысленно, что у того слова не расходятся с делом. Феодосий II сам рекомендовал им соблюдать максимальную осторожность и передал Эпигению императорскую печать, которой скреплялся любой договор от имени императора. Но мог ли этот мот и расточитель с тощей казной согласиться на столь чрезмерную дань? В конце концов, они решили, что этот вопрос и станет главным предметом торга. Но главное: даже если сейчас и уступить, еще не известно, придется ли платить…
Утром стороны снова встретились на равнине в окрестностях Маргуса. Однако на месте были только двое «монголов»!.. Пришлось ждать, пока Аттила, Орест и Онегез соизволят, наконец, прибыть. Орест передал послам уже подготовленный договор на безупречной латыни. Плинфас заявил, что, по его убеждению, Феодосий откажется увеличивать размер жалованья. Орест забрал договор и объявил переговоры оконченными: пусть будет война, если византийский император этого хочет. Эпигений поспешил вмешаться: у него есть печать, договор можно подписывать!
Маргусский договор был немедленно подписан.
Онегез отвел Эпигения в сторонку и сообщил, что Аттила сделал небольшой подарок, не указав в договоре точного числа сбежавших римских заложников, но гуннских перебежчиков из знатных родов надо вернуть, равно как и отказаться от услуг всех советников-гуннов, тайных или явных, при императорском дворе в Константинополе. Было бы также неплохо убедить императора Западной Римской империи отказаться от найма гуннов в свои легионы без согласия Аттилы и уволить тех, кто уже находится на его службе. Расстались в почти дружественной обстановке.
Известие о заключении договора успокоило Феодосия II, но он пришел в бешенство, узнав, что должен выплачивать 700 фунтов золота в год, и решил про себя, что платить будет недолго. Пока же было необходимо показать Аттиле, что его признают императором и принимают его императорские требования: Феодосий приказал взять под стражу двух сыновей гуннских вождей, находившихся на его службе, и передать их Аггиле на римской территории у Карса — города в дунайской Фракии. Аттила распорядился распять их на глазах у римских конвоиров в назидание предателям, шпионам, дезертирам… и тем, кто дает им прибежище.
Аттила вернулся в свою «столицу» где-то на просторах дунайской равнины и «сформировал правительство» из своих ближайших советников во главе с Онегезом.
Аттила уделял много времени управлению государством, стараясь выступать защитником и вождем всех, кто подчинялся его власти, укреплял связи с соседними государствами и заботился о развитии сети дорог, связующих основные районы, центры и городки его империи.
Он — император и жаждет соответствующего величия. Чужие должны его бояться, свои — слушаться. Но еще он хотел, чтоб его любили. Приск оставил нам следующее описание: «Он выступал гордо и бросал взгляды свысока, держался прямо, сознавая свое могущество; он любил войну, но умел разумно использовать и время затишья; по-царски надменный, когда провозглашал свою волю, резкий и грубый, когда считал это уместным, он при этом не оставался глух к просьбам, и многие его подданные могли убедиться в его доброте».
Все современные историки, изучавшие жизнь и характер Аттилы, отмечают, что он был, прежде всего, дипломатом. Все, что мы уже успели узнать о нем, подтверждает это мнение: скрытность и недоверчивость, но при этом склонность к наблюдению и анализу, проявленные при дворе Гонория, сообразительность при установлении контактов с дунайскими племенами, ловкость и развитый интеллект, коими блистал он во время поездок на Восток и Дальний Восток, а также отношения, которые он поддерживал с Аэцием, и то, как он добился заключения Маргусского договора.
Молодой император, желавший заявить о себе, должен был всегда и везде оставаться дипломатом: в оттенках поведения, в осознании важности внешнего облика, в выборе послов, в торжественности или разгульном веселье приемов, в грубом нажиме или тонкостях заключаемых договоров. Там надо внушать страх, тут проявить мягкость, здесь казаться суровым, а там добродушным жизнелюбом, быть то строгим, то милосердным. Аттила стал выдающимся актером политической игры, обладая врожденным талантом подчинять себе людей.
Наибольшим «творческим успехом» Аттилы можно считать роли Грозного, Безжалостного и Буки, блестяще исполнявшиеся им для императоров, полководцев, армий и народов. Внушать страх было инстинктом гуннского воина. Наслать в подходящий момент орду диких, уродливых, улюлюкающих всадников, готовых резать всех от мала до велика, подвергнуть разорению и опустошению город или край — излюбленная Аттилой показательная экзекуция, позволявшая внушить ужас и принудить к подчинению.
Но даже в этой жестокости имела место дипломатия, более того, сама жестокость всегда или почти всегда была «дипломатическим приемом». Безжалостная расправа над отрядом, городом, селением или казнь нескольких врагов или предателей позволяли избежать серьезной войны или крупных сражений, добиться капитуляции городов и укрепленных лагерей, заключить выгодные соглашения и пресечь новые козни. Какие бы жестокости ни совершались по приказу Аттилы, они диктовались его осмысленной политикой, а не жаждой творить зло, и он прибегал к ним, считая их наиболее практичным — хотя и не самым гуманным — средством достижения цели.
Но при случае Аттила мог сыграть и роль Обольстителя: произвести приятное впечатление, предложить помощь, с возмущением обличить коварство другого, воздать должное храбрости и стойкости героев, падких на похвалу, оказать радушный и щедрый прием, не поскупиться на подарки. Аттиле нравился этот образ. Он так любил его, что часто разрывался между Грозным и Обольстителем, внезапно переходил от одного к другому.
Впрочем, Обольстителя знают меньше, чем Грозного, хотя его роль была велика. К тому же Аттила часто предлагал своим противникам выбрать, с кем из двух персонажей они хотят иметь дело: уступить просьбам милого человека или испытать на себе гнев злодея. Император мог одеваться «под Феодосия» или выбирать более скромный римский стиль, облачаться на монголо-китайский манер в разноцветные шелка и дорогие меха, но он умел также вырядиться пугалом и предстать самым диким из вождей разбойничьих шаек варваров.
Любой правитель опирается на войска. Аттила создал мощную армию, вернее, армии, а еще точнее — орды и легионы. Он умело сочетал дисциплинированность регулярных частей и дикость варваров.
Аммиан Марцеллин оставил краткое, но точное описание диких воинов: они носят куртки и штаны из шкур и кожаные колпаки, «пускают на большие расстояния стрелы с острыми костяными наконечниками, не менее прочными и смертоносными, чем железные», в ближнем бою «в одной руке держат меч, а в другой — сеть, которой спутывают врага, когда он пытается отражать их удары».
Хотя Аттила сохранил эти поражавшие воображение дикие орды, он усилил и унифицировал их снаряжение: кожаный панцирь, железный шлем, стрелы с железными наконечниками (хотя и костяные по-прежнему были в ходу), длинные изогнутые луки, боевой топор или кинжал и весьма часто — ременный аркан. Меченосцы с сетями составляли только небольшую часть когорты и предназначались для ведения боя в пешем строю, которого не любил ни один гунн. К концу своей военной карьеры Аттила по совету Эдекона существенно улучшил снаряжение своих воинов.
Но на заре этой карьеры он приложил также немало сил для создания подразделений, совершенно отличных от варварских орд. Во многом он воспользовался римским опытом. Сначала появился отряд блестящих гвардейцев в разукрашенных железных шлемах, дорогих поясах, с красивыми щитами, копьями и мечами. Эти «преторианцы» сопровождали Аттилу в его поездках в Китай и другие страны и были своего рода парадным войском. Затем появились «экспедиционные корпуса», одетые и вооруженные по римскому образцу и с великим трудом обученные вести бой в строю. В них входили конные части, способные сражаться пешими. Эти элитные части должны были произвести впечатление на римлян и доказать им, что гунны могут добавить к римским легионам собственные, не менее боеспособные. Хотя Аттила всемерно развивал эту практику, не он был ее изобретателем: разве можно допустить, чтобы Стилихон держал при себе отряд телохранителей-гуннов, сформированный из оборванцев?
Проводя реформы в армии и создавая легионы «нового образца», Аттила умело применял обе категории своих воинов. Дикая орда использовалась, главным образом, в тактике Грозного, легионы — в тактике Обольстителя.
Императору в мирное время подобает окружать себя престижа ради роскошью и жить на широкую ногу, и Аттила превратил это в инструмент собственной политики обольщения высоких зарубежных гостей и гуннской знати из различных провинций своей империи.
Приск оставил описание его неизвестно где расположенной столицы: «Очаровательная столица! По правде говоря, это город из шатров и крытых повозок, в центре которого находится деревня, обнесенная частоколом. На небольшом холме в центре деревни стоит королевский дворец, если только можно называть дворцом жилище из дерева. Его окружают терема жен и дома стражников. Интересно взглянуть на здание поближе. Стены сделаны из искусно подогнанных досок, крыша опирается на небольшие деревянные колонны, образуя своего рода галерею, все тщательно отделано и покрыто резьбой, которая, несмотря на варварский рисунок, придает зданию некоторое величие». Приск добавляет, что посольство, в состав которого он входил, размещалось в доме, «расположенном недалеко от дворца Онегеза, одного из главных гуннских вождей». Этот дворец явно произвел на него впечатление: «В этом жилище, построенном, как и прочие, из дерева, имелась баня из камня и мрамора по образцу римских терм (…) с парильней и бассейном». Приск узнал, что баня была построена по проекту греческого архитектора, военнопленного, попавшего в долю добычи своего соплеменника Онегеза, который с ним очень хорошо обращался, но на свободу не отпускал. По другим свидетельствам можно установить, что дворцы Аттилы, королевы-императрицы Керки и королевы или вице-королевы — короче, супруги Онегеза, — были отделаны полированными деревянными панно, украшены рельефными резными картинами, скульптурами и живописью, огромные приемные залы были выстланы дорогими коврами, на которых были расставлены диваны с подушками. Металлическая посуда была дорогой, блюда — восхитительными, а вина — превосходными. Создается впечатление, что особо важные гости приглашались на ужин во дворец Керки или жены Онегеза. Хозяйки почти всегда присутствовали на этих пирах и, по сохранившимся описаниям, были очень красивы, и одевались в самые изысканные шелка, и носили самые дорогие украшения. Многие зарубежные гости утверждали, что роскошь двора Аттилы была ближе восточному типу, нежели римскому.
Тактика обольщения требовала посылки подарков. Провозгласив себя императором, Аттила отправил в дар Аэцию дорогое оружие, а Галле Плацидии — китайские шелка. С подарками связана и пресмешная история, приключившаяся с карликом Церконом, которую поведал Приск, а за ним многократно пересказывали другие авторы.
Церкон был мавром, захваченным римлянами в Африке во время подавления мятежа. Римский полководец Аспар взял себе этого горбатого, кривоногого и курносого карлика и сделал его своим шутом. После смерти Гонория Аспар командовал войсками, верными Галле Плацидии. Именно он взял в плен Иоанна Узурпатора, когда Аэций спешил на защиту последнего во главе гуннского войска. Плацидия и Аэций примирились. Аспар, бывший другом Аэция и, возможно, даже наставником по воинскому искусству, подарил ему своего шута в знак вновь обретенной дружбы.
Аэцию быстро наскучил подарок, который Аспар оторвал от сердца, и однажды он решил подарить шута Аттиле. Того шутки карлика забавляли какое-то время, но быстро приелись, и император гуннов, в свою очередь, подарил его Бледе, который был от шута в полном восторге. Он заказал для Церкона доспехи по росту, таскал его повсюду за собой, обожал его гримасы, дурацкие выходки и замашки героя. Но Церкон беспрестанно требовал новых милостей и, получив однажды отказ, выбрал свободу. Правда, был пойман и возвращен Бледе. Представ перед хозяином, он разрыдался и, утопая в слезах, объяснил свой побег только тем, что его господин отказался его женить. Бледа простил шута и женил его на одной из служанок своей супруги: женщина попала в немилость за кражу. После смерти Бледы Аттила, по-прежнему находивший карлика невыносимым, подарил его… Аэцию, который должен был оценить, что, подарив холостяка, получил обратно солидного женатого человека да еще и с отличными доспехами. Аэций от души посмеялся над шуткой и поблагодарил друга за щедрый дар, после чего вернул мавра Аспару, который был несказанно рад возвращению своего любимца. Как-то раз, находясь с поручением в Константинополе, Эдекон встретил Церкона, который снова был в слезах: его половина нашла способ сбежать от него к гуннам! Эдекон, обрадованный возможностью разыграть веселый фарс, пригласил шута посетить двор Аттилы, где он мог бы встретиться со сбежавшей супругой. Тот действительно на время оставил Аспара и провел несколько недель при дворе Аттилы, который не преминул угостить его шутками римских послов, знавших о приключениях мавра и желавших с ним познакомиться.
У императоров столько забот! Аттила быстро познал все проблемы правителей слишком больших территорий: то мятеж сепаратистов, то нападение внешнего врага. Кроме того, поддержание престижа, желание играть не последнюю роль на международной арене вкупе с необходимостью удовлетворять воинственные инстинкты своих воинов и пополнять казну вынуждали его время от времени поставлять своим союзникам контингента наемников.
С 437 года положение еще больше обостряется: сепаратизм белых гуннов, живших к западу от Волги, набеги аланов и акациров на земли верных белых гуннов Кавказа и Каспия, вторжения славян с обоих берегов Вислы и тевтонов из-за Эльбы и практически в то же самое время настойчивые просьбы Аэция выделить сильный отряд гуннов под начало его командира Литория для борьбы с вестготами Аквитании.
Аттила сумел парировать все удары и сделал даже больше, чем требовалось: увлекшись преследованием врагов, он еще дальше раздвинул границы и без того огромной империи. Экспедиция против вестготов, как уже известно, завершилась неудачей, и уцелевшие наемники были отозваны, чтобы вскоре снова отправиться в поход. Аттила заключил выгодные союзы с племенами на территории нынешней России и теперь сам мог набирать наемников.
Императору стало известно, что неисправимый Феодосий II в нарушение Маргусского договора подстрекает акациров к нападениям на каспийских гуннов. Правда вышла наружу из-за грубой ошибки византийских эмиссаров. Они везли золото и богатые дары для вождей акацирских племен, но, будучи плохо информированными, всё раздали второстепенным лицам и оказались перед главным вождем, старым Куридаком, с пустыми руками. Он оскорбился и донес Аттиле.
Тот решил с них и начать. Во главе сильного войска он легко разгромил акациров, одного за другим предал мучительной казни их вождей, а затем преподал суровый урок каспийским аланам, тогда сравнительно малочисленным. Аттила знал, что если бы послы Феодосия нашли правильный подход к Куридаку, старик ни за что не предупредил бы его, но, несмотря на это, пригласил акацирского вождя к себе разделить плоды победы. Хан забрался со своим племенем в труднодоступные места и ответил Эсле, послу Аттилы: «Я старый человек, мои ослабевшие глаза не могут выдерживать солнечных лучей, так как же смотреть им на сияние самого Солнца? Я останусь здесь, и что бы он ни сделал, все будет во благо». Аттила принял эту отговорку и послал Куридаку серебряный меч, позволив ему и впредь безмятежно править своим племенем. Что же касается других акацирских родов и усмиренных аланских племен, то они отныне подчинялись гуннскому королю, которым становился не кто-нибудь, а старший сын императора гуннов Эллак.
Страна акациров стала королевством в составе империи гуннов. Гордые акациры, родственные гуннам, получили своего короля — родного сына «своего» императора. Политика Аттилы приобрела четкие очертания: верховная власть императора над королевствами со своими правителями, иерархическая структура при полном уважении «национальных», точнее, племенных и региональных особенностей.
Этот имперский план, созревший в уме Аттилы, так и остался проектом, и то, что могло бы стать источником гармонии, породило впоследствии хаос.
Племена белых гуннов, склонные к неповиновению, увидели, каким образом был восстановлен порядок у акациров, поэтому Аттила теперь имел дело исключительно с преданными и покорными вождями и ему не приходилось слишком часто прибегать к крайним мерам. Аттила предусмотрительно расширил полномочия действительно лояльных по отношению к империи вождей и выделил им необходимые воинские контингента для поддержания порядка. Он не поставил над ними короля, хотя и предполагал сделать это в будущем, а просто распорядился, чтобы высокие чины кавказо-каспийского региона империи не только поддерживали постоянные контакты с дунайским двором, но и регулярно сносились с королем Эллаком и по необходимости прибегали к его советам.
Восстановив дисциплину на востоке, Аттила провел несколько экспедиций против враждебных северных народов. Он оставил Бледу в хорошо укрепленном городе на берегу Дуная, который впоследствии получит его имя. Некоторые исследователи полагали, что с течением времени имя города и короля было искажено и превратилось в Буду, но современные венгерские специалисты опровергают эту гипотезу, утверждая, что Буда — средневековая фамилия и что имя без суффикса часто становилось в Венгрии географическим названием.
Бледа, впрочем, не смог обеспечить твердый порядок. Он не только не был способен командовать войсками, но и управлять страной. Во главе армии встали Онегез и Орест, а Скотта и Эсла приняли у них функции центрального управления.
Славяне и тевтоны были повсеместно разбиты, и гуннские войска вышли к Балтике. Весь европейский север между верхним течением Рейна, Эльбой и Скандинавией представлял собой конгломерат колоний и «провинций» империи под управлением императорских наместников. Империя гуннов размерами территории теперь превосходила Римскую империю.
А Бледа тем временем обжирался и пьянствовал, изредка прогуливаясь шатающейся походкой по улицам своего города, который рос и процветал. Когда ему надоедало сидеть дома, он, если был в состоянии забраться на коня, выезжал на охоту. Возвращаясь из своих героических походов, Аттила и его командиры навестили Бледу, а затем отправились в столицу, оставив его в своем городе. Спустя несколько дней он, как всегда пьяный, переоценив собственные силы, отправился на охоту и там случайно погиб.
Тотчас в Риме и Равенне заговорили об убийстве. Утверждали, будто Аттила не мог примириться с тем, что в его отсутствие брат набрал силу, и устранил его. Ходили даже слухи, что Аттила прикончил его собственной рукой.
Римские императоры не считали за грех убивать родных и близких, но осуждали других за подобные поступки. Вероятно, они по-разному смотрели на преступления, совершенные «цивилизованными» людьми и варварами. К тому же эти слухи, переросшие в молву, могли вызвать волнение в окружении Аттилы, среди его союзников, епископов и наиболее «продвинутых» подданных.
В Гуннии, естественно, говорили исключительно о несчастном случае. Бледа удостоился пышных похорон, а к его вдове относились по-прежнему уважительно, и впоследствии она продолжала устраивать официальные приемы.
Несмотря на многочисленность сторонников противоположного мнения, включая Марселя Бриона и Амедея Тьерри, предположение об убийстве не имеет под собой оснований. Законченный кретин Бледа ничем не стеснял брата, он никогда не сумел бы организовать успешный заговор, даже если бы и захотел; Бледу вполне устраивала его праздная жизнь, и он не испытывал ни малейшей радости, когда ему изредка доверяли второстепенные поручения; от него не было ни вреда, ни пользы. Аттила не смещал брата хотя бы потому, что тот и не состоял на службе.
Возможно, императору недоставало религиозного освящения его власти, что обеспечило бы почитание со стороны его подданных и уважение во всем мире. Высшие Силы, в которые он не верил, уладили это дело, призвав на помощь скифов.
Скифы — древний народ со славной историей, гордившиеся тем, что по велению богов вышли из вод Иаксарта — Сырдарьи — и заселили берега Аральского моря. Оттуда они двинулись на запад и, переправившись через Каспийское море, столкнулись с киммерийцами, пришедшими из Крыма и прочно обосновавшимися на Северном Кавказе. Киммерийцы преградили скифам путь на запад.
Тогда предводитель скифов Марак приказал вырыть глубокую яму в степи у слияния Волги и Дона, к юго-западу от Астрахани, и, выхватив свой золотой меч, воткнул его рукояткой в землю на дне ямы, велев своим воинам засыпать ее так, чтобы виднелось только острие. Марак заявил, что выполняет волю богов: ему было знамение, и теперь его меч сам является божеством и символизирует неуязвимость и власть. Ни один скиф не может теперь повернуть вспять, иначе он уклонится от божественного предначертания. Так вперед же!
Скифы вытеснили киммерийцев с Кавказа и взяли в плен их царя, разбили медов, пришедших на помощь киммерийцам, нанеся их царю Киаксару одно из немногих в его жизни поражений, дошли до границ Египта, где царь Псамметих I откупился от них дарами. Позднее в войне с азиатскими скифами погиб Кир, Дарий был разгромлен при попытке вторгнуться в земли европейских скифов, и даже полководцы Александра Македонского потерпели поражение от скифов, захвативших Бактрию — между Амударьей и Гиндукушем — и северо-западную Индию. Только Митридат Великий сумел подчинить себе несколько скифских племен. Заря христианства ознаменовалась закатом скифов. Азиатские скифы смешались со славянами, тогда как их европейские сородичи растворились в массе сарматов, заселивших пространства между Доном и Днестром. Сарматы были покорены гуннами, и их император Аттила не без исторических оснований провозгласил себя преемником скифских царей.
В 439 или 440 году гуннский пастух пас стада в степи, километрах в трехстах от устья Дона. Он заметил, что одна телка хромает: на ее ноге был глубокий порез. Пастух перевязал рану и захотел выяснить, как же покалечилось животное. Он пошел по кровавому следу и увидел кончик меча, торчавший из земли. Пастух откопал золотой меч Марака. Он не мог не узнать его, так как скифский меч прочно вошел в легенды всех степных народов, и даже римляне верили в существование, как они называли его, «меча Марса». Пастух показал находку гуннским старейшинам, и те оказали ему великую честь доставить меч в сопровождении пышного эскорта императору Аттиле.
Аттила был не верующим, но суеверным человеком. Какой знак судьбы! Какое подтверждение его императорского достоинства, его славы и непобедимости! В течение многих недель меч был выставлен на всеобщее обозрение, и тысячи гуннов и союзников приходили полюбоваться на него. Новость быстро распространилась по всему свету, и послы Гуннии немало этому способствовали. Поздравления приходили отовсюду, даже хионг-ну и Китай, даже Равенна и Константинополь не остались безучастны.
На поздравления император гуннов отвечал посольствами и дарами. Эдекон отбыл в Китай, увозя в дар просвещенным китайцам греческие и латинские манускрипты, захваченные у римлян и бургундов. Император Поднебесной империи удостоил Аттилу, Эдекона и всех прочих его приближенных самых почетных знаков отличия, которыми только мог наградить чужеземцев. Онегез выехал в Равенну с резными пластинами слоновой кости для Галлы Плацидии — которой Аттила оказывал особое расположение — и с серебряным шлемом и богато украшенными поясами для Аэция. К византийскому императору также был послан легат, но без подарков. У Аттилы были на то свои причины.
Встречался ли он к тому времени с Гонорией, дочерью Констанция III и Галлы Плацидии? Маловероятно: принцесса родилась в Равенне в 417 году, и нет оснований предположить, что Аттила посещал римский двор в последующие годы.
Прелюбопытное создание эта Гонория, самый своенравный ребенок, какого только можно себе представить; она ненавидела своего брата Валентиниана — будущего императора Валентиниана III — и завидовала ему, совершенно не слушалась матери. Впрочем, она была образованна, любила искусства и исторические книги и при этом отличалась кокетством. Гонория очень рано познала — все предосторожности Плацидии оказались тщетными — разврат. Репутация молодой девушки стала почти несовместимой с порядочным браком. Ей пришлось познакомиться с монастырской кельей в Равенне и жить под строгим надзором при константинопольском дворе, но она бежала — и снова гордо появилась на глаза; Валентиниан III пригрозил было заточением в крепость и изгнанием, но убоялся еще большего скандала.
В двадцать три года она пообещала образумиться, если ее выдадут замуж за иностранного принца. В Равенне мало беспокоились о том, какие осложнения незамедлительно возникли бы в отношениях со двором того иностранного принца. Но ей не ответили, и она не образумилась.
История с «мечом Марса» привела Гонорию в восторг. Она послала к Аттиле гонца, передавшего ему письмо и кольцо. Гонория просила — всего лишь — о том, чтобы Аттила женился на ней и потребовал в качестве приданого половину Западной Римской империи, которая, по ее словам, причиталась ей по наследству от отца — Констанция III. Кольцо же должно было стать символом помолвки.
Аттила отнесся к этой истории с недоверием: что это, злая шутка или ловушка, рассчитанная на его тщеславие? Он отослал гонца без ответа. Тот не сумел повидать принцессу по возвращении: Гонория открылась одной из служанок, и та все пересказала Галле Плацидии. Валентиниан немедленно заточил сестру в самый надежный монастырь Равенны. Тщетная предосторожность! Ей потребовалось всего несколько месяцев, чтобы подготовить побег, успешно его осуществить, бежать и исчезнуть на несколько лет. Но затем она дала знать Равенне и Константинополю, что жива и устроит оглушительный скандал, если ее не примут подобающим образом, как принцессу. Плацидия уступила и уговорила уступить других. Гонория вернулась ко двору Валентиниана III и снова завела любовников. Император закрывал на это глаза, но его ушам все сильнее досаждали смешки и шушуканье придворных и чиновников. Гонория совершила ошибку, ввязавшись в довольно серьезную дворцовую интригу, в которой участвовали официальные лица из числа ее фаворитов. Ее выслали в Константинополь, исключив всякую возможность побега. Но ее история на этом еще далеко не закончилась.
Характер Гонории заинтриговал многих историков и психологов. Одни видели в ней сумасшедшую нимфоманку. Другие жалели несчастного ребенка, рано лишившегося обожаемого отца и угнетаемого сухой эгоистичной матерью и злым и лицемерным братом, которые приговорили Гонорию к незаслуженному одиночеству, за что она пыталась отомстить, впутывая семью в самые грязные скандалы. Было и еще одно предположение. Сверхчувствительная девочка оказалась под впечатлением от потрясений, последовавших за смертью императора Гонория: вынужденная уехать в Константинополь с нелюбимыми матерью и братом, она желала победы Узурпатору Иоанну, а следовательно, гуннам под командованием Аэция, то есть именно тогда зародилась ее симпатия к этому народу. И, наконец, часть исследователей полагала, что эта образованная и впечатлительная дамочка была романтической натурой и влюбилась в гений, славу, пугающе притягательное варварство и всемирную известность Аттилы, а после обнаружения «меча Марса» уже не могла противиться своему желанию быть с ним.
Но как бы то ни было, Аттила, хотя и не ответил на странное предложение, предусмотрительно сохранил и письмо, и кольцо, рассчитывая, что они еще смогут ему когда-нибудь пригодиться. Говорят, что он боялся, как бы принцесса не оказалась дурнушкой, но ведь он без труда мог достать медальон с ее изображением и убедиться в обратном. Говорят также, что ему не нравились бесстыжие женщины, но, зная его любвеобильность, трудно представить, чтобы он отказывался от тех, кто предлагали себя сами. Скорее всего, Аттилу удерживали боязнь ловушки и здравый политический смысл, подсказывавший, что вмешаться сейчас в крупную политическую игру было бы неразумно.
К тому же у Аттилы хватало других забот.
Антиримские восстания в Галлии и Испании были делом частым и обыкновенным. Мятежи связывали с багаудами, но не всегда справедливо: были еще и разбойничьи шайки и отряды дезертиров с собственными командирами. Аттила не раз выручал Аэция войсками и не видел пока причин вызывать неудовольствие императора Западной империи. Но многие багауды обращались к нему за помощью в борьбе против римской деспотии, и Аттила испытывал сильное искушение. Однако дружба с багаудами поссорила бы его с Аэцием, и он решил пока воздержаться.
Зато у него имелись доказательства, что император Восточной империи, в нарушение Маргусского договора, продолжает свою антигуннскую политику, подстрекая каспийских гуннов к мятежу, акациров же — к нападению. Император гуннов не собирался прощать измены. Аттила решил заставить Феодосия II дорого заплатить за свое предательство и в качестве показательного наказания в полной тайне готовил удар по престижу и интересам византийцев. Внезапное нападение должно было произойти непосредственно у Маргуса, где подписывался нарушенный Феодосием договор, но на этот раз уже на «римской» земле, на левом берегу Дуная.
VI
Сладость мести
О, какое дельце провернули!..
На поле возле Маргуса ежегодно проводилась одна из самых крупных международных ярмарок. В те трудные времена она стала для купцов обеих империй, а особенно для византийцев, одним из важнейших источников обогащения. Здесь торговали тканями, предметами искусства, изделиями ремесленников, дорогой посудой и вином. Негоцианты привозили, помимо дорогих украшений, и полный набор побрякушек и стеклянных бус, которые так любили варвары. Целые стада скота, мешки зерна и пряностей переходили из рук в руки. В заключаемых договорах зачастую предусматривались охрана груза в пути и страховые гарантии, которые, в силу жизненной необходимости международной торговли, по большей части признавались везде.
Известность ярмарки была такова, что на нее порой приезжали даже персы, индусы и китайцы, а фессалийцы, лидийцы, македонцы и далматы были здесь постоянными гостями. Римляне привозили товары из Африки и Сицилии. Варвары торговали мехами, кожами, глиняной посудой, коврами, тканями, слоновой костью, резными деревянными украшениями и конечно же отменными кожаными ремнями, которые высоко ценились римлянами и союзными с ними народами. Но самые большие барыши доставались римским купцам, которые продавали втридорога свои товары при минимальных издержках. Охрану обеспечивал византийский император, который собирал многочисленные налоги, получая обратно большую часть золота, выплаченного варварам в качестве жалования или дани.
В 441 году на ярмарку явилась внушительная толпа покупателей-гуннов. Какой приятный сюрприз для купцов! Увы, сюрпризы на этом не закончились. Из-под шуб и плащей гуннов появились кинжалы и мечи. Стражи порядка бежали, толпа не смела оказать сопротивление. Гунны грабили, но больше громили лавки, поджигали все, что могло гореть, захватили лошадей и волов, забрали воз металлической посуды и украшений и, упившись напоследок знаменитым римским вином, убрались восвояси, издавая устрашающие вопли.
О случившемся не замедлили сообщить Феодосию II. Тот послал к Аттиле гонца, чтобы узнать, было ли это нападение совершено разбойниками, которых император гуннов сурово накажет, или же имеет место намеренное нарушение Маргусского договора.
О, сладость мести! Аттила изобразил возмущение, достойное цезаря. Если в Римской империи водятся разбойники, способные на подобную дерзость, то в Империи гуннов таких нет. Все его подданные законопослушны. Разгром ярмарки в Маргусе явился наказанием, безупречно исполненным по его приказу. Это во-первых, а во-вторых, если бы император Восточной Римской империи сам не нарушил Маргусский договор, этой вылазки не было бы, поскольку она — возмездие. И наконец, — последний аргумент был бы лишним, если бы не имел своей целью «оправдать» последующие действия — император гуннов хотел покарать епископа Маргуса (город был резиденцией епископа), поскольку тот осквернил могилы гуннских вождей на берегах Дуная и завладел погребенными вместе с ними дорогим оружием и драгоценностями. Аттиле сообщили, что епископ будет на ярмарке, и он надеялся захватить его там, чтобы заставить вернуть похищенные сокровища, пусть даже под пыткой.
Бедный Феодосий! Снова осложнения, и как раз тогда, когда он не в состоянии собрать необходимое количество войск для борьбы с гуннами, и нет денег, чтобы заплатить наемникам. Византийский император хотел сохранить лицо. Он отреагировал, как подобает юристу, а юристом он был неплохим, возможно, это был его единственный талант. По его распоряжению константинопольская канцелярия направила Аттиле уведомление, что ему надлежит подать жалобу на епископа и потребовать возмещения ущерба в судебном порядке. В конце было сделано добавление, абсолютно верное с юридической точки зрения и полностью соответствующее Кодексу Феодосия, но явно непродуманное в политическом отношении, а именно, что никто не имеет права вершить самосуд, во всяком случае, в цивилизованных странах.
Аттила был в восторге. Ему особенно понравилось оскорбление в конце послания. Он поспешил ответить, что… «законодательство» (!) в империи гуннов значительно отличается от римских законов, поскольку в ней осквернителей могил и воров казнят, как только удостоверятся в их вине, и других процедур не требуется. Он сожалеет, что Кодекс Феодосия составлен столь ущербно, что позволяет хоть на миг подумать, будто чужеземный император станет бить челом римскому суду! Со своей стороны, он требует исполнения… международного права! Это означает экстрадицию епископа Андохия, его передачу в руки «гуннского правосудия», которое не замедлит отправить его на виселицу. В заключение Аттила великодушно заявил, что не будет возражать, если Феодосий призовет к себе епископа и допросит его, прежде чем выдать.
Епископ Маргуса предстал перед императором Востока. Он клялся, что никогда не вскрывал никаких могил и даже не знает, где захоронены вожди гуннов. Если могилы и были вскрыты, то это наверняка дело рук разбойников. В канцелярии ему сообщили, что займутся его делом, и отправили обратно в Маргус. Аттиле был направлен запрос, в котором требовалось сообщить обстоятельства совершения противоправных действий, дать перечень и описание похищенных из могил предметов. Аттила заявил, что больше не станет отвечать на подобные послания, что он требовал выдачи епископа, а не судебного разбирательства, поскольку же епископа ему не выдали, он сам возьмет его.
На этот раз царственный автор Кодекса Феодосия утратил самообладание, ибо Аттила, несомненно, намеревался захватить Маргус. И действительно, все время, пока велась переписка, орды гуннских всадников, разорив по пути римские поселения по берегам Дуная и обратив в бегство малочисленную пограничную стражу, соединились у Маргуса с гуннами, явившимися на ярмарку под видом покупателей, и расположились в своих устроенных на скорую руку лагерях. Началась осада города.
Андохий еще в Константинополе заметил слабость Феодосия и понял, что тот не сумеет очистить от гуннов моравскую равнину. Хотя город был укреплен, а гунны тогда еще не были сильны в осадах, епископ предпочел начать переговоры. Он предложил Аттиле открыть ворота при условии, что город по-прежнему будет резиденцией епископа — естественно, уже в составе империи гуннов, — а сам он останется епископом.
Сделка состоялась. Андохий и его священники вышли в своих лучших одеяниях приветствовать Аттилу в его ближайшем к городу лагере. Вернулись они уже вместе с императором гуннов, его должностными лицами и охраной. Епископ и император обнялись.
Фарс был разыгран. Феодосий в отчаянии молил императора Западной Римской империи Валентиниана III двинуть свои легионы против захватчика. Валентиниан решил посоветоваться со своим главнокомандующим Аэцием. Аэций ответил отказом.
Напрашивается вопрос, на который, возможно, нет ответа: в чьих интересах действовал Аэций, Валентиниана или Аттилы?
В интересах Валентиниана? Император Западной Римской империи едва справлялся с навалившимися проблемами: предстояло отвоевывать Сицилию, эту «житницу» империи, которую захватил вандал Гейзерих, и освобождать римскую Африку от вандалов под предводительством предателя Себастьяна; было совершенно необходимо обновить флот, чтобы изгнать пиратов из Средиземного моря и обеспечить переброску войск в Карфаген; требовалось то и дело подавлять мятежи багаудов, отбрасывать за пределы империи аланов и вестготов. Не время было идти войной на гуннов, возможно, самых сильных среди варваров. В данный момент между гуннами и Западной империей не было разногласий, хотя захват кочевниками равнины вокруг Маргуса облегчал им, как никогда, совершение набегов на западные римские земли. Итак, в интересах Валентиниана III было отказать Феодосию.
В интересах Аттилы? Аттила чувствовал себя уверенно уже по обоим берегам Дуная и ни на секунду не скрывал своего намерения пойти еще дальше в своей мести византийскому императору, но ему была нужна полная свобода действий. Константинополь один не смог бы ему ничего противопоставить, но нападение Западной Римской империи остановило бы его продвижение, принудив к обороне, и положило бы конец его экспансии или на долгое время сделало ее невозможной. Так что отказ Феодосию отвечал и интересам Аттилы.
А может быть… может быть, в глазах Аэция все выглядело гораздо сложнее. Быть может, он хотел услужить обеим сторонам сразу, не считая их интересы несовместимыми и полагая, что не останется внакладе и Феодосий, как нельзя более заинтересованный в том, чтобы море было очищено от пиратов, а на Сицилии и в Африке водворен порядок.
А может быть… может быть, в глазах Аэция все выглядело и гораздо проще. Быть может, он с тайной симпатией наблюдал за победным шествием Аттилы по Восточной империи и полагал, что дела Феодосия плохи, и если он, Аэций, наведет порядок в Средиземноморье, не встретив сопротивления со стороны Аттилы (так зачем же его раздражать?!), то он сможет восстановить единство Римской империи с согласия и при помощи Аттилы, который также сумеет приумножить свои владения.
А может быть… может быть, дело, в конце концов, было и не вполне чисто. Предположение о тайном сговоре «двух друзей» Аэция и Аттилы нельзя сбрасывать со счетов. Впервые оно возникло вскоре после отказа Западной империи прийти на помощь византийцам. Враги Аэция были склонны видеть в нем предателя интересов своего суверена. Они предполагали, что Аэций и Аттила сговорились не идти друг против друга и тем самым подготовить раздел власти или совместное властвование. Заговорщики тайно сносились друг с другом, непрерывно сообщая, что следует предпринять, чему помешать и что задержать.
Но в любом случае Феодосий был бессилен что-либо предпринять, и Аттила с радостью воспользовался этим.
Он начал с Мезии на Балканском полуострове (Босния, Сербия и Болгария), а точнее, с Верхней или Первой Мезии (столица Сардикум, Сердика, ныне — София), перешел через Драву, впадающую в Дунай, и захватил Виминаций, отбросив отряды постоянной стражи. Затем перед ним пала Ратиара, город менее значимый, но с римским гарнизоном, который был перебит. Аттила подошел к воротам Сингидунума (Белграда), гарнизон которого предпочел сдаться и сохранить себе жизнь. И какое везение! Часть солдат — гарнизон состоял сплошь из наемников — перешли на службу к Аттиле и вместе с ним поднялись вверх по Саве, чтобы завладеть югом Второй Паннонии — области, принадлежавшей Восточной Римской империи, на которую Аэций не мог распространить для Роаса «закон гостеприимства». И поскольку панноно-римский гарнизон Сирмия решил сражаться, большой удачей для всех стало то, что осаждающим гуннским войском командовал паннониец Орест! Для осажденных это стало удачей, так как запасы продовольствия были ограничены и они не смогли бы продержаться долго, а за сопротивление гунны не преминули бы расправиться с ними. Осаждавшие же избегали изнурительного стояния под городскими стенами и рискованных штурмов укреплений, в которых не были сильны. Орест, министр и полководец Аттилы, хотя и не слыл мягкосердечным человеком, на сей раз пошел на переговоры и сумел убедить жителей сложить оружие, доказав, что война будет братоубийственной и что Паннония не должна более быть разделена на две части. Несмотря на то что окрестности города были опустошены, сам Сирмий не разграбили. Капитулировавший гарнизон, открывший ворота, чуть ли не был удостоен «воинских почестей». Солдатам предложили на выбор: уйти в Первую Паннонию (находившуюся под властью Западной Римской империи) или вступить в гуннские легионы Второй Паннонии, и к большой радости Ореста и Аттилы практически все предпочли второе. Воины утратили доверие к Восточной Римской империи, которая обрекала их на прозябание в городах, вечно находившихся под угрозой нападения, а перспектива участвовать в походах, достойных их храбрости, была для них особенно привлекательной.
Захват Сирмия стал одним из самых счастливых моментов в жизни Аттилы. Когда-то этот город был столицей всей Паннонии и жемчужиной византийской короны. Благодаря удачному географическому положению, Сирмий являлся важным стратегическим пунктом, значение которого явно недооценили в Восточной Римской империи. Отсюда можно было совершать набеги на Иллирию, Далмацию, Мезию, Македонию и Фракию и угрожать самому Константинополю. Но для Аттилы, опьяненного успехом, это было, прежде всего, свершившейся великой местью, настоящей местью: Дунай, наконец, перейден! Сделано то, что раньше мог позволить себе только Октар, водивший римлянам гуннских наемников, но тот переходил Дунай много выше. А он, Аттила, сумел это здесь и при столь непохожих обстоятельствах! Он пришел не союзником, не федератом! Он явился завоевателем, победителем. Силой и собственной репутацией он добился того, чего не могла сделать дружеская дипломатия Роаса.
Прибыл Эдекон, белый гунн, типичный монголоид. Онегез препоручил ему, своему первому заместителю, войско. И потом четверо приятелей — Аттила, Орест, Онегез и Эдекон устроили в каменном доме в центре Сирмия, принадлежавшем до недавнего времени начальнику гарнизона, одну из самых веселых пирушек в своей жизни. Затем все вернулись к войскам и продолжили поход.
Эдекон должен был завершить завоевание Мезии. Он разрушил Сердику и, пройдя по долине Марицы, обрушился на Фракию и захватил Филиппополь — болгарский Пловдив, — после чего остановился в Аркадиополисе — Текирдаз в современной европейской части Турции, — совсем рядом с Константинополем! Он получил от Аттилы приказ не двигаться с места. Эдекон посчитал, что император гуннов хочет сам первым войти в византийскую столицу, и был полностью с ним согласен.
Находясь на грани отчаяния, Феодосий II поспешил заключить постыдный мир с иранскими Сасанидами, ослабить оборону против вандалов и отозвать с Сицилии направленный туда флот. Императору удалось собрать довольно внушительную армию, значительную часть которой составляли наемники-готы. Во главе войска были поставлены Аспар и главные германские полководцы Ареобинд и Арнегиздон.
В это время Онегез готовил вторжение в Македонию. Римское войско было атаковано сразу и войсками Онегеза с запада, и войсками Эдекона с востока. Эдекон попутно разорил Аркадиополис и его окрестности. Римляне отступали вглубь Фракии в направлении Константинополя. Стыдясь своего бегства, Аспар постарался внушить Феодосию, что отход войск — то самое добро, без которого нет худа, поскольку он позволит усилить оборону столицы.
Оставив Эдекона на занятых позициях, Онегез продолжил движение и вышел к Эгейскому морю у Каллиполиса (Галлиполи) и Сестоса (турецкий Богали), и захватил крепость Афирас, расположенную в непосредственной близости от Константинополя. Он также получил от Аттилы приказ не двигаться с места и также посчитал, что император гуннов хочет сам первым войти в византийскую столицу, и был полностью с ним согласен.
Орест выполнял менее заметное, но не менее важное дело, удерживая власть гуннов на всех завоеванных землях. Аттила старался появляться на всех фронтах своего наступления и, если верить древним авторам, возглавлял одновременно три экспедиции! Он выбрал себе самый впечатляющий и самый короткий путь к славе и почету.
Из Сирмия он выступил во главе самого блестящего, но далеко не самого многочисленного из своих войск. Аттила направился в Мезию, но уклонялся от участия в сражениях, предоставив сделать всю черную работу Эдекону. Затем он двинулся к Сердике, которая только что была разрушена Эдеконом, прошел по долине Маргуса — опять этот Маргус! — и появился у стен Наисса.
Наисс — сегодня сербский Ниш — не был столь важным стратегическим пунктом, как Сирмий, но исторически по своему значению он стоял после Рима, Равенны и Константинополя, а может, и сразу за Римом: это был родной город Константина Великого! Того самого, кто превратил греческий Византий в Константинополь, а Константинополь — в столицу Римской империи!
Аттила взял город и приказал его разрушить. Еще сильнее, чем у Сирмия, он ощутил всю сладость самой настоящей мести!
Казалось, полный триумф обеспечен. Эдекон и Онегез ждали только Аттилу, чтобы по его команде броситься на Константинополь. Аспар со своими римлянами и готами готовился отражать штурм, не питая особых иллюзий. Феодосий со дня на день ждал ультиматума… Но ультиматума все не поступало. И это было всего подозрительней.
Аттила соединился с Эдеконом в Аркадиополисе. Он созвал на совет Ореста, Онегеза, Скотту и Берика. Несметные войска должны были оставаться в виду Константинополя, в полной готовности броситься на штурм по первому приказу, но штурмовать столицу запрещалось. Надо подождать. Но чего ждать? Строились самые разные предположения.
Вот первое: Аэций высказался против. Снова этот «пакт двух друзей»! Аэций попросил Аттилу остановиться, ибо Феодосий выдохся и пойдет на все уступки — Аэций знает это от Аспара, с которым поддерживает связь. За помощью обратятся к нему, Аэцию, и Валентиниан III не станет возражать; ему, Аэцию, поручат переговоры, и тогда появится возможность реализовать заключенный договор о разделе власти…
Второе предположение: Аттила без чьего-либо совета посчитал бесполезным продолжать войну. Призвав Аспара, Феодосий истратил последний заряд энергии. Это ни к чему не привело, и теперь он пойдет на переговоры. Аттила будет суров, поскольку месть должна свершиться в полной мере. Он заставит Феодосия подчиниться и оставит тому его жалкую корону, увеличив свою империю за счет его земель и содрав огромную дань. Нужно его раздавить, заставить мучиться, отречься, не подвергая риску жизни гуннских воинов, которыми можно будет распорядиться лучшим образом.
Третье предположение: Аттила, с позиции сильного, захотел дать себе небольшой отдых. Его войска занимали хорошо укрепленные пункты, контролируя богатые районы, у него был доступ к морю, снабжение войск обеспечено, почему бы не позволить воинам отдохнуть, они это заслужили.
Четвертое предположение: требовалась небольшая передышка, чтобы «переварить» завоевания. Похоже, эту линию проводил Орест. Не следовало повторять ошибки Рима. Ненасытный завоеватель рискует испытать тяжелое похмелье. Продолжение войны не позволило бы гуннам удержать завоеванные земли. Выиграв в одном, можно было проиграть в другом и в конце концов оказаться зажатыми между защитниками столицы и восставшими в тылу, а узнав о борьбе гуннов на два фронта, Аспар осмелеет.
Пятое объяснение не исключает других, но стоит ближе к истине: Аттила был вынужден остановиться, так как столкнулся с большими трудностями на востоке своей империи. Белые гунны восстали против наместников Аттилы в бывшем королевстве Эбарка. Эллак с трудом сдерживал экспансионистские устремления своих акациров. Наконец, и это важнее всего, гуннские и другие племена, лишь номинально признававшие власть империи гуннов, двинулись с востока на запад, чиня по дороге разбой и грабежи. Пресловутые укрепленные пункты не имели достаточно сил, чтобы остановить это передвижение или хотя бы защитить окрестности от разорения.
Невозможно с уверенностью утверждать, какой из этих доводов оказался решающим. По-видимому, все они, или по крайней мере некоторые из них, соединились в уме Аттилы. Достоверно известно лишь то, что Онегез оставил у Константинополя заместителей и вернулся к исполнению своих обязанностей правителя и защитника первого королевства гуннов (созданного Роасом), Орест продолжил заниматься освоением новых территорий и их управлением, пока Эдекон стоял на страже у ворот византийской столицы, а Аттила с Бериком отправились в большую поездку по центральным и восточным районам империи гуннов.
Этот вояж был и замечателен, и ужасен. Предстояло ни больше ни меньше, как обеспечить единство и сплоченность империи от Урала до Каспия и от Волги до Дуная! Вечная проблема гигантских империй…Требовалось воплотить теорию в политическую и экономическую реальность. Основы были заложены самим Аттилой. Но он сознавал хрупкость, если не сказать утопизм, системы. Было совершенно необходимо сплотить все регионы, погасить межплеменные конфликты, установить единую администрацию, по возможности не нарушая местных традиций, ликвидировать очаги сопротивления, но прежде всего — улучшить коммуникации.
Одни народы еще и не подозревали, что удостоились чести войти в состав империи гуннов, другие приняли это известие без всякой радости и не признавали над собой ничьей власти, третьи сделали вид, что смирились, и лишь ждали случая, чтобы восстать. В результате только на немногочисленных больших дорогах движение было безопасно. Даже сообщение между Аттилой и Эллаком вызывало серьезные затруднения.
Приходилось сталкиваться то с незнанием, то с безразличием, то с притворным подчинением, то с яростным сопротивлением и кровавыми восстаниями.
Постоянные проблемы создавали кочевники, не знавшие и не желавшие знать, к какой этнической группе принадлежат и какой власти, соответственно, должны подчиняться. Никто из них не понимал, почему им запрещают грабить оседлых поселенцев под тем предлогом, что они принадлежат к одной с ними империи. Многие не могли также уразуметь, почему их лишили радости сражаться между собой.
И наконец, имелись еще так называемые традиционалисты. Они восставали против унификаторских намерений Аттилы и считали, что никто не смеет им навязывать общие правила. Каждое племя лелеяло свои традиции и особенности, которые были предметом гордости и даже смыслом жизни. Они не желали умерять свои аппетиты и мириться с исконными, унаследованными от предков врагами, подчиняясь навязанным им чужым законам. «Модернизм» Аттилы не пришелся по вкусу многим старым вождям, наиболее осведомленные из которых видели в нем последователя римлян, другие — идеалиста и недоумка.
Аттиле и Берику приходилось выбирать ту или иную политику в зависимости от случая. Здесь им удавалось объяснить свои намерения и уговорить добром, там навязать свою волю по праву сильного. Аттила старался опираться на верных людей, которым поручал поддержание порядка на местах. Лестью и уговорами старых врагов заставляли заключать договоры о дружбе. Но наряду с увещеваниями совершалось настоящее избиение непокорных. Маленькие группы и племена грабителей-кочевников, разбойники, бежавшие из общин, — все эти ненадежные элементы беспощадно вырезались. Империя существует, и у нее есть свои законы, которым надлежит подчиняться.
Там, где сопротивление было особенно сильным, применялась иная тактика. Прежде всего выявлялись идеологи оппозиции, затем подбирались нужные люди, которые в силу убеждений, а чаще амбиций были готовы взять на себя управление краем и осуществлять его в соответствии с решениями императора и правительства. Следовало подготовить местные кадры к выполнению административных функций, оценить их силу и популярность и как можно быстрее увеличить их численность. Враги были представлены двумя типами: тайными сепаратистами-двурушниками, которые из страха приняли новые законы, но брались за старое, как только уезжали инспекторы Аттилы, и старыми вождями, закоснелыми в своем традиционализме и не желавшими ничего понимать.
Если лидеры сепаратистов были еще молоды, то их можно было либо уговорить, либо устранить руками их соперников. Присутствия императорской когорты вполне хватало для того, чтобы обеспечить успех переворота и оказать поддержку ставленникам императора. Регулярные войска вмешивались только тогда, когда без них нельзя было обойтись. Обычно же они, не пачкая рук, присутствовали при повешении побежденных и приветствовали победителей, которым Аттила или его представитель вручал бразды правления краем.
Если же речь шла о старых упрямых вождях, то уговаривать их было бессмысленно, проще было убить, а способов для этого существовало множество. Довольно эффективным методом была расправа со стариками руками молодых амбициозных вождей, обязанных Аттиле своим восхождением. Недурным рецептом считалось и дружеское приглашение на охоту, на которой с гостем приключался несчастный случай, после чего, воздав последние почести усопшему, можно было выбрать или назначить преемником верного человека. Отравление за пиршественным столом также имело свои плюсы, но внезапная смерть вызывала тревогу у присутствующих.
Отдача под суд носила, прежде всего, показательный характер, но этой мерой не следовало злоупотреблять, иначе создалось бы впечатление, что повсюду одни лишь изменники и бестолочи. Но чаще всего вынесение смертного приговора и немедленное приведение его в исполнение лучше всего показывали, что ответственность есть ответственность, а дисциплина есть дисциплина. На упрямых стариков-традиционалистов эта мера всегда оказывала самое благотворное воздействие. Суд и расправа были средством воспитания. Плохо лишь то, что они отнимали время, а Аттила часто спешил. Иногда, когда осужденных было слишком много, он не выдерживал и присоединялся к палачам, чтобы ускорить процесс.
За время объезда центральных и восточных земель в боях или массовых расправах войсками Аттилы и Берика было убито около 40 000 человек, еще 10 000 погибло в междоусобных стычках, спровоцированных Аггилой, умерщвлено 250 вождей и казнено до 3000 простых людей, сохранивших верность мятежным вождям. Большинство казненных вождей были старики, место которых тотчас заняли молодые. Отличный метод омоложения кадров!..
Так было надо, хотя здесь цель не оправдывала средств. Аттиле требовалась поддержка смелых и решительных людей, разделявших его взгляды и безгранично преданных императору, от которого зависела их карьера и благополучие. Они стали инициативными орудиями осуществления всех его проектов.
После этой экспедиции империя гуннов уже не была прежней. Все было подчинено воле императора, центральная власть признавалась во всех провинциях. Империя стала действительно империей.
Аттила и Берик возвращались в сопровождении целого кортежа супруг и невест. Этого требовала дипломатия того времени: по полсотни «браков» с дочерьми или вдовами наиболее важных царьков на каждого и еще столько же «невест». Невесты и часть супруг были затем раздарены отличившимся командирам, весьма польщенным таким знаком внимания. Себе Аттила и Берик оставили только самых красивых и, что важнее, наиболее полезных в политическом отношении.
Передышка! Несмотря на то что войска Эдекона по-прежнему стояли под стенами Константинополя, Феодосий начал надеяться на это…
Какое разочарование! Едва возвратившись, Аттила, которому умиротворение центральных и восточных областей своей империи придало уверенности, продолжил прежнюю политику преследования: месть, месть и еще раз месть!
Онегез наконец получил долгожданный приказ войти в Македонию. Вместе с Эдеконом он внимательно изучил предстоящий театр военных действий. Гуннам противостояли дисциплинированные греческие войска и разношерстные отряды наемников. С учетом этого определялись возможные места столкновения с противником и распределялись силы: тут дикая конница наведет страх на византийский гарнизон, там легион, обученный по римскому образцу, раздавит наемников, здесь греко-римским войскам будет дано сражение по всем правилам римской военной науки, там в бой сразу будут брошены разнородные формирования.
Эдекон уже давно жаловался на низкое качество гуннских баллист и таранов, неспособных разрушать прочные укрепления. В спешном порядке начали строиться катапульты и стенобитные машины. Эдекон потребовал, чтобы его незамедлительно известили о результатах их первого боевого применения.
На все это ушли последние месяцы 445 года. К Феодосию постепенно возвращались его прежние страхи: ему перекрыли северный выход из осажденной столицы. Бедный Феодосий!
Онегез был рад совершить то, о чем думал многие годы. Он молниеносно продвигался по Македонии, легко преодолевая слабое сопротивление византийцев. Двойной натиск дикой конницы и легионов обратил в бегство гарнизонные войска и отряды по поддержанию порядка. Только в нескольких мелких крепостях и укрепленных лагерях отмечались попытки организовать оборону. Онегез не пожелал оставлять их у себя в тылу и методично брал одну крепость за другой, испытывая на деле новые катапульты. Он сжигал крепости и истреблял гарнизоны, убивая греко-римских солдат и принимая в свое войско наемников, которые предпочитали смену хозяев ударам кинжала.
Затем он вторгся в Фессалию, где одну за другой разбил две римские армии. Натолкнувшись с фронта на «современные» легионы гуннов и попав с флангов в клещи дикой конницы, они были разгромлены и почти полностью истреблены. Остатки войск бежали: одни в направлении… Афин(!), другие прошли по западному, а затем по северному побережью Эгейского моря… до Константинополя, где встретились с легионами Аспара! Последние беглецы прошли чуть ли не перед носом Эдекона, что немало позабавило его. Аспару же и Феодосию было не до смеха.
Осенью 447 года Онегез был уже в Фермопилах! К этому времени, по приблизительным данным, его войсками было уничтожено 19 крепостей, лагерей и местечек в Македонии, 9 на юго-западе Фракии и 57 городов и крупных поселений в Фессалии.
Сильный, как Геракл, Аттила торжественно вошел в Аркадиополис, а Онегез проводил парады и показательные учения войск возле крепости Афирас, выставляя напоказ свои великолепные новые катапульты. Призванный в Аркадиополис, Орест занялся установлением контактов с Аспаром, с которым когда-то поддерживал личные связи. Византийскому главнокомандующему передали, что ему следует готовиться к смерти: сколько бы ни потребовалось войск, гунны снимут их с других направлений, сколь бы высока ни оказалась плата, Аттила соберет столько наемников — готов, аланов, вандалов и даже франков, — сколько понадобится, чтобы взять Константинополь. Вся армия гуннов будет драться до конца и не подумает отступить. Министр Аттилы, конечно, знает, сколь велики преданность и отвага знаменитого Аспара, но сознает ли Аспар всю глубину грядущей катастрофы? Даже если великий Аспар одержит победу и выйдет из Константинополя по трупам поверженных гуннов, с ним останется только горстка израненных воинов. Оправдает ли эта слава принесенные жертвы? И стоит ли быть героем при императоре, пусть и уважаемом, но ни во что не ставящем героизм?
А ведь этой драмы можно избежать, и он, Орест, знает, как именно, и может рассказать Аспару. Аттила стремится не столько к расширению своих владений, сколько к утолению жажды мести. Если император Восточной Римской империи сам попросит мира, эта жажда будет утолена. Конечно, придется удовлетворить большинство территориальных притязаний гуцнов и заплатить им немало золота, но как иначе: если византийский император небогат, то и Аттила разорен войнами. Итак?..
Итак, Аспара убедили эти доводы. Он, главнокомандующий, склонялся к отступлению. Он знал, что две мощные греко-римские армии были практически уничтожены в Фессалии. Он знал, что его император ни на что не способен, здорово перетрусил и готовится к самому худшему, не надеясь на спасение.
Аспар направился в императорский дворец и посоветовал Феодосию предложить Аттиле мир. Ответ Феодосия выдал состояние его духа: «Вы полагаете, он согласится?»
И переговоры начались. Начались переговоры? Это громко сказано. Аттила послал Скотту — такого грубияна! — сообщить свои условия мира. Римский император не желал принимать этого коротышку монгола, каким бы высоким ни было его положение при гуннском дворе. Переговоры — разве это переговоры? — велись его спатарием (меченосцем), который одновременно являлся и первым министром — великим евнухом Хрисафием.
Условие первое: первый министр, открывая «переговоры», подтверждает, что «переговоры» проходят по просьбе императора Восточной Римской империи, который молит императора гуннов о мире. Принято.
Второе условие: военная кампания, предпринятая Аттилой, обошлась ему дорого, и он требует компенсации расходов. Контрибуция?! Тут Хрисафий не смог сдержать возмущенного удивления: ведь разорению подверглись земли Восточной империи, а не империи гуннов! Если и был ущерб, то уж никак не у гуннов.
Скотта объяснил, что война повлекла за собой большие расходы и расстроила экономику гуннов. Поскольку же эта «досадная» кампания была вызвана недостойным поведением Феодосия II, который нарушал заключенные договоры и данные обещания, справедливо будет взыскать с него возмещение расходов, понесенных гуннами. Хрисафий вынужден уступить.
Итак, сколько? Шесть тысяч фунтов золота. Многовато! Конечно, а что делать? Ладно, не станем спорить.
Условие третье: не все сбежавшие заложники были выкуплены по цене, оговоренной в Маргусе, — восемь золотых за человека. Теперь придется заплатить уже двенадцать, если только император не предпочтет их выдать. Это хуже всего.
Четвертое условие: ежегодная дань увеличивается до 2100 золотых монет. Много! Да, много, но нужно проявить добрую волю, и если дань будет выплачиваться аккуратно, а обещания выполняться, позднее можно будет этот вопрос полюбовно пересмотреть.
Это всё?
— Да, это всё.
А территориальный вопрос? Об этом после. Императоры, конечно же, захотят встретиться и обсудить эту тему. Пока что ограничимся тем, о чем договорились, ибо не дано знать, что будет завтра. Воистину так.
Феодосий безропотно поставил свою подпись под договором, составленным Хрисафием. И неотесанный коротышка Скотта доставил его Аттиле.
Хрисафий в глубине души отнюдь не был недоволен «переговорами». Он немедленно занялся введением и сбором новых налогов, которые должны были пойти на «возмещение ущерба». Спатарий рассчитывал, что значительная часть собранных средств перекочует в его сундуки. Увы! Спустя два месяца Скотта вернулся уже в ранге официального посла. В этом качестве он был принят императором. Скотта объявил, что Аттила поручил ему следить за сбором налогов, чтобы обеспечить выплату оговоренной суммы. Слабовольный Феодосий согласился, и Скотта с командой своих счетоводов обеспечил строгий учет. Этого вопиющего решения, столь очевидным образом ущемившего его личные интересы, Хрисафий никогда не простит Аттиле — и конечно же Скотте.
Месть Аттилы свершилась. Феодосий был в его власти, а выплата дани обеспечена. Территориальные притязания Аттилы будут удовлетворены в самом скором времени. Надо пользоваться достигнутым и подумать, чего еще можно достичь.
VII
Восточный вопрос
Образ действий Аттилы у стен Константинополя всегда вызывал немало вопросов.
И действительно, даже если перспектива жестокой войны с Аспаром была более чем вероятна, даже если штурм города обещал быть крайне тяжелым, несмотря на успехи Эдекона в деле применения баллист, выплата дани была практически гарантирована.
Наиболее вероятным объяснением поведения Аттилы послужило гипотетическое предостережение, исходившее от Аэция, например: «Осторожно! Остановитесь! Я вынужден буду прийти на помощь Византии, ибо солидарность обеих частей Римской империи требует того, Запад не допустит, чтобы его император и дальше воздерживался от помощи родственному Востоку. Вступите в переговоры с позиций силы — от этого вам ничего не будет, кроме выгоды, и решите территориальный вопрос в свою пользу с тем, чтобы ваша империя в скором времени расширилась и упрочилась».
Эта гипотеза вовсе не кажется невероятной, но тем не менее не дает исчерпывающего объяснения.
По другой версии, Аттилой двигала исключительно жажда мести, и чтобы утолить ее совершенно, незачем было захватывать Восточную империю, которую не смогла бы переварить его собственная империя, равно как и не было нужды в штурме столицы. Достаточно было поставить на колени надменного, тщеславного императора, труса и предателя, и заставить его подписать мир на самых унизительных для него условиях.
И это предположение не лишено оснований, но даже в сочетании с первым оно не объясняет всего. Надо обратиться к самому характеру нашего героя. Это захватчик, да еще какой, но завоевания не были для него единственным смыслом существования. Прежде всего Аттила был дипломатом, искусным обольстителем. Шантажируя византийцев возможностью штурма Константинополя, дипломат Аттила сумел добиться выполнения самых дерзких требований. Зачем проливать кровь, когда и без борьбы можно достигнуть своих целей?
Аттила и не думал осаждать Константинополь, он только создавал видимость приготовлений к штурму, раскрыв свои истинные планы ближайшим советникам. Он уже наметил границы своего государства, и Восточная империя пока оставалась за его пределами. Если и были у него экспансионистские устремления, то мысли свои он держал при себе. Обратил ли он уже тогда свой взор на Запад? Вполне возможно, хотя и нет уверенности в этом.
Тот факт, что Аэций остудил его пыл, свидетельствует об осознании этим патрицием из западного Рима простой истины, что, устранив со своего пути Восточную Империю, Аттила обратит все свои силы против Западной. Однако и этого нельзя утверждать с полной уверенностью: «двое друзей» могли договориться отложить на время вопрос о разделе власти, и Аэций не желал падения Константинополя, так как оно ослабило бы его позиции на будущих переговорах.
Вместе с тем не следует забывать, что Аттила не освободился в полной мере от пережитков кочевого прошлого и оставался грабителем, хищником, жадным до денег и легкой добычи. В нем жило два человека: гордый властный правитель, умелый администратор, основавший собственную империю, и неугомонный кочевник, которого тянуло поиграть с противником и обвести его вокруг пальца, добиться своего и отправиться на поиски новых приключений.
Но тут возникает вопрос, который еще не раз будет всплывать при анализе многих последующих действий Аттилы: а не было ли в его поступках некоторой доли безумия? Был ли он в здравом уме, когда в последний момент по необъяснимым причинам вдруг отказывался от победы, которая уже была почти в его руках?
Характер Аттилы был соткан из противоречий. Его поведение зачастую свидетельствовало о непоследовательности мысли, а внезапные радикальные изменения принятых ранее решений приводили к столь тяжелым последствиям, что не могут объясняться простой переменой настроения, тем более учитывая его тонкий политический склад ума. Во многих случаях единственным объяснением необъяснимого может быть только умственное расстройство. Что же касается отказа от взятия Константинополя, то он был продиктован вполне понятными причинами: Аттила уже добился всего, чего хотел.
Завершился первый акт драмы. Феодосий был вынужден принять Скотту с его командой счетоводов, явившихся за шестью тысячами фунтов золота «на возмещение ущерба». Для скорейшего сбора дани применили метод, предложенный Скоттой: нажали на богатых, многих из которых уплата контрибуции сделала бедными: пришлось продавать поместья, дома, украшения и обстановку. Никогда еще Хрисафий не был ненавидим столь сильно. В знак своей доброй воли Феодосий поступил бесчеловечно, выдав Аттиле несколько бывших римских пленников-беглецов, лишь бы не платить выкупа, и обещал в скором времени передать всех гуннов, перешедших на сторону византийцев.
Теперь Аттила готовился разыграть второй акт: великие переговоры, которые должны были по существу уладить все то, что в его понимании составляло «восточный вопрос».
Феодосий мечтал о передышке. Этот убогий император помышлял вернуться к своим философским трудам, приемам — меню теперь будет поскромнее — и бегам. Домашние проблемы мало располагали к покою. Его жена Афинаида, желавшая принимать активное участие во всех государственных делах, беспрестанно меняла фавориток, охотно уничтожая тех, кто имел несчастие ей разонравиться. И вот, после очередного семейного скандала, в меру понервничавший император получает послание Аттилы: пришло время начать переговоры, и он назначает двух послов первого ранга — Эдекона и Ореста, которые посетят его для подготовки встречи.
Аттила, несомненно, заручился предварительным согласием Аэция. Но в последнее время молчание патриция беспокоило вождя гуннов, и он решил напомнить о себе, согласившись дать убежище на своих землях за Дунаем греку Евдоксию, бежавшему из Галлии, где Аэций назначил вознаграждение за его голову. Он был лекарь, страшно ученый, но малость с придурью; добравшись в своих странствиях до Галлии, он там остался и как мог способствовал подрыву авторитета римлян. Обладая даром оратора, этот авантюрист снискал большую славу среди шаек разбойников, беглых рабов, багаудов и восставших крестьян. Он предложил Аттиле поддержку всех этих отверженных в случае гуннского вторжения за Рейн. Аттила, естественно, ничего не ответил, но принял авантюриста под свое покровительство. Это было своего рода напоминание Аэцию: «Я существую, я незлобив по натуре, но значу достаточно много, чтобы ваши враги предлагали мне, естественно, тщетно, совместные действия против вас».
Феодосию оставалось только согласиться на переговоры и лично принять послов. Их встретил на границе легат Вигилас, предоставленный в их распоряжение. Предварительные переговоры состоялись со спатарием — первым министром Хрисафием. Совместными усилиями определили повестку дня будущей встречи обоих императоров.
В начале 449 года Эдекон и Орест были с чопорной холодностью приняты Феодосием и препровождены Вигиласом в роскошные покои великого евнуха.
Великий евнух Хрисафий был личностью малосимпатичной. Из прожитых им пяти десятков лет тридцать ушли на деланье карьеры. Начав слугой Пульхерии, — проявившей определенный талант правительницы и военачальника во время своего регентства при юном Феодосии II, — он быстро учится, входит в императорский секретариат, участвует в различных успешных заговорах, расчищавших путь наверх, добивается благосклонности императрицы Афинаиды, ворует, сколачивает состояние, непрестанно сообщает императору о реальных и мнимых интригах, завладевает имуществом попавших в опалу, становится министром по налогам и сборам и в этом качестве присваивает часть налоговых поступлений, организует убийство тогдашнего спатария, покупает за бешеную сумму эту должность, присоединяет к почетному, но не денежному званию спатария — носителя императорского меча — пост министра финансов (талантливый был человек!), а затем и «премьер-министра». Он стал единственным и всемогущим ближайшим советником слабого Феодосия. Теперь его ненавидят честная Пульхерия, сенаторы и другие государственные мужи, которых он оттеснил или разорил. Однако, не чувствуя себя в безопасности, он организовал еще немало покушений, дабы самому избежать подобного. К собственному несчастью, Хрисафий возомнил себя гением, обладающим даром превращать всех в свои орудия. Он был убежден, что все люди продаются и покупаются, вопрос только в цене. Кроме того, этот прирожденный интриган и заговорщик, сколь ни парадоксально, не умел держать язык за зубами.
Хрисафий не доверял Оресту, с которым уже успел познакомиться. Он даже позволил себе в разговоре с Феодосием едкую шутку, о которой стало известно Оресту: «Как Аттила осмеливается просить выдачи знатных гуннов, поступивших на вашу службу, когда один из его главных министров сам является римским перебежчиком?»
Но с Эдеконом ему было проще поладить. По крайней мере, так ему казалось. «Скифский» военачальник впервые вкусил радостей римского двора. Попав в византийскую столицу из деревянных «дворцов» и возведенных на скорую руку лагерей, он был потрясен величием, красотой и роскошью императорской резиденции. Он приходил в восторг при виде мраморных портиков, галерей, сверкающих золотом и порфиром, обелисков, скульптур и прочих произведений искусства. Он искренне выражал свое восхищение, отнюдь не считая, как Аттила, побывавший при дворе Гонория, что все это — порочные красоты загнивающего мира.
Хрисафий посчитал, что открылась возможность разыграть блестящую партию, и пригласил Эдекона отужинать наедине с ним. Тот охотно принял приглашение и подвергся великому искушению: «Только пожелайте, и у вас будет такое же состояние, как у меня. Смерть Аттилы принесет вам безграничную признательность моего императора».
Хрисафий не знал, с кем имеет дело. Он обращался не только к преданному другу Аттилы, но и к человеку намного более умному и проницательному, чем он сам. Эдекон тоже умел притворяться, когда считал это полезным.
Приск пишет (и дальнейший ход событий это подтверждает), что Эдекон нашел предложение заманчивым, но рискованным. Если он согласится, то ему потребуется некоторая сумма, не слишком большая, на подкуп воинов — пятьдесят фунтов золота, как утверждает Приск. Хрисафий тут же предложил ему эти деньги. Эдекон рассуждал так: «Нет уж, увольте! Аттила узнает, что при мне сумма денег, которую не спрячешь при возвращении, и заподозрит меня. Как же быть? Включить Вигиласа в состав посольства Восточной империи, уполномоченного завершить переговоры, и доставить с ним требуемую сумму. Так будет лучше».
Тем не менее Эдекон попросил о тайной аудиенции у Феодосия II, дабы тот лично подтвердил задание совершить убийство. Хрисафий не сомневался, что сумеет ее организовать, но попросил время, чтобы все устроить, рассчитывая на гнев императора, который несомненно вызовут новые требования Аттилы.
На следующий день начались подготовительные переговоры. С гуннской стороны — Орест, Эдекон, их помощники и секретари, с римской — Хрисафий, Мартиал — «начальник канцелярии» — и писцы.
Орест изложил требования императора гуннов:
Присоединение к его империи всех завоеванных земель к западу от Дуная и, для простоты, проведение границ на расстоянии пятидневного перехода от западного берега реки.
Присоединение всей Второй Паннонии и юго-восточной части Первой Паннонии с Сирмием.
Долины и равнины Маргуса и Нишавы, крупные дунайские торговые города отходят к империи. Наисс — родной город Константина Великого — становится пограничным городом.
В Афирасе и Аркадиополисе размещаются постоянные гуннские гарнизоны.
Всем римским подданным запрещается возделывать землю на новоприобретенных территориях империи без разрешения гуннских властей; римские торговые люди допускаются на рынки империи также по разрешению гуннских властей.
Немедленное удовлетворение давних требований о выдаче всех гуннских перебежчиков независимо от их количества и положения.
Впредь направлять послами к императору гуннов только высокопоставленных римских граждан.
Мартиал незамедлительно высказал «серьезное опасение», что его господин не сможет принять столь обширные и дерзкие требования. Эдекон с полной уверенностью заявил, что его господин не пойдет ни на какие уступки, однако добавил при этом несколько слов, смягчивших ответ: «Мы здесь не для того, чтобы уладить вопрос. Мы должны лишь сообщить вашему императору намерения нашего. Вам надлежит сообщить о них вашему господину, но мы ждем, что он примет нас и лично скажет, что передать нашему императору. Узнав ответ, наш повелитель решит, продолжить ли ему переговоры или возобновить войну. Если договор возможен, вам достаточно будет сообщить, когда ваши послы смогут прибыть в Сердику, которую наш господин избрал местом встречи. Я не скрою от вас, что он не рассматривает иного соглашения, кроме как на его условиях. Но я полагаю, что в ваших интересах будет направить посольство под началом одного из ваших доблестных и уважаемых государственных мужей. Тем самым вы удовлетворите одно из его наиболее законных требований. Кроме того, вместе с посольством было бы уместно выдать гуннских дезертиров и беглецов. Пока что мы хотим услышать от вашего императора лишь подтверждение желания продолжить поиск мирных путей решения вопроса. Окончательный ответ должны сообщить его послы, но не стоит с этим затягивать. Кроме того, главный посол обязательно должен быть наделен всеми полномочиями и иметь при себе императорскую печать».
Эта речь с продуманным и взвешенным чередованием «ваш император, наш император, ваш господин, наш господин» произвела впечатление. Хрисафий заявил, что немедленно направляется с докладом к Феодосию, и тот, что бы он ни решил, обязательно даст аудиенцию столь славным и почтенным послам императора гуннов.
Хрисафий в глубине души был рад такому обороту дела. Притязания Аттилы должны показаться Феодосию не иначе как чрезмерными и унизительными; Хрисафий убедит его, что эти требования принять невозможно, заверит, что сумеет устранить Аттилу, было бы на то высочайшее соизволение, а уж потом его, Феодосия, дела и престиж пойдут в гору. Лишь бы надменный ответ Феодосия не помешал направить посольство, с которым бы отбыл Вигилас с золотом для Эдекона.
Хрисафий и Мартиал, одобривший этот замысел, имели долгий разговор с Феодосием. Все прошло, как и было задумано: Феодосий признался, что не сможет спать спокойно, пока не избавится от Аттилы; он обещал принять гуннских послов холодно и надменно, особенно Эдекона, но тем не менее согласился отправить к Аттиле своих доверенных людей. Посольство должен был возглавить самый высокопоставленный дипломат империи — почти министр иностранных дел, за что его ненавидел ревнивый к чужой славе Хрисафий — граф Максимин, пользовавшийся заслуженной репутацией высокопорядочного человека. Но именно по причине своей честности Максимин и не должен был знать о заговоре. Он не согласился бы служить дипломатической ширмой для задуманного убийства.
Хрисафия это устраивало, ибо он надеялся, что Максимину все равно не удастся выбраться живым. Вызвали Вигиласа, которого Феодосий благословил на исполнение его тайной преступной миссии и обещал большое вознаграждение. Послали за Максимином, и император просил его быть своим полномочным представителем, дав ему несколько лицемерных советов:
«Я вынужден уступить, по крайней мере, в главном. Только человек ваших достоинств способен смягчить некоторые из требований. Я сомневаюсь в успехе, но попытаться надо. Я постараюсь убедить Ореста и Эдекона, что сумею оказать достойное сопротивление, и заставлю их думать, что я сильнее, чем на самом деле. Возможно, они устрашатся вмешательства Аэция, который пока, впрочем, не хочет им даже пригрозить. Самым главным, из-за чего нуждаюсь в вас, я считаю спасение своей чести. Несмотря на все ужасные уступки, я должен сохранить лицо. Аттиле нравится унижать меня, потому что он ненавидит меня и всячески подчеркивает свое презрение. Я уверен, что он попытается и вас унизить — это его обычная тактика. Но вы не поддавайтесь, и он в конце концов отступится. Я хочу только одного: этот договор должен воистину выглядеть пактом двух полновластных императоров».
Растроганный граф Максимин принял предложение. Он лишь попросил, чтобы его сопровождало несколько важных персон, а на роль атташе выбрал молодого даровитого грека Приска, которого искренне любил и считал способным точно вести дневник событий, секретарем же хотел взять Вигиласа, поскольку тот уже хорошо знал послов Аттилы. Нетрудно догадаться, какую радость испытал Хрисафий, услышав, что Максимин сам попросил включить Вигиласа в свой эскорт!
Вечером того же дня состоялась аудиенция гуннских послов у императора.
Феодосий был воплощенным величием. Орест, видевший его накануне обескураженным и потерянным, был поражен происшедшей переменой. Феодосий ответил на приветствия послов легким кивком и обратился к ним с краткой речью, которую можно достаточно точно восстановить по записям Приска:
«Нам известно о притязаниях правителя гуннов. Наши послы доставят ему мой ответ. Вместе с ними его представители приступят к демаркации границ. Нам известно, что ваш вождь не желает, чтобы римляне в настоящее время находились на занятых им землях; мы также запрещаем гуннам проникать в настоящее время на другие земли нашей империи. Но римляне, уже проживающие в областях, которыми он теперь завладел, включая Маргус и Наисс, пусть остаются там, коли есть на то их желание, пока будущий договор о границах не определит их судьбу. Нами установлено число гуннских перебежчиков на императорских землях. Их семнадцать, и они будут выданы вашему вождю моими послами, когда он их примет. Выбор Сердики как места встречи дерзок и глуп. Этот город был уничтожен по его приказу и не может служить пристанищем нашим послам. Они проведут там только один день и одну ночь. Ваш господин должен направить за ними достойный эскорт и сопроводить их к месту собственной резиденции. Нашим полномочным представителем назначается здесь присутствующий граф Максимин, сопровождать которого будут легаты высокого ранга».
Орест взял слово и, в свою очередь, не без дерзости спросил, есть ли смысл на подобных условиях направлять послов к «моему повелителю, императору гуннов»: он опасается, что император Восточной Римской империи просто тянет время, и хотел бы знать, вправду ли тот желает решить проблему, как и император гуннов.
Заикаясь от бешенства, Феодосий наговорил такого, что его импровизированная речь повергла в ужас Хрисафия, Мартиала и Максимина: «Вы осмеливаетесь говорить мне, что я хочу выиграть время! Вопрос был бы уже давно решен, если бы тот, которого вы величаете своим императором, действительно этого хотел. Его предложения доказывают, что если кто и хочет потянуть время, так это он и никто другой. Я могу доказать вам, что готов положить всему конец, и немедля. Я предлагаю вместо пустых и утомительных пререканий прибегнуть к арбитражу. Мне довольно того, чтобы арбитр был честным человеком. Судите сами о широте моих взглядов и моей снисходительности: я выбираю Онегеза, министра вашего императора, потому что знаю его как человека цивилизованного и порядочного, способного мыслить в международном масштабе и забыть прошлое ради устойчивого и здорового будущего. Пусть ваш господин скажет: «Да», и вопрос решен. Ваш господин может быть уверен, что я поступлю так, как скажет Онегез; пусть лишь поклянется сделать то же. Аудиенция окончена». И Феодосий удалился.
Это было чистое безумие.
Хотел ли он в своем гневе задеть Ореста, этого римского перебежчика, удостоив Онегеза эпитета «цивилизованный»?
Замыслил ли он скомпрометировать Онегеза в глазах его соратников и самого Аттилы? Надеялся ли он действительно выиграть время, пока будет рассматриваться новое предложение? Думал ли он, что такое решение избавит его от всех перипетий переговоров, дипломатических ловушек, продолжения шантажа и… убийства Аттилы? Вероятнее всего, его выходка была не более чем срывом, нервным срывом человека, которого оставили силы, который подавлен бременем обстоятельств и тяготится собственными обязанностями, мечтая, как о чем-то невозможном, о днях, когда он сможет заниматься правом, наслаждаться музыкой и ездить на охоту, отдыхая от Афинаиды.
А не было ли в этой на первый взгляд безумной речи здравого зерна политического реализма? Публично продемонстрировав свое презрение к Эдекону, Феодосий сделал невозможной даже мысль о существовании преступного сговора между ними…
Во всяком случае, вскоре после этого публичного выпада Эдекон, который был гостем Мартиала, тогда как Ореста пригласил к себе Максимин, тайно виделся с Феодосием в присутствии только Хрисафия и Мартиала. Император ограничился следующим напутствием: «Все, что было сказано и обещано вам моим верным и преданным спатарием, является нашим пожеланием и повелением». Эдекон с поклоном вышел и… немедленно направился сообщить обо всем Оресту.
Орест ликовал. Вот теперь-то они попались! Надо только завязать узелок потуже, не допустить промаха и не подать вида кому бы то ни было, особенно Вигиласу и Максимину. Первый думал, что знает все, второй не знал ничего. Надо было только поддерживать уверенность в первом и не проболтаться второму.
Сразу по возвращении из поездки Эдекон и Орест введут Аттилу в курс дела. Эдекон расскажет о всех деталях заговора, главным инструментом которого сам должен был стать. Аттиле станет известно не только о происках Хрисафия, но и о благословении покушения византийским императором. Доказательствами заговора могут стать мешки с золотом, а полного признания у Вигиласа добиться не составит труда, достаточно пообещать сохранить ему жизнь. Честный Максимин будет столь возмущен, что не замедлит поставить императорскую печать на подготовленный договор. А затем можно будет продолжить шантаж, пока не наступит нужный момент, и тогда Константинополь заплатит по счетам. За коварство первого министра и вероломство императора Византии гунны потребуют золота, золота и еще раз золота!
На торжественном прощальном ужине у великого евнуха Вигилас предложил Оресту найти способ сообщить императору о реакции Аттилы и Онегеза на предложение об арбитраже. Орест согласился и даже уточнил, что гонцом будет Эсла.
Орест сделал реверанс в сторону весьма польщенного графа Максимина, пообещав сделать все возможное для решения «восточного вопроса» на благо обеих сторон и по возможности облегчить его миссию, хотя, признался он, едва ли Онегез примет предложение об арбитраже, но Аттила, вероятнее всего, согласится — ведь он так любит решать все миром…
Обращаясь к Хрисафию, Орест заявил, что, несмотря на потрясшую их оскорбительную выходку византийского императора, послы императора гуннов признательны господину спатарию за проявленное понимание и теплый прием и будут весьма рады оказать ему ответный, хотя, конечно, и не столь роскошный, но со всеми подобающими почестями, прием у себя в Гуннии. Хрисафий как великий евнух не мог покидать пределов Восточной Римской империи, но тем не менее он горячо поблагодарил послов за приглашение. Все разошлись с приятной надеждой на скорую встречу.
Послы застали Аттилу в Буде, где он решил провести несколько дней в обществе своих домашних и личной охраны. Состоялось тайное заседание. Аттила был несколько ошеломлен перспективой покушения. Он редко проявлял свои чувства, но тут крепко обнял своих послов.
В ставку затребовали Онегеза, который прибыл через несколько дней. Очередной тайный совет.
Послали за Эслой, который явился немедленно. Ему предстояло тотчас отбыть в Константинополь с вестью, что «король» Онегез весьма польщен предложением византийского императора, но должен отклонить его, добавив, однако, — ибо не было причин отказываться от предложения императора и нужно было любой ценой выманить его посольство, — что обсудит вопрос с графом Максимином, как только удостоится чести встретиться с ним.
Эсла должен был также сообщить в Константинополе, что император гуннов согласен на то, чтобы византийские послы провели в Сердике только один день и одну ночь, после чего почетный эскорт доставит их в императорскую резиденцию. Ставки сделаны.
На следующий день или через день Феодосий II передал Максимину в присутствии Приска, Вигиласа и двух-трех высокопоставленных членов дипломатической миссии текст своего ответа Аттиле.
Феодосий, очевидно, не придавал ему большого значения, так как имел все основания полагать, что у Аттилы не будет времени продолжать дискуссию. Надо было лишь сохранить видимость дипломатического демарша, дабы привести императора гуннов в ярость и заставить его обдумывать ответ в течение нескольких дней, что даст Эдекону время успешно осуществить задуманное предприятие до отъезда византийских послов.
Феодосий составил ответ, ответ юриста, который, не отвергая саму идею договора, ставил его заключение в зависимость от результатов исследований, экспертиз и других подготовительных работ. Насколько известно, он выдвинул следующие «контрпредложения»:
Не упрощенный порядок установления права гуннов на владение захваченными территориями, а определение границ смешанной комиссией, которая вынесет свое заключение, учитывая историческое прошлое, этнические факторы и интересы коренного населения.
Полное согласие в отношении Паннонии.
Нейтральный статус долин и равнин Маргуса и Нишавы, свободный регион под совместным контролем, традиционные рынки сохраняются там, где они есть, поддержание порядка осуществляется совместно римской и гуннской охраной.
Совместная охрана укрепленных пунктов к северу от Константинополя, но, если Гунния считает необходимым подобное требование в ущерб установлению прочного мира между сторонами, в Афирасе может располагаться постоянный гуннский гарнизон.
Создание постоянно действующей комиссии смешанного состава, которая будет единственным официальным органом, регулирующим все вопросы культуры, коммерции и перемещения для римлян и гуннов в приграничных районах.
Согласие с требованием выдать перебежчиков, числом семнадцать человек.
Согласие с требованием к обеим сторонам назначать в посольства лиц высокого ранга.
Возможность передачи предложений гуннов и ответных предложений римлян на суд Онегеза при обоюдном согласии подчиниться его решению и позволить ему проводить необходимые расследования и анализ для установления границ, решения вопросов о нейтральных территориях, путях сообщения и организации органов местного управления и охраны порядка.
Все эти контрпредложения, перечисленные в императорском послании, адресовались лично к Аттиле и были скреплены печатью. Опечатанное послание было торжественно вручено графу Максимину, который во главе своего посольства, охраны и семнадцати схваченных перебежчиков отбыл в Афирас, где его ждал гуннский эскорт, чтобы сопроводить в ставку Аттилы, местонахождение которой было совершенно не известно послам.
О дальнейшем ходе событий мы знаем достаточно хорошо благодаря дневнику Приска, хотя в его рассказе встречаются некоторые противоречия.
В Афирасе римлян встретил отряд довольно диких гуннов. Через тринадцать дней пути они достигли Сердики. Проведя сутки в развалинах домов и палатках, посольство продолжило путь и достигло Наисса, «полного слез и стенаний жалкого населения из стариков и калек». Пересекли равнину, «усеянную мертвыми костями». Питались мясом быков и баранов, доставляемых местными жителями. Римляне жарили мясо, мечтая о более разнообразной пище; гунны «жадно разрывали превосходными зубами кровоточащую плоть». Реки переплывали в «челнах из коры, которыми ловко правят гуннские лодочники, избегая водоворотов и течений». Вот они уже на другом берегу Дуная, и… гунны исчезли!
Встали лагерем в поле. «Гуннский вождь по имени Скотга, который, по всей видимости, пользуется большим доверием Аттилы, вошел в наш лагерь в сопровождении многочисленной свиты из высокопоставленных лиц, среди которых мы узнали Эдекона и Ореста. С невероятной беспардонностью Скотта потребовал назвать ему цель нашего посольства. Максимин с достоинством ответил, что должен передать послание лично Аттиле. (…) Скотта разразился хохотом и заявил нам, что прекрасно знает, о чем говорится в письме, и в доказательство пересказал его слово в слово».
Факт шпионажа и разглашение государственной тайны заставили Максимина побледнеть. Сильны гунны!
А Скотта «добавил, что если нам больше нечего сказать, мы можем возвратиться восвояси».
Максимин запомнил, как в минуту просветления Феодосий предупреждал его, что следует ожидать любых оскорблений, но не поддаваться на провокации, а выполнять задачу до конца. Не сказав Скотте в ответ ни слова, он отдал приказ собираться в обратный путь.
Скотта остановил его и распорядился ввести живого быка и втащить корзины с рыбой. Он попросил Максимина отложить отъезд до утра. Максимин сумел изобразить колебание, дабы заставить свое окружение упрашивать его: «Максимин колебался, — пишет Приск, — но мы убедили его согласиться на эту передышку и заснули после отменного ужина».
«Я хорошо выспался, — продолжает Приск, — но мне приснилось, что я должен не доверять Вигиласу». А кто еще мог раскрыть государственную тайну? И почему накануне Вигилас так усердствовал, чтобы, несмотря на оскорбительное поведение Скотты, римская делегация не повернула назад? Вот почему ранним утром Приск переговорил с одним галлом, Рустиком, который прибыл в Гуннию завязать торговлю с кочевниками и, не являясь членом посольства, был допущен сопровождать его. Он говорил на языке гуннов не хуже, чем на латыни, и хвалился, что много раз запросто разговаривал со Скоггой: «Если хотите, чтобы Аттила вас принял, нет ничего проще: пойдемте со мной в лагерь Скотты с дружескими дарами и попросите его замолвить словечко у Аттилы, чтобы он принял ваше посольство, не заставляя больше ждать».
Приск поспешил согласиться на предложение и был принят этим грубым маленьким монголоидом, который растянул в улыбке свой широкий рот на лице-блине и сказал, что римлянин поступил правильно. Приск едва успел уведомить Максимина о своей инициативе, как Скотта прискакал лично сообщить послу, что император гуннов его ждет.
Римская делегация пересекла «лагерь Скотты» и остановилась перед просторным шатром, «столь плотно оцепленным воинами, что мы с трудом нашли вход».
Аттила, выбритый, точно римлянин (!), и в простой белой одежде, сидел на деревянной скамье «в окружении министров и прочих сановников». Советники вождя были «одеты в тонкие разноцветные ткани самого лучшего качества, расшитые птицами и цветами и, несомненно, добытые воровским способом у китайцев и персов».
Достойно сожаления, что Приск невольно отходит от беспристрастного описания увиденного. Нет никаких причин называть ткани «добытыми воровским способом». Эрудированный грек, видимо, не знал, что помимо добычи, взятой в походах против персов, гуннским вождям доставались дары, преподносимые хионг-ну и самими китайцами, и что торговый обмен с Дальним Востоком был налажен неплохо, и китайские купцы добирались даже до крупных дунайских рынков, не исключая Маргуса. Ему не было известно, что на востоке Гуннии процветало шелководство. Привыкнув к посещениям императорских дворов в Константинополе и Равенне, он, несмотря на развитый интеллект, не мог преодолеть в себе некоторого презрения к варварам: привычка к мрамору мешала оценить полированное дерево, постройки «без гвоздей» и искусную резьбу. По его мнению, импорт был уделом «цивилизованных», а «варвары» могли только красть. Сегодня его заклеймили бы «расистом» и «колониалистом», и хотя за время пребывания в Гуннии его отношение к варварам несколько изменилось, налет превосходства так до конца и не исчез.
Максимин передал Атгиле послание Феодосия с пожеланиями доброго здравия императору гуннов. К общему удивлению, Аттила сухо ответил: «Желаю римлянам того же, чего они желают мне!» И указывал пальцем на дрожащего Вигиласа: «Безмозглая скотина! Как смел ты предстать передо мной? Разве не знал ты, что ни один римский посланник не должен быть принят, пока не выданы гуннские дезертиры?» Вигилас запротестовал: дезертиры здесь, все семнадцать человек! Аттила приказал писцу зачитать «статистические данные» гуннов по перебежчикам: их число доходило до трехсот! Максимин попросил слова. Аттила остановил его, чтобы обрадовать Вигиласа: если бы не дипломатическая неприкосновенность, он приказал бы распять его. Вигиласу предписывается отбыть в Константинополь в сопровождении Эслы (дабы он неотступно надзирал за ним) и сильной охраны, чтобы привести всех перебежчиков. Максимин снова попытался вставить слово, но Аттила не дал ему этого сделать. Верный выбранной дипломатической стратегии, Максимин направился к выходу из шатра, дав знак сопровождающим следовать за ним. Аттила тут же приподнялся: «Господин посол, это вопрос принципа. Вы должны понять, что я не могу допустить, чтобы гунн находился на службе и содержании иностранной державы, которой, впрочем, даже не может быть полезен. Этому человеку было поручено выполнить пункт заключенного соглашения, и я даю ему возможность исправить его ошибку. Вы не можете не признать это справедливым. Я прошу вас и ваших спутников остаться и сопровождать меня в мою столицу, куда я намерен в скором времени отправиться и где я вручу вам мой ответ вашему императору, поскольку я хочу ответить ему, выслушав прежде необходимые суждения и дав вам время передать Онегезу его пожелание».
Максимин тотчас разрешил Вигиласу отбыть вместе с Эслой, приветствовал императора гуннов, преподнес ему дары, отвесил поклон, когда Аттила поблагодарил, и направился в отведенный ему шатер, отделанный дорогими мехами.
Несколько дней спустя Аттила пригласил римское посольство сопровождать его в столицу. В поход выступило все войско. Еще через несколько дней Скотта лично известил Максимина, что его посольство продолжит путь самостоятельно, так как Аттила сделал остановку, чтобы сыграть свадьбу с дочерью «скифского короля» Эскама, который является одним из его советников. Ни один чужеземец не может присутствовать на церемонии. Дорогу послам будут показывать проводники. «Новобрачный, — с иронией отметил Приск, — уже имел более двухсот жен».
Далее посольство проделало тяжелый переход по болотистым топким низинам, потеряв палатки, сброшенные в реку ураганом, и достигло наконец какой-то деревни. Там византийцев радушно приняла одна из вдов Бледы: «Нас ждали пища и несколько женщин для любовных утех: такой прием считается гуннами большой честью. Мы утолили голод, а женщин отпустили, поскольку чувствовали себя совершенно разбитыми и валились с ног от усталости». Послы отблагодарили «королеву» за гостеприимство: «Мы подарили ей три серебряных кубка, меха, окрашенные пурпуром, некоторое количество индийского перца и фиников — вещи, почитаемые варварами тем больше, чем меньше они им известны».
Снова в путь. По дороге им встречается караван и — о чудо! — «мы услышали латинскую речь без этого варварского акцента, от которого здешние обитатели не избавляются никогда, как бы долго они ни прожили в Риме!» К своему великому удивлению византийцы натолкнулись на посольство, направленное к Аттиле императором Западной Римской империи Валентинианом III, чтобы попытаться урегулировать некий серьезный инцидент. Это посольство возглавлял один из наиболее высокопоставленных западных царедворцев — граф Ромул, не кто иной, как тесть Ореста, помощником которого был благородный римлянин Татул — не кто иной, как родной отец Ореста! В составе делегации находились также два императорских сановника, Промоций и Романий, и панноно-римский чиновник Констант, которого Аэций направил Аттиле в качестве советника-секретаря и в некотором роде почетного заложника, а также писец-галл, которого он ему подарил.
Оба посольства продолжили путь уже вместе. Вскоре они достигли места, которое Приск назвал «приятной столицей», «столицей» из деревянных теремов и домов, шатров и кибиток. Здесь также находились и бани Онегеза. Действительно ли это была главная столица Аттилы? Это мог быть Этцельбург из «Песни о нибелунгах», название которого означает «Крепость Аттилы» или «Аттилаград». Располагался он, по всей вероятности, на месте Ташбенери или где-то в центре обширной равнины к востоку от Тисы. Как уже говорилось, нет никаких достоверных указаний на местонахождение города, где предстояло свершиться важному историческому событию. Возможно, когда-нибудь обнаружатся следы бань Онегеза, но пока все исследования и поиски остаются тщетными.
Резиденция римских послов находилась, должно быть, неподалеку от дворца Онегеза, который устроил им прием. Максимин сообщил ему о желании Феодосия избрать его судьей в споре двух императоров. Несомненно, это была встреча наедине, и Приск не мог слышать ни слова. Читая его записки, можно подумать, будто Максимин повел себя так неловко, что Онегез воспринял предложение как попытку склонить его к измене. Приск пишет, что Онегез сухо отказался и добавил, что «он стал гунном, его жены и дети остаются гуннами, и самые большие почести никогда не заставят его поступиться интересами его господина, который питал к нему доверие». Хотя Онегез был неточен (у него имелась всего одна жена — правда, могли быть и наложницы), Максимин прекрасно знал о непоколебимой честности собеседника, исключавшей возможность его подкупа.
«Эти слова, — пишет Приск, — нас несколько разочаровали, поскольку мы надеялись, что грек станет на нашу сторону». И добавляет: «Быть может, Онегез боялся навлечь на себя подозрения, проявив к нам симпатию?.. Все это странно, ибо что может нравиться у варваров человеку, не принадлежащему к их народу? Разве не было бы ему лучше при дворе в Константинополе?»
Разница в мышлении грека Приска, дипломата при византийском дворе, и грека Онегеза, соблазненного перспективами деятельности, которые ему сулило доверие императора варваров, несомненна. Приск так и не сумел до конца понять мир гуннов, в который случайно закинула его судьба. Он сохранял некоторую наивность, мало совместимую с его дипломатической миссией. Именно поэтому он обрадовался, что его приятель галл Рустик был «придан секретариату правительства гуннов». Он был рад, поскольку тот «служил переводчиком у Ореста» и «мог теперь, как я полагал, предоставить полезные сведения». Приск не знал, во-первых, что этот «галльский негоциант» уже долгое время находится на службе у гуннов, — именно поэтому он и устроил встречу со Скоттой и организовал встречу Максимина с Аттилой, — а во-вторых, что Орест говорит на латыни не хуже его.
На самом деле Максимин отлично понял отказ Онегеза — который в действительности был подтверждением, — так как сам на его месте поступил бы так же.
Итак, главное предложение Феодосия II было отклонено, и не было смысла обращаться с ним к Аггиле. «Восточный вопрос» по-прежнему был далек от своего решения.
VIII
Время великих событий
«Молодожен» Аттила возвращается в свою столицу. Девушки в белых тонких одеждах несут балдахин, под которым по семь в ряд шествуют другие юные девицы, исполняя праздничные песни. Они приветствуют повелителя и возглавляют его кортеж. Все жители «столицы» встречают радостными криками своего господина. Новую «королеву», вторую по рангу после «королевы-императрицы» Керки, также встречает шумное приветствие толпы. Кортеж молодых девушек сопровождает ее в красивое деревянное сооружение, которое станет ее резиденцией. Воины расходятся по домам; только почетный эскорт, естественно, верхом, сопровождает правителя во дворец.
Но по пути процессия останавливается у дворца Онегеза, еще не завершившего свою поездку. «Королева-супруга» последнего с поклоном встречает на пороге своего жилища Императора и просит его соблаговолить отобедать у нее. Аттила соглашается, но с коня не сходит. Дюжие воины поднимают к нему серебряный стол с яствами и наполненными кубками. Он ест, пьет, благодарит, прощается и уезжает. Кортеж теперь возглавляют музыканты. Аттила прибывает во дворец и, сославшись на усталость, просит, чтобы его не беспокоили.
Римские легаты, присутствовавшие на этой пышной диковинной церемонии, возвращаются в свои пристанища, где их уже ждут гонцы: в отсутствие Онегеза его королева-супруга приглашает господ посланников на великолепный ужин, на котором будут «все великие мужи государства».
Два дня спустя римские послы получили уже от самого Аттилы приглашение на пир в собственном дворце. Приск написал об этом событии:
«Стол был накрыт в длинном зале, украшенном резными колоннами. Аттила восседал на скамье, установленной на возвышении и покрытой шкурами и пестрыми коврами. К нашему приезду гунны уже сидели за столами. При входе нам предложили осушить за здоровье императора кубок с вином (…). Мы заняли наши места за королевским столом. Максимин заметил, что Берик, простой гуннский вождь, сидит выше его, но все пропустили его слова мимо ушей (…). Зато до трапезы Аттила поприветствовал всех именитых гостей в порядке старшинства и осушил за здоровье каждого из них кубок вина. Чествуемый гость отвечал, выпивая чару в свою очередь. Подали гигантские блюда с дичью и олениной. Посуда была из золота и серебра, и только на столе Аттилы стояла деревянная миска с мясом и деревянный кубок с вином. Каждый гость ел вдосталь из блюда, поставленного перед ним. Обычай запрещал прикасаться к угощенью, стоявшему дальше на столе. По этой причине мне не удалось отведать восхитительного рагу, которого мне так хотелось (…). Когда гости насытились, два аэда воспели подвиги гуннов давних времен и победы Аттилы.
Аттила был серьезен и не проронил ни слова. Рядом почтительно замер его старший сын Эллак, от уважения не смевший поднять глаз во весь вечер (…). Певцы вышли, и престарелый воин внес на руках младенца — Эрнака, младшего из сыновей Аттилы, который был встречен радостными криками. Каждый гость счел своим долгом приласкать малыша. Затем воин положил его подле отца. Тогда я заметил, как улыбка озарила это суровое, холодное лицо. Аттила потрепал ребенка по щечке и прижал к груди. Заметив мое удивление, сосед шепнул мне, что по предсказанию только это дитя продолжит королевский род. Нежность и гордость отца стали теперь вполне объяснимы. Затем появились шуты (…); оживление переросло в бурное веселье, когда Мавр Церкон начал откалывать свои номера. (…) Изрядно выпив, я воспользовался начавшейся суматохой, чтобы незаметно ускользнуть».
Праздновали почти каждый день и нередко во дворце Керки. Однажды вечером Аттила сказал Максимину, что желает поговорить. Наконец-то!.. Однако речь на сей раз зашла лишь о том, что Феодосий обещал пышную свадьбу Констанцию, ныне его советнику-секретарю, и не сдержал слова. Максимин пребывает в недоумении, и Аттила объясняет ему, что до возвращения Вигиласа и дезертиров-гуннов никакого ответа императору не будет, и разрешает посольству отбыть назад в Константинополь. Максимин замечает, что по отношению к нему это, по меньшей мере, невежливо. На следующее утро Аттила направляет дары всем членам посольства и сообщает, что в отсутствие Вигиласа в Константинополь их сопроводит его министр Берик, который передаст лично императору и никому другому ответ повелителя гуннов.
Пришло время отъезда. «Мы с сожалением расставались с пирами Аттилы. Мы уже привыкли к жареному мясу и кумысу. Впереди же предстоял долгий и унылый путь (…). По обочинам дороги встречались тела казненных — распятых, повешенных или посаженных на кол. Берик сказал, что это предатели, шпионы и дезертиры. Одного несчастного при нас удавили на столбе. Гунн объяснил, что эти суровые меры обеспечивают безопасность его господина (…). На самой границе волею случая мы встретились с Вигиласом, который возвращался к Аттиле и с улыбкой, полной скрытого смысла, сообщил, что имеет весьма важное поручение. (…) Через несколько дней мы будем уже в Константинополе…».
Кто знает? Может быть, восточный вопрос найдет свое решение… Но все не так просто. Приближается время великих событий, и восточный вопрос так и останется открытым.
Прежде чем покинуть Аттилу, который так резко с ним обошелся, Вигилас, «уполномоченный» Максимином отбыть в Константинополь и сообщить о претензиях императора гуннов относительно перебежчиков, имел весьма обнадеживающую беседу с Эдеконом. Приподнятое настроение, в котором его застали на границе Максимин и Приск, объяснялось тем, что недавно у него состоялся самый отрадный, какой только мог быть, разговор с Хрисафием.
Он изложил Великому Евнуху свои соображения. Аттила, хотя и обидел его при людях, ничего не заподозрил о заговоре, иначе не доверил бы ему, Вигиласу, это поручение, к слову сказать, нелепое. Подавай ему еще четырех дезертиров, обнаруженных вдобавок к прежним! Но его гнева можно не бояться, ведь Аттила будет убит, как только Вигилас возвратится.
«Но почему его не убили до сих пор?» — беспокоился Хрисафий. Все очень просто: охрана оказалась жаднее, чем думали, и Эдекону не хватило денег. Ему нужно раза в два больше золота, так что придется добавить еще пятьдесят фунтов. Хрисафий согласен: голова Аттилы за такие деньги — все равно что даром. Он тут же отсчитал золотые, щедро выдал семерых дезертиров, чтобы соблюсти формальности, и отдал все необходимые распоряжения об организации эстафет, желая как можно быстрее узнать об успехе покушения. Хрисафий заверил своего эмиссара, что его будущее обеспечено и что он может обещать Эдекону все, что тот пожелает. Гордый и счастливый, Вигилас отправляется в обратный путь в сопровождении охраны и пленников. Он даже берет с собой двадцатилетнего сына Профимия, чтобы тот мог присутствовать при его триумфе.
Подгоняя коней, они прибывают в столицу гуннов, где их встречает Эсла. Профимия помещают в небольшой шатер под неусыпной охраной. Эскорт разоружают и конвоируют в загон в окружении воинов самого разбойничьего вида. Вигиласа связывают и бросают в подземелье.
Эсла обыскал в отсутствие Вигиласа сундук в прежней резиденции византийского посольства и обнаружил кошель с пятьюдесятью золотыми. Теперь со спокойной душой он копается уже в седельной суме пленника, находит еще пятьдесят монет, увязывает кошель и суму и забирает все с собой.
На следующее утро Вигиласа освобождают от веревок и волокут из подземелья пред очи Аттилы. Императора гуннов окружают Эдекон, Орест и другие советники и министры. На скамье меж двух стражей сидит Профимий. Хотя до нас не дошло прямых свидетельств, по косвенным данным можно воссоздать диалог, состоявшийся между Аттилой и его пленником:
— Как могло случиться, что ты позволил бросить себя в темницу, не потребовав прежде поговорить со мной, чтобы рассказать, как ты выполнил данное тебе поручение?
— Я не знаю. Я не мог говорить.
— Почему с тобой было столько золота?
— Пятьдесят золотых — невелико богатство, мне их передали для вас.
— Кто и с какой целью?
— Хрисафий, это выкуп за бежавших римлян.
— А другие пятьдесят? Принесите их. Перед тобой, как видишь, две сумы.
— Другая сума хранилась здесь уже давно. Я хотел купить коней.
— Разве тебе не известно, что я запретил членам римских посольств приобретать что бы то ни было в моей Империи?
— Известно. Потому и золотые оставались здесь, не потраченные.
— А не собирался ли ты вместо коней купить пособников?
— Это ложь, клевета, наветы Эдекона!
— А почему Эдекона?
— Потому что этот человек — предатель. Он хотел меня подкупить.
— Ты и так слишком богат, чтобы тебя подкупать! Кто поручил тебе подговорить Эдекона убить меня?
— Никто!
— Не хочешь сказать? Не надо. Твой сын скажет.
Аттила обращается к Профимию, который на каждый вопрос вполне искренне отвечает: «Я ничего не знаю».
— Раз он ничего не знает, нет проку от его присутствия здесь, я просто прикажу его казнить.
— Клянусь, ему ничего неизвестно. Я один все задумал. У меня не было сообщников. Я один готовил заговор, один, один, один!
— Ты слишком глуп для этого!
По знаку Аттилы Профимия поставили на колени и занесли меч над его головой.
— Последний раз спрашиваю, ты, жалкое орудие неудавшегося преступления, кто тебя подучил?
— Хрисафий! — закричал Вигилас и потерял сознание.
— Я давно знал это, — сказал Аттила.
Вигилас очнулся в том же подземелье. Перед ним стоял Эсла.
— Что теперь со мной сделают?
— Ничего.
— А с моим сыном?
— С этого вечера от его палатки убрали охрану. Завтра он направится в Константинополь вместе с Орестом, назначенным послом к Феодосию.
— Я останусь в этой темнице?
— Завтра ты переберешься в палатку сына, но за тобой будут постоянно следить.
— А затем?
— Тебя выпустят за символический выкуп, который заплатит Феодосий.
— Он не заплатит.
— Выкуп будет столь символическим, что заплатит. А ты объяснишься с ним.
— Это значит, что я сменю твою темницу на другую.
— Мне нет до этого никакого дела.
Хрисафию доложили о прибытии гуннского посольства. Он торопится к воротам Константинополя, чтобы встретить гостей. Наконец-то!
Это Орест и с ним сын Вигиласа. Что бы это значило? Не отвечая на приветствие, Орест сразу направляется к императорскому дворцу. В замешательстве Хрисафий следует за ним. У входа во дворец он спрашивает Ореста:
— Что вам угодно?
— Видеть императора незамедлительно.
— Он предупрежден и ждет вас.
Окруженный сановниками Феодосий и вправду ждал, предвкушая приятные вести. Орест передал послание Аттилы: «Твой спатарий — убийца. Отдай мне его голову, если не хочешь, чтобы я обезглавил его своей рукой». Увы, Феодосий прочитал послание вслух. У Хрисафия подкосились ноги. Император овладел собой:
— Ты получишь ответ завтра.
— Я получу его через час.
И Орест покидает дворец. Возвращается через час. Феодосий протягивает ему договор, скрепленный императорской печатью, договор, признающий все условия, изначально поставленные Аттилой. Восточный вопрос решен!.. Не читая, Орест засовывает свиток в рукав.
— Чего ты ждешь?
— Я пришел не за договором, а за головой твоего евнуха.
— Но это невозможно! Скажи своему господину, что я отдам ему больше земель, чем он требует, больше женщин, чем он мог бы возжелать, я подарю ему дворец в моей столице!
— Я пришел не за землей, не за женщинами, не за дворцом, а за головой твоего министра.
— Приходи завтра.
— Я согласен ждать еще час, но это все, что я могу сделать.
Галла Плацидия, утратившая былую власть над Валентинианом III и тяжело больная, гостила при дворе своего племянника Феодосия. Именно к ней обращаются за советом. Она отвечает, что ничего в этом не смыслит, может, спросить совета у Аэция? Совета у Аэция? За час? Бедная женщина решительно не годится более ни на что…
Хрисафий разыгрывает последнюю карту:
— Если меня уберете, разразится мятеж!
— Знаю. Тебя никто не тронет.
Возвращается Орест:
— Император, каков твой ответ?
— Я не казню и не выдам Хрисафия.
— Я доложу моему господину. Ты знаешь, что он сделает. У меня для тебя подарок — сума с золотом Вигиласа.
— Что с ним сделают?
— Заплати выкуп, и его вернут тебе.
— Сколько?
— Один золотой, большего он не стоит. Но заплати мне.
— Почему?
— Я покажу его Вигиласу, чтобы он знал себе цену.
Забрав золотой, полученный от приведенного в замешательство императора, Орест возвращается к Аттиле.
Вигиласа под конвоем доставили в Константинополь. Он вручил Феодосию послание Аттилы, дословно повторявшее первое: «Твой спатарий — убийца. Отдай мне его голову, если не хочешь, чтобы я обезглавил его своей рукой». Вигиласа обвинили в сознательном провале покушения и бросили в тюрьму. Профимий обрел свободу, и больше о нем не было слышно.
Аттила встретил Ореста с распростертыми объятиями:
— Надеюсь, этот полудурок не казнил своего евнуха?
— Конечно нет, а почему «надеюсь»?
— Да потому, что теперь у нас есть предлог начать войну в любой удобный для нас момент.
Да, Аттила был великим дипломатом. С самого начала зная о готовящемся заговоре, он сохраняет полную невозмутимость и организует тотальную слежку. Удостоверившись, что пятьдесят золотых доставлены и он может завладеть ими по первому желанию, он удваивает сумму — удваивает плату за собственное убийство!
Находчивость и смелость Эдекона доказывают, что Аттила умел подбирать людей, знал, кому доверять, и мог всегда рассчитывать на преданность своих ближайших сподвижников. Разве не удивительно, что на протяжении всего нашего повествования нам постоянно встречаются на самых высоких постах, гражданских и военных, одни и те же лица: Онегез, Эдекон, Орест, Скотта, Эсла, Берик?..
Его здравый смысл и чутье могут сравниться с его хладнокровием. Хотя Аттила приказал шпионить за римскими легатами так, что они ничего не заподозрили, он понял, что Максимин вполне лоялен, а Приск неспособен участвовать в тайном заговоре. Поэтому он всегда был обходителен с ними и даже постарался, чтобы их репутация осталась безупречной, что бы ни случилось. Оскорбительное обращение, о котором упоминал Максимин, должно было лишь заставить последнего отправить Вигиласа одного навстречу судьбе. Это отношение, на самом деле защищающее легата, сохранится до самого конца. Сопровождая императорских послов в Константинополь, Берик в начале пути держал себя вызывающе, если не сказать грубо, создавая инциденты, требовавшие разбирательств и замедлявшие темп движения. Затем он смягчился, требовал, чтобы местные власти непременно оказывали почести послам, заверяя, что это приказ его господина, и это также задерживало возвращение. Потом бедняга занемог, был не в состоянии ехать верхом, мучился приступами кашля, пришлось подолгу останавливаться на привалах, и это также задерживало возвращение. Наконец, за несколько верст от Афираса, силы его покинули, и все опасались самого худшего. Берик заявил, что не чувствует себя вправе более задерживать послание Аттилы византийскому императору, и считает, что в силу непредвиденных обстоятельств его долг передать запечатанный свиток графу Максимину, который доставит письмо своему повелителю вместе с самыми искренними извинениями. Чрезвычайно довольный, что волокита наконец закончилась, Максимин соглашается и заверяет несчастного сановника Аттилы, что как можно скорее пришлет тому своего личного врача. Попутчики расстались, и, как только римляне скрылись из виду, Берик птицей вскочил в седло, и гунны во весь опор помчались ко двору Аттилы. Орест ждал их там, опередив на много дней!..
Возвратясь в Константинополь, Максимин нашел всех в страшном смятении. Император болен, императрица Афинаида, ставшая совершенно несносной, изгнана из дворца и, приняв имя Евдоксии, обосновалась в Иерусалиме, где занимается исключительно поэзией… и богословием! Император вызвал свою старшую сестру Пульхерию, которую Афинаиде в свое время удалось отправить в ссылку, и теперь она исполняет все обязанности государя, пока брат борется с недугом.
Именно ей Максимин вручает документ, скрепленный печатью Аттилы. Это чистый лист! Максимину не потребовалось много времени, чтобы все понять, и строгий и исполненный достоинства граф признал Аттилу образцом элегантности и великодушия!
Какой дипломат!
Разгневанный поведением своего императора, Максимин решает более никогда не видеться с ним и использует временное регентство Пульхерии, чтобы уладить многие дела.
Хрисафий, ненавидимый Пульхерией и страшащийся немилости, сказался больным и не появлялся на людях.
Констант, секретарь-советник, подаренный Аттиле Аэцием, приглашен в Константинополь, где за него выдают замуж богатую вдову Сатурнию (невеста, которую ему обещал Феодосий, уже стала женой другого).
Аттила требует, чтобы постоянными послами Восточной Римской империи при его дворе назначались те, кто занимал высокое положение на родине. Он выбирает патрициев Анатолия и Нуму. До этого столь знатных аристократов направляли только к персидскому шаху.
Анатолий и Нума доставляют ежегодную дань и богатые дары. Растроганный Аттила отказывается впредь от требования выдачи перебежчиков и возвращает римских пленников. Но напоминает послам: «Я поверю в миролюбие вашего господина не раньше, чем выдадут мне голову его евнуха».
Тем не менее следует признать, что благодаря Максимину — а значит, благодаря дипломатическому гению Аттилы — восточный вопрос если и не был разрешен до конца, то стоял, по крайней мере, уже не столь остро.
Но Аттила создал трудности для Западной Римской империи, и Валентиниан III поспешил направить к нему свое посольство. Было сделано все — возможно, Аэцием, — чтобы это посольство устроило правителя гуннов. Глава — граф Ромул, один из самых могущественных сеньоров империи, его помощник — отец Ореста (таким образом, с посольством направляется двое родственников Ореста) — и, наконец, секретарь — Констант, который в дальнейшем будет подарен Аттиле как секретарь-советник. Действительно, делегация нашла самый радушный прием.
Но для чего понадобилось это посольство и о чем шла речь?
Во время осады Сирмия епископ города, предвидя худшее, сумел связаться с одним из осаждавших — галлом Константином, который принадлежал к секретариату Аттилы. Епископ попросил его — по крайней мере, граф Ромул так изложил дело Приску, — взять священные церковные сосуды, наказав: «Если я попаду к вам в плен, продай их и выкупи меня, если я погибну раньше, все равно продай их и выкупи других пленников».
Епископ был убит во время штурма. Константин договорился с ростовщиком Сильваном, который купил сосуды и перепродал их одному из итальянских епископов. Константин, конечно же, присвоил деньги, но тратил их слишком откровенно. Слухи достигли ушей Аттилы. Константин был схвачен и после признания распят.
И вот Аттила осмеливается требовать у Валентиниана III возвращения этой бесчестно сокрытой «военной добычи» или хотя бы выдачи ростовщика. Канцелярия Равенны отвечает, что Сильван купил сосуды по незнанию, а кроме того, священные сосуды предназначены исключительно для отправления культа и, следовательно, не могут быть ни изъяты у купившего их епископа, ни переданы лицу не духовного звания.
Ответ поверг Аттилу в недоумение: уж не смеются ли над ним? Знает ли канцелярия, сколько храмов стали военной добычей римлян не духовного звания? Чтобы покончить с этой историей раз и навсегда, Аттиле обещают возместить золотом стоимость сосудов. К удивлению двора, Аттила отказывается от золота, утверждая, что это вопрос справедливости (!), вопрос принципа. Он требует выдать «сосуды или негодяя»… если только Равенна, конечно, не предпочтет войну!
Посоветовались с Аэцием и Галлой Плацидией. Оба едины в своем мнении: это каприз и вместе с тем политический ход. Аттила собирается принять высокое посольство Восточной Римской империи, и для полноты собственной славы он хотел бы в то же время встретить высокопоставленных послов Западной Римской империи. Свидетельство почтения, богатые дары, комплименты Валентиниана III, выраженные тестем одного из самых приближенных министров самого Аттилы, все уладят.
Ничего не уладилось. Подарки Аттила принял… и сам одарил послов не менее щедро! Единственное, что, по-видимому, доставило ему настоящую радость, — возможность видеть перед собой Константа, присланного другом Аэцием, да и то, наверное, лишь потому, что тот оказался толковым посредником между ним и могущественным римским патрицием. Приемы в честь гостей следуют бесконечной чередой: во дворце Аттилы, во дворце Онегеза, во дворце Ореста. Но не у Керки. Она тяжело больна. Аттила разрешает им свободно перемещаться по подвластным ему землям. Но в главном он тверд: «Сосуды или негодяя!»
Ромул решает, что пришло время возвращаться. Дело будет, вне всякого сомнения, решено Аэцием и Аттилой при посредничестве Константа. Но порядка ради Ромул все-таки спрашивает перед отъездом: «Что я могу передать моему императору?» Следует неожиданный ответ: «Скажите, что я приеду с ним повидаться».
Как это понимать? Угроза? Нет, только не после такого приема! Аэций, конечно, прав: вопрос в тщеславии Аттилы, который хочет быть с почестями принят самим императором в Равенне.
И прощание получилось очень теплым.
Несчастья сыпались одно за другим. Умирает Керка. Аттила в отчаянии. Он приказывает сжечь красивый деревянный дворец почившей королевы-императрицы. Из Константинополя поступают соболезнования от Максимина и Константа, который обосновался там подле богатой супруги и перестал быть посредником в делах с Аэцием. На эти послания Аттила отвечает. И Аэций прислал свои выражения дружбы и сочувствия в постигшем горе. Аттила не ответил ему!
Спустя несколько месяцев, а может, и всего несколько недель, скончалась при родах вторая жена, дочь Эскама. Констант лично доставляет соболезнования Максимина и самой Пульхерии! Аттила направляет прочувствованное ответное письмо. Приходит послание от Аэция — Аттила не отвечает!
Констант с большим удивлением узнает, что император гуннов тайно направляет в Галлию своих эмиссаров. Неужто Аттила, будучи в расстроенных чувствах, отступил от своей привычной осторожности, так что его переговоры стали известны Константу! Нет никаких сомнений: Аттила вступил в сношения с багаудами, оказывает им поддержку, хочет всколыхнуть всю Галлию, помогая мятежникам против власти римлян, то есть власти Аэция! Некоторое облегчение он испытал лишь тогда, когда Аттила — наконец-то! — дал ему тайное поручение к Аэцию.
Пришло время узнать, что же произошло. Восток усмирен и продолжает платить. Запад еще предстоит покорить, и Аттила к этому готов. Но между двумя «друзьями» заключен договор — гласный или негласный — и гунн должен знать о намерениях панноно-римлянина. Хочет ли он захватить Восток, который не сумеет выйти из игры, когда Феодосий умрет или вынужден будет отречься от престола? Пойдет ли он на раздел Запада с Аттилой, который удовлетворится Галлией и отдаст взамен Паннонию и завоеванные земли Фракии и Фессалии, прилегающие к Константинополю? Или он согласен по римской традиции двух августов на другой раздел, на управление каждый своей частью, которую предстоит определить, или на совместное владение всеми объединенными землями огромной страны?
Констант едет и возвращается с известием, что Аэций доволен существующим положением вещей, считая, что у каждого из них, у него и Аттилы, есть чем заняться для поддержания порядка на подвластных им территориях. К тому же, если Аттила носит титул императора, то он, Аэций, пока еще только патриций, ему нужно время, чтобы усилить свою власть. Он предоставляет Аттиле свободу действий в Восточной империи, если у того есть желание и средства вести борьбу, но все другие планы ему кажутся опасными или, во всяком случае, преждевременными.
Аттила все понял. Аэций связывает все надежды с женитьбой своего сына Гауденция на дочери Валентиниана III и хочет один и только один завладеть всем Западом, без войны, даже без каких-либо усилий, прочие же великие проекты им забыты. Аэций в своем эгоизме забыл все оказанные ему услуги, он забыл Роаса, забыл войска гуннов, пришедшие на помощь Иоанну Узурпатору, он забыл, как гунны помогли ему вернуться с триумфом из ссылки!
Это предательство, и он дорого заплатит! Как и другие. Как все те, кто встал на пути Аттилы к славе и величию и противится его воле.
Конечно, это всего лишь предположение, но насколько правдоподобное! Защитники Аэция утверждают, будто тот все осознал и решил порвать все прежние связи, стремясь не допустить новых варваров в и так уже переполненную ими Западную империю. Или того лучше: он будто бы никогда не принижал гордое имя «последнего римлянина» и вел хитрую игру с Аггилой, выжидая удобный момент, чтобы покончить с ним навсегда. Факты сами подскажут, как все было на самом деле.
Конец 449 года и начало 450 года были невероятно насыщены драматическими событиями. Как и в последние десятилетия четвертого века, люди принимались говорить о конце света, опасаясь, что «мерзость запустения» уже наступила. Тот, чья греховная жизнь не оставляла надежд на милость Всевышнего, старался насладиться последними деньками, окончательно махнув рукой на человеческие законы и мораль. Страна все глубже погружалась в анархию. Богатые погрязли в роскоши и проводили время в бесконечных оргиях. Обездоленные решили, что настал час расплаты, и повсеместно поднимали восстания. Отшельникам вдруг оказалось непросто найти уединение, столько обнаружилось жаждущих их благословения и слова утешения. Блаженные, ясновидящие и всякого рода предсказатели наводняли города и села, собирая толпы народа, если только местный епископ, не осененный, в отличие от них, благодатью господней, не выставлял их за ворота.
В начале 450 года сильнейшие землетрясения сеют панику в Испании, центральной, южной и юго-западной Галлии. Упоминания о катастрофах можно найти во всех древних хрониках. Этот год стал необычайно урожайным на природные катаклизмы: наводящие ужас кометы, падающие метеориты, опустошительные ураганы, кровавые закаты, грозы и пожары — полный набор декораций конца света.
Но на этом страхи не закончились. Серватий, святой епископ из бельгийского города Тонгра, направился в Рим на могилы апостолов Петра и Павла испросить совета, как это уже пытались сделать другие епископы лет за шестьдесят до него. Он хотел узнать у святых, постигнет ли его приход, его страну и соседние государства великий гнев Господень и как можно было бы заслужить прощение. И на сей раз — хронисты в этом совершенно уверены, взять хотя бы Павла Диакона — апостолы дали ответ: Галлия будет отдана на разорение гуннам — вершителям воли Господней, все города будут разрушены, но сам Серватий за свою великую веру почиет с чистой душой до того, как возмездие постигнет заблудших.
Мрачное пророчество! Тем не менее оно могло бы заинтересовать римские легионы в Галлии: орудием небесного возмездия назывались гунны, а не, скажем, вандалы, аланы, свевы, бургунды, франки или вестготы, уже давно опустошавшие североафриканские провинции, Испанию, Аквитанию, Гельвецию, Савойю, берега Рейна и Мааса. Примечательно, что в разгар тяжелой партизанской войны с багаудами и попыток примириться с франками Аэций, против своего обыкновения, не предпринимает попыток призвать Аттилу для восстановления порядка. Намечается противостояние двух старых друзей.
Когда умер Гриномер, вождь одного из больших франкских племен между Рейном и Неккаром, два его сына, смертельно ненавидевшие друг друга, не смогли договориться о наследстве и разделили «королевство», но и таким способом не сумели положить конец раздорам. Один из принцев, Рамахер, вступает в переговоры с Аэцием, и тот его усыновляет! Аэций распространяет римский протекторат на его территорию. Старший сын, Вааст, не замедлил обратиться к Аттиле, который признал его «независимым вождем» своего государства в составе Империи гуннов. Хотя Рамахер и сумел при помощи римлян потеснить брата, Вааст прочно удерживал территорию, прилегавшую к Рейну, что позволяло беспрепятственно переправиться через реку. Назревало противостояние Аэция и Аттилы.
Король вандалов Гейзерих, захвативший Карфаген и разбивший римлян, почти всегда одерживавший победу над римлянами в Африке, мечтал объединить всех варваров Римской империи под своей властью и своей религией — арианством. Он женил своего сына Гунериха на дочери вестготского короля Теодориха I, но, не получив обещанной помощи, подверг невестку пыткам, приказал вырвать ей ноздри и отправил назад к отцу в Аквитанию. Теодорих сообщил Аэцию, с которым некогда сходился на полях сражений, что отныне готов помогать Риму в борьбе со всеми варварами не-готами. Гейзерих немедленно направил богатые дары Аттиле и предложил союз. Поединок Аэция с Аттилой становился все реальнее.
14 июля 450 года к воротам дворца Феодосия прискакал гонец Аттилы. Император еще не до конца оправился от перенесенной болезни, но уже вернулся к управлению страной. На аудиенции он услышал от гонца ошеломляющую новость: «Аттила, мой и твой господин, приказывает тебе подготовить для него дворец, поскольку он уже идет к тебе».
В тот же день и час другой гонец передал такое же уведомление императору Западной Римской империи Валентиниану III.
На следующий день Аэций принял Константа, который по поручению Аттилы сообщил ему об этих демаршах и добавил уже от себя, что не имеет ни малейшего представления, что же Аттила действительно намеревается предпринять. Поразмыслив, Аэций заявил: «Аттила игрок. Возможно, и сам он еще не знает, что собирается предпринять. Главное для него — сиюминутное удовлетворение собственного тщеславия. Но последствия могут быть ужасны». Получив для Аттилы в подарок серебряный кубок, Констант уехал.
28 июля 450 года завзятый лошадник Феодосий выезжает на одном из своих лучших скакунов. Вдруг лошадь понесла, и император, не удержавшись в седле, падает и разбивает себе голову. Тело было выставлено для прощания в большом зале для аудиенций, но воздать последние почести пришли только члены семьи и несколько преданных приближенных.
Хрисафий допустил роковую ошибку, явившись с малочисленной охраной. Чернь узнала его и встретила улюлюканьем. Напуганные охранники отступили, и Хрисафий был растерзан толпой.
Феодосий завещал корону сестре Августе Пульхерии. Та в скором времени вышла замуж за военачальника Марциана Флавия, который стал императором Марцианом. Это был энергичный и уверенный в себе иллириец, проявивший себя как хороший полководец и умелый правитель. В то время ему было пятьдесят девять лет.
Констант прибыл поприветствовать нового императора от лица Аттилы. Он объявил, что со смертью Феодосия снимается просьба принять Императора гуннов в Константинополе (на сей раз найдены более деликатные выражения!), а гибель Хрисафия естественным образом отменяет требование о его выдаче. Так что Константу остается лишь получить и доставить Аттиле ежегодную дань, которую согласился выплачивать Феодосий. Марциан сурово, но без гнева ответил на это: «Передайте Атгиле, что золото я приберегаю для друзей, для врагов же у меня нет ничего, кроме стали». Константу пришлось уехать с пустыми руками.
В октябре 450 года в Риме скончалась Галла Плацидия. Уже много лет она была отстранена от власти своим сыном Валентинианом III, который лишь изредка соглашался выслушать ее советы, но прислушиваться к ним не собирался. Теперь он получил полную свободу и в свои тридцать три года, казалось, мог сам принимать решения, хотя бы в перерывах между попойками, но как бы велико ни было его тщеславие и как бы он ни старался держаться полновластным хозяином, он слишком хорошо понимал, что без Аэция и шага не сможет ступить. Являясь воплощением лжи и лицемерия, Валентиниан все время обнадеживал Аэция, что брак принцессы Евдоксии с его сыном Гауденцием — дело уже решенное.
Хотя великая драма с гнусными интригами и кровавыми преступлениями подходила к концу, век еще готовил немало потрясений, и все мерзости внутренней и внешней политики были всего лишь прелюдией к приближавшейся военной трагедии.
Впрочем, как и полагается в романтическом жанре, герои в данный момент разыгрывали шутовскую сценку.
Принцесса Гонория, неуемная сестрица Валентиниана III, продолжала свою скандальную карьеру. Во время своего заточения в Константинополе ей удалось выказать достаточно смирения, чтобы брат вернул ей право находиться при дворе в Равенне. Получив прощение, Гонория немедленно взялась за старое и была снова отправлена под домашний арест в один из монастырей Равенны. Время от времени она появлялась при дворе, но всегда под бдительным присмотром. И представить было невозможно, чтобы она смогла найти способ связаться с кем-либо, тем более с чужеземцем.
Аттила в срочном порядке созвал что-то вроде совета министров — Онегеза, Эдекона, Ореста, Берика, Скотту, Эслу и… своего советника-секретаря Константа. После смерти дочери Эскама никто еще не видел его в таком веселом и приподнятом настроении. «Эй, галл! — обратился он к Константу, — ты получишь самое блестящее поручение за всю свою жизнь! Знай же, что вот уже пятнадцать лет, как я получил предложение о браке от принцессы Гонории, сестры Валентиниана. У меня сохранились и само письмо, и обручальное кольцо, которое было послано вместе с ним. Я тогда попросил дать мне время подумать. Что ж, пятнадцати лет вполне достаточно, не так ли?.. Я согласен. Насколько мне известно, с моей невестой плохо обращаются. Мне говорили, что ее мать и брат не одобрили то чувство, которое она испытывает ко мне. Ты скажешь им, что я очень удивлен и надеюсь, что ее заключение будет отменено. Возможно, и сами они удивятся, что я так долго медлил с ответом. Ты объяснишь, что я не мог предложить сестре Императора Запада иного титула, кроме как королевы-императрицы. Увы! Провидению было угодно, чтобы никто более не был и не мог стать его обладателем. Поэтому она станет императрицей гуннов. В своем письме она сообщает, что принесет мне в приданое половину Западной Римской империи, которая составляет ее часть наследства, полученного от отца Констанция III. Меня это вполне устраивает, и я согласен определить границы владений с самим Валентинианом III, ибо надо уметь договариваться, особенно с родными. Особо отметь, что для меня большая честь стать зятем императора и этот брак станет самым надежным залогом мира между двумя нашими империями».
Все покатились со смеху, и Констант больше других: и вправду это было самое забавное поручение за всю его жизнь, и именно поэтому стоило выполнить его как можно более серьезно.
Валентиниан III был поражен подобной дерзостью. Он обратился за советом к благоразумному Аэцию, мнение которого таково: поскольку Аттила выдвинул формально обоснованные территориальные притязания, надо ответить ему сдержанно, дабы не было хуже. Гонорию срочно выпускают из монастыря и выдают замуж за военачальника Флавия Кассия Геркулана, любезную услугу которого пришлось как следует оплатить. Теперь Валентиниан мог направить Аттиле ответ: Гонорию никто не лишал свободы, к тому же она вступила в законный брак, вследствие чего союз с Аттилой, которому Валентиниан был бы так рад, невозможен; кроме того, по римским законам Империя является неделимым владением, и женщины могут осуществлять только регентство, не имея права на земельную собственность.
Получив ответ, Аттила вновь собрал свой Совет, и хохот там стоял такой, какого не было и на прошлом заседании.
IX
Бич Божий
Несомненно, Аттила разыгрывал фарс. Но он не стал бы ломать комедию просто так.
Прежде всего, он как бы не заметил надменного ответа императора Марциана. Большинство современных историков тем не менее полагают, что отказ от выплаты дани и бряцанье железом произвели сильное впечатление на вождя гуннов и вынудили отказаться от дальнейших притязаний.
Однако это было не похоже на Аттилу. Слова Марциана — всего лишь слова. Новый император в то время был не сильнее своего предшественника. Марциан, умелый организатор и военачальник, доблестный и уважаемый человек, был все же более опасным противником, но ему требовалось время, чтобы восстановить порядок и в армии, и при дворе. Нет сомнения, что завтра он наберет силу. Сегодня Аттила еще сможет ценой кровопролитного сражения овладеть Константинополем, но завтра, когда Марциан усилит городские укрепления и перегруппирует легионы, победа станет куда менее вероятной. Гунном в этом отношении руководил не страх, а скорее мудрая расчетливость. Пускай Марциан поверит, что его резкий тон охладил пыл врага. Пускай он порадуется, что Аттила найдет другие цели, и не станет препятствовать гуннам. Когда с другими делами будет покончено, тогда и только тогда Аттила, еще более могущественный после новых побед и новых союзов, рассчитается с гордым императором.
А кроме того, бездействие Аттилы в отношении Марциана могло бы ввести в заблуждение Валентиниана III и — хотя и менее вероятно! — самого Аэция. Не ослабла ли воля, направлявшая гуннов в их завоеваниях? Не одряхлел ли племянник Роаса? Не надорвался ли под бременем захваченной власти? Не предпочел ли он дипломатическую возню превратностям войны? Может, жесткий тон станет для Запада столь же действенным средством, что и для Востока? Помечтайте, помечтайте!..
Фарс продолжался. Констант направляется в Равенну с новым посланием для Валентиниана III: Аттила отлично понимает, что, будучи замужем, принцесса Гонория не может принять ранее сделанное ей лестное предложение; он рад, что она счастлива и свободна; он возвращает императору полученное от нее письмо и кольцо, которое он с того времени носил на пальце! Единственное, что его печалит, так это невозможность в силу сложившихся обстоятельств стать зятем римского императора. Но что тут поделаешь? Ничего, не так ли? Вождь гуннов просит принять серебряный меч с чеканной рукоятью, переданный с гонцом, и заверяет, что во всем мире у императора нет столь преданного друга, как Аттила! Впрочем, в ближайшее время он получит тому доказательство.
Валентиниан в восторге показывает письмо Аэцию: «Смотрите, как вы заблуждались, уверяя меня, что мне следует вести дипломатические переговоры с этим варваром. Вот как надо обходиться с ним!» У Аэция послание гунна не вызвало доверия, и он решил выяснить, что может скрываться за этой игрой. Он открыто спросил Константа, но тот ответил: «Я ничего не знаю. Думаю, что Аттила просто развлекается». — «Именно это меня и тревожит: его развлечения добром не кончаются».
Аэций лично занялся усилением дунайских и рейнских укреплений, с трудом получив согласие императора: «Если вы полагаете, что это необходимо, я не буду вам препятствовать».
Тем временем Валентиниан III принимает очередного гонца от Аттилы.
Дело заключалось в следующем: Теодорих I, вестгот, правящий в Аквитании, обещал гуннам выдать дезертиров и не сдержал слова; он обещал заключить договор о дружбе и обманул; кроме того, Аттила располагает доказательствами его происков, имеющих целью отвратить других готов от союза с гуннами; он пытался даже поссорить его с гепидами!
И вообще, кто такие эти вестготы? Мразь, разбойники, паразиты! Им совсем нельзя верить. Аггиле известно, что Теодорих, вместо того чтобы мирно пользоваться радушным гостеприимством Римской империи, готовит новые набеги, ищет поддержки у варваров за границами Империи и в ней самой, плетет заговоры против власти и самой жизни императора.
Этого нельзя долее терпеть. Аттила, помнится, писал Валентиниану, что ему скоро представится случай доказать свою дружбу. Так вот, время пришло. В интересах Рима и Гуннии он образумит Теодориха и накажет его за непокорность. Поэтому он просит римского императора разрешить перейти Рейн и вторгнуться в Галлию с целью карательной экспедиции, которая позволит ему самому захватить дезертиров, не выданных Теодорихом.
Хуже всего, что Валентиниан был польщен этой просьбой! Он нашел доводы Аттилы очень убедительными, к тому же мысль о подрыве мощи готов, обосновавшихся в Галлии, не была ему так уж неприятна. Испытывая некоторое затруднение от того, что приходится решать вопрос в отсутствие Аэция, римский император попросил несколько дней на составление ответа, дав при этом понять, что речь идет только о формальностях. Гонец все понял, как надо, и немедленно отправил одного из сопровождавших сообщить императору гуннов о хорошем приеме и о том, что он остался ожидать официального ответа.
Вызванный императором, Аэций примчался вихрем. Валентиниан ввел его в курс дела, и Аэций схватился за голову.
Патриция провести не удалось. Это начало вторжения, причем с согласия Рима! В россказнях о дезертирах и сорванном договоре о дружбе нет ни слова правды; отношения между вестготами и остготами хуже, чем когда-либо, и причем только стараниями Аттилы, будоражившего остготов; гепиды — вечные союзники гуннов, и никто не станет пытаться их переманить.
Более того, Аттила не перестает «обрабатывать» франков, пытаясь привлечь их на свою сторону. Ему, Аэцию, с огромным трудом удалось, в конце концов, обеспечить на землях между Рейном и Неккаром главенство Рамахера, которого Валентиниан изволил принять и поздравить, и урезать владения Вааста, известного союзника гуннов. Если кто и хочет взбунтовать варваров Империи, так это никак не Теодорих, а сам Аттила!
Но что важнее всего: Аэций напомнил Валентиниану, что Теодорих, которому угрожает вандал Гейзерих, самый активный в данный момент враг Рима и союзник Аттилы, заявил о своей готовности поддержать Империю против любого захватчика-варвара не-гота.
Теперь за голову схватился Валентиниан, осознав, как слеп был и куда завела его гордыня. Что делать? Аэций советует быть предельно осторожным. Хотя официального ответа еще не дано, Валентиниан не мог перечеркнуть любезный прием, оказанный гонцу Аттилы, отправив с ним сообщение, прямо противоположное по всем пунктам. Поэтому было решено, что император Западной Римской империи ответит так:
Он благодарит императора гуннов за его послание и хорошо понимает его доводы.
Вместе с тем, поскольку не было замечено каких-либо злоупотреблений римским гостеприимством со стороны вестготов, и он, со своей стороны, не может рассматривать вопрос даже о малейшей карательной акции.
Если возникнет необходимость в усмирении вестготов, он сделает это без помощи извне.
В правовом отношении нападение на тех, кто пользуется гостеприимством Рима, означает нападение на саму Римскую империю.
И, наконец, сколь бы дисциплинированны ни были войска гуннов, они не смогут дойти до Аквитании, не подвергнув основательному разорению римской Галлии.
Он убежден, что император гуннов, в свою очередь, внемлет доводам римлян и воздержится от похода, доверив Риму следить за лояльностью вестготов.
Ответ был передан посланнику Аттилы, которого просили уведомить его господина, что через несколько дней к нему пришлют римского эмиссара с дополнительными разъяснениями.
Увы! Ситуация оказалась сложней, чем полагали римляне. В Рим, где тогда находились Валентиниан и Аэций, прибыл посол Теодориха с копией письма, которое тот получил от Аттилы! В своем послании гунн объяснял ему, что у него личные счеты с Римом, а потому он намерен захватить Галлию. Ему пришлось воспользоваться предлогом, что экспедиция направлена против вестготов, но могущественному Теодориху должны быть хорошо известны дружеские чувства, которые Аттила к нему питает, чтобы не поверить в это. Ему не будет причинено зла, напротив! Единственное, что движет гуннами, — желание разбить оковы, наложенные на них Римской империей.
Поэтому-то он и просит Теодориха не поднимать попусту тревоги, а подготовиться, чтобы в нужный момент прийти к нему на помощь, и после победы над Римом император гуннов и король вестготов по-братски разделят Галлию!
Валентиниан и Аэций незамедлительно диктуют ответное письмо Теодориху. Вот его текст по Иордану: «Наихрабрейший из варваров проявит всю свою проницательность, соединив с нами усилия в борьбе со вселенским тираном, с тем, кто хочет поработить весь мир, с тем, для кого пригоден любой предлог, чтобы развязать войну, с тем, кто считает законной любую свою прихоть. Его загребущие руки тянутся далеко, а честолюбие ненасытно (ambitum suum brachio metitur, superbiam licentia satiat). He следуя ни законам, ни морали, он враждебен всем на земле (…). У тебя сильное войско, подумай о собственных страданиях, пожмем друг другу руки; придите на подмогу сообществу, членом которого являетесь».
Получив это послание, Теодорих гневно воскликнул: «Вы, римляне, добились, чего хотели! Вы сделали Аттилу врагом и для нас!» В довольно расплывчатых выражениях далее говорилось, что он тем не менее поддержит Рим, заверяя без особой надежды, что постарается как можно дальше отстраниться от этого дела и займется исключительно укреплением своих оборонительных сооружений, на случай, если Аттила доберется до самой Аквитании с враждебными намерениями, в чем он нисколько не сомневается.
Подготовка нападения и обороны проводились твердой рукой. С обеих сторон знали, что столкновения не избежать. Требовалось только скрепить подготовленные союзы.
Аттиле в то время было около пятидесяти пяти. Он располнел, ноги стали еще более кривыми, подбородок порос редкой бородой, волосы почти сплошь покрыла седина. «У него гордая «императорская» осанка, — пишет Иордан и добавляет: — Это был человек, отмеченный судьбой, пришедший в мир, чтобы повергнуть в страх народы и потрясти всю землю».
Аттила объявил варварам, собравшимся под его командованием, что им предстоят решительные сражения, война будет беспощадной, а опустошения будут неслыханными. Именно по этому случаю были якобы произнесены слова, приписываемые ему древними авторами: «Там, где ступит копыто моего коня, больше не вырастет трава». Это не так.
Во-первых, хотя Аттила и прибегал к показательным опустошениям с целью запугивания населения, он воздерживался от систематического применения тактики выжженной земли. Излюбленным приемом кавалерии гуннов было атаковать противника в лоб, затем с обоих флангов, отступить, перегруппироваться и атаковать снова. Во время отхода совершенно нежелательно, чтобы противник мог легко преследовать бегущих. Отсюда необходимость сохранять спасительную растительность, особенно деревья и кустарники.
Во-вторых, нападая, гунны всегда думали об отступлении — либо в случае контратаки противника, либо после поражения или победы. Поэтому всегда сохранялась потребность в таких местах, где кони могли бы попастись на достаточном удалении.
И, наконец, в дальних походах войско сопровождал обоз и стада скота, который требовалось кормить во все время кампании, не забывая о возможности вынужденного отступления.
Хроники свидетельствуют о систематичном характере этой политики. Наряду с кровавыми набегами и опустошениями в спокойных районах часто применялась тактика упорядоченного массового проникновения, которая обеспечивала отдых войскам и не вынуждала население к отчаянному сопротивлению, то есть сопротивлению от отчаяния. Уничтожив или изгнав воинов и захватив страну на более или менее долгое время, гунны специально сохраняли жизнь невооруженным крестьянам и не разоряли деревень, чтобы облегчить их подчинение своей власти.
Однако никто не сомневался, что знаменитая фраза, если и не указывала прямо на захватническую политику, была произнесена Аттилой с целью запугать врага перспективой беспощадного опустошения и тем самым лишить его воли к сопротивлению. Такое предположение не лишено смысла, если верить в возможность воздействовать словом, тогда как вид улюлюкающих всадников сам по себе был более чем красноречив!
И главное: эти слова столь же «историчны», как и многие другие. Их произнес не тот, кому их приписывают, а совсем другой человек; они создают определенный образ, передаются от одного к другому и в конечном итоге вкладываются в уста героя. Сколько легенд родилось подобным образом!
В данном случае фраза приводится великим хронистом своего времени Приском, тем самым Приском, который был одним из редких очевидцев событий, а потому считается авторитетным источником сведений. Но в том-то и дело, что Приск не приписывает ее Аттиле. Вот строки, описывающие прибытие римского посольства во главе с графом Максимином, к которому он был прикомандирован, в Сердику с эскортом гуннов, указывавших путь:
«Сердика. Вот уже тринадцать дней, как мы оставили Константинополь. Устраиваемся на ночлег, кто как может, в развалинах домов. Город полностью стерт с лица земли гуннами во время их набега в 441 году. Один из нас (то есть имеется в виду один из членов посольства римского императора) намекнул за ужином на разрушительную ярость этой конницы: «Там, где они промчатся, уже не растет трава». Бывшие с нами гунны встретили эти слова, которые должны были их устыдить, торжествующими криками. Нам показалось, что в действительности они приняли их за похвалу…»
Как видим, это слова римлянина, это крик возмущения, который тем не менее полон поэтического порыва и драматизма. Но Аттиле они не принадлежат, хотя и сослужили ему службу.
Раз уж мы взялись рассматривать исторические фразы, которые ими остаются, несмотря на ошибку в авторстве, обратимся к не менее знаменитому «Бичу Божию».
Согласно наиболее распространенному мнению, прозвище «Бич Божий» было проклятием Аттиле, мол, этот душегуб стал воплощением зла, осмелившись бросить вызов самому Богу. «Бич Божий» — это надменный враг Господа, подручный Сатаны. Аттила даже и не пытался скрывать столь очевидное, с демоническим высокомерием признавая, что он и есть Бич Божий. Однажды некий монах бросил ему в лицо слова правды, и Аттила признал, что все верно, и даже не пожелал покарать обвинителя.
Но это заблуждение. Христианство все время возвещало о «конце света» и наступлении Судного дня. Добрые люди спасутся, правда, после жестоких испытаний, а злых постигнет кара. Божественная справедливость требовала, чтобы Господь признал своих, но глубина падения человечества, непослушание, пороки и преступления делали Апокалипсис неизбежным. Господу нужно было орудие или орудия гнева, Божьей кары, последнего наказания.
Уже давно — со времен, о коих повествуется в первых главах нашей книги — христиане жили в ожидании и страхе Бича Божия, исполнителя Божьей воли, карающего падших, но разящего также и невинных, которые тем скорее и надежнее попадут в царствие небесное.
Бича Божия ожидали и боялись задолго до рождения Аттилы! Его продолжали ждать и бояться много лет после его смерти. Но в то смутное время, в которое он жил и был возмутителем спокойствия, было противоестественно не поверить, что этот варвар, нехристь и разрушитель не есть сам Бич Божий или, по крайней мере, орудие его мести.
Святые отцы Церкви периода раннего христианства по-разному называли вестника конца света — Меч Господень, Палица Провидения, Дубину Всемогущего или даже Гром Господень или Божественная молния.
Незадолго до битвы с Аэцием на Каталаунских полях к Аттиле привели схваченного галльского монаха, который на вопрос гунна: «Знаешь ли ты, кто я?» ответил: «Я знаю, кто ты. Ты Бич Божий, Палица небесного Провидения». Стоит ли удивляться, почему Аттила сохранил ему жизнь? Напротив! Аттила, польщенный ответом, громко расхохотался, ибо он был польщен, он обрел, если можно так выразиться, свой «неповторимый образ»!.. Полюбуйтесь, христиане его знают, да еще считают вершителем Божьей воли. Он, сам ни во что не веря, еще при жизни вошел в мифологию других народов! Аттила сумеет этим воспользоваться: «Ничему не удивляйтесь! Стерпите от меня все! Я Бич Божий!» Аттила, если можно так выразиться, сделал себе «визитную карточку». Зная, что все видят в нем Бич Божий, он приказал выгравировать на латыни под своим изображением: Flagellum Dei!
Вся эта история, уже сама по себе достаточно поэтическая, была еще более опоэтизирована хронистами. Последние, чтобы быть правильно понятыми и соответствовать христианской логике, не просто называют Аттилу «бичом».
Вот пишет Иордан: «Монах сказал Аттиле: «Ты Бич Божий, Палица Провидения. Но Всемогущий Господь ломает орудия своего Возмездия по воле своей и перекладывает свой Меч из одной руки в другую по замыслу своему. Знай же, что побежден будешь в битве римлянами, чтобы постиг ты, что не от земли происходит твоя сила».
Бич Божий, но с небесной миссией, ограниченной во времени.
Союзы… Тщательно подготавливаемые союзы… Союзы «Бича Божия» и союзы «последнего римлянина»… Они готовились долго, но тут не все было ясно.
Как настроены багауды? Прав ли был Евдоксий? Примкнут ли они к Аттиле-освободителю? А может быть, прав Констант, Аттила внушает слишком большой страх, и в нем видят нового поработителя? Помогут ли они римлянам защитить землю Галлии, несмотря на свою вражду?
А франки? С ними нет ни малейшей ясности. Аэций говорит о лояльности и экспансии в Галлии с согласия Рима.
Аттила предлагает союз и раздел территорий под носом у лицемерных римлян. Что решат они?
На тот момент франки, похоже, были разобщены. Кто же был их верховным вождем? Одни говорят — Меровей, но другие полагают, что того не существовало вовсе. Одни утверждают, что Хильдерик, но другие говорят, что тому тогда было лет восемь-девять, и родись он даже гением, его голос не мог быть решающим.
Автор настоящей книги увлеченно изучал этот темный период в истории — эпоху Меровингов, но не может похвастаться, что ему удалось рассеять мрак. Однако он считает, что знаменитый Хлодий Лохматый, действительно самый могущественный франкский король того времени, умер глубоким стариком около 435 года. По легенде, когда ему минуло сорок лет, он еще не имел детей, но его жена как-то в полдень пошла одна на берег моря и увидела в волнах морское чудовище, державшее в плавнике трезубец. От страха она потеряла сознание, чем чудовище и воспользовалось. Когда женщина очнулась в его объятиях, монстр на чистом латинском языке сообщил ей, что если муж проведет с ней ночь любви, она родит как бы одновременно и от него, порожденья Нептуна, допущенного к жизни новым Богом, и от Хлодия. Когда на свет появится мальчик, она должна назвать его Меровеем, то есть Сыном Моря. Так и случилось.
Меровей в возрасте от ста до ста тридцати лет произвел на свет сына Хильдерика, будущего отца Хлодвига. Хильдерик из уважения к престарелому родителю решил, что весь род, включая предков, будет называться Меровингами.
Проблема в том — и с этим согласны почти все исследователи — что нет никаких следов правления Меровея. Скорее всего, после смерти Хлодия вожди избрали королем молодого интригана Хильдерика, в последнюю минуту усыновленного старым королем при туманных обстоятельствах и, вполне возможно, приходившегося ему внуком. Вполне возможно, что отец этого Хильдерика именовался Меровеем и даже мог править какое-то крайне непродолжительное время между «отцом» Хлодием и «сыном» Хильдериком. Но более вероятно, что пройдоха Хильдерик выдумал или распространил легенду о морском чудище, стремясь доказать, что его правление предначертано свыше.
Так что царствования Меровея не было, или же оно продлилось недолго. Может, и самого Меровея не существовало. В 451 году главным «королем франков» был Хильдерик. Но затруднительно определить, сколько ему в то время было лет — четырнадцать или двадцать три (известно только, что в молодости он выглядел взрослым не по годам, а в старости моложавым). Нельзя даже точно сказать, как долго он правил — в течение полутора или… двадцати лет! В последнем случае предполагается долгий период регентства его матери, однако сама мысль об этом была недопустима во франкском королевстве той эпохи; впрочем, и это предположение не может быть полностью исключено.
Древние хронисты непременно упоминают о присутствии «юного Хильдерика» на полях сражений в начале вторжения гуннов в Галлию. По Фредегару, он был «сыном короля Меровея», правившего тогда франками, попал в плен к гуннам «вместе с матерью» (!) и был освобожден благодаря отваге «благородного франка» Виомада. Спрашивается, почему вдруг франкский король отправил на войну жену и малолетнего сына? В это просто невозможно поверить.
Но те же авторы пишут об активном участии Меровея в борьбе Аэция против гуннов, вторгшихся в Галлию. Создается впечатление, что этот Меровей вовсе не отец Хильдерика, а простой франкский вождь, — которому, впрочем, ничто не мешало величать себя королем — возможно, из правящего рода Меровингов. Похоже, что Меровей, о котором идет речь, пребывал долгое время в нерешительности, оказывая вначале моральную поддержку Аэцию и не участвуя открыто в сражениях на его стороне вплоть до того дня, когда понял, кто одержит верх. Бургунд Гондиок (сын Понтера из «Песни о нибелунгах») занимал такую же позицию.
Аэций, вне всякого сомнения, и пользовался поддержкой абсолютного большинства франков. Впрочем, еще в самом начале похода, как только гунны вторглись в долину Рейна, молодой «франкский король» Рамахер, усыновленный Аттилой, был убит своими воинами. Бедный юный король! Приск видел его, когда Аэций направил юношу в Рим приветствовать императора. «Пушок еще не тронул его щек, — писал Приск, — его длинные светлые волосы пышными волнами ниспадали на плечи». Он был убит, и во главе объединенного племени встал его старший брат Вааст, союзник Аттилы.
Союзы… Столь тщательно подготавливаемые союзы… Аттила дал сигнал к общему сбору на подступах к Дунаю. Аэций не решался оставить Италию: вдруг это лишь уловка с целью заставить пойти на сделку или скрыть готовящееся нападение в другом, самом непредвиденном месте?..
Общий сбор войск Аттилы!.. Ученый Амедей Тьерри в своей «Истории Аттилы» (издание 1884) дал столь его красочное описание, что невозможно удержаться, чтобы не процитировать это:
«Никогда еще со времен Ксеркса не видела Европа такого скопления народов, ведомых и неведомых; в поход выступило не менее пятисот тысяч воинов. Азия выставила самых уродливых и самых свирепых своих представителей — черных гуннов и акациров с колчанами длинных стрел, аланов с длинными копьями и роговыми панцирями, невров, бел- лонотов, раскрашенных и татуированных гелонов, вооруженных косами и облаченных в куртки из человеческой кожи. Из сарматских степей примчались на своих колесницах полукровные племена, наполовину славяне, наполовину азиаты — оружие, как у германцев, нравы, как у скифов, полигамия, как у гуннов. Германия направила свои самые отдаленные западные и северные племена — ругов с берегов Одера и Вислы, скиров и тукилингов с верховьев Немана и Дюны (…); они шли в бой, вооружась коротким скандинавским мечом и круглым щитом. Были здесь и герулы, быстрые наездники и неустрашимые воины, но жестокие и наводившие страх на все другие германские племена, которые смогли в конце концов обрести покой, лишь полностью их истребив. На призыв Аттилы откликнулись остготы и гепиды. Их тяжелая пехота столько раз повергала в ужас римлян. (…) Такова была эта армия, которая, казалось, вобрала в себя весь варварский мир и притом была еще далеко не полной. Перемещение стольких народов стало почти революцией на обширной североевропейской равнине. Славяне спустились к берегам Черного моря, чтобы занять свои прежние земли, с которых их когда-то вытеснили ушедшие теперь остготы; арьергард черных гуннов и авангард белых гуннов — авары, болгары, гунугары, турки — сделали еще один шаг к Европе. В гигантской армии перемешались грабители всех мастей, вожди и чернь, друзья и враги, будущие властители Италии, занявшие место западных цезарей. (…) Все обломки цивилизованного мира и все лучшие силы варварского мира, казалось, составляли свиту гения разрушения».
Пятьсот тысяч воинов!.. Некоторые авторы утверждают, что даже семьсот. Прокопий пишет, что в войсках были массагеты и другие скифы. Сидоний Аполлинарий добавляет, что к походу присоединились квады и маркоманы, свевы, франки с берегов Неккара, тюрингские племена и зарейнские бургунды. Современные авторы, правда, далеко не все, находят цифру в пятьсот тысяч преувеличенной и говорят самое большее о ста пятидесяти — двухстах тысячах человек.
Общеизвестно, что подавленное состояние свидетелей печальных событий и последующее мифотворчество приводят к постоянному преувеличению числа нападавших и оборонявшихся в эпоху Античности, Средневековья и даже в более поздние времена, сегодня наметилась противоположная тенденция — преуменьшать все цифры. Несомненно, точные подсчеты сделать невозможно, однако иногда мы в состоянии определить, по крайней мере, порядок величин. Это можно сделать, основываясь на данных демографии, находках с полей сражений, на том, что известно о переселениях, следующих за войнами, а также на выводах из противоречивых свидетельств древних авторов, как правило, принадлежавших к противоборствующим сторонам. Представляется возможным — хотя и без неоспоримых доказательств и безукоризненной точности — оценить число воинов, собравшихся под знаменами Аттилы, включая примкнувших позднее, примерно в четыреста пятьдесят тысяч человек; конечно, их могло быть и больше.
Аэций после присоединения к его легионам и гарнизонам войска вестготов, франков Меровея, бургундов Гондиока, аланов Сангибана (который отступится от него на некоторое время), а также экспедиционного корпуса из Арморики, небольшого контингента альпийских бреннов, летов (варваров-колонистов, поселившихся в римских и галло-римских провинциях) и багаудов, решивших бороться с захватчиками-гуннами, не мог иметь более ста пятидесяти тысяч воинов; возможно, их было еще меньше. Обычно соотношение сил Аэция и Атгилы оценивается как один к трем, однако и соотношение один к четырем предлагается довольно часто.
Какие же чужеземные вожди пользовались расположением Аттилы? Король гепидов Ардарих, король остготов Валамир, его брат Теодемир, который станет отцом Теодориха Великого, и один из франкских вождей Вааст.
А какие чужеземные вожди пользовались доверием Аэция? Вполне вероятно, король вестготов Теодорих (не имеющий никакого отношения к вышеупомянутому остготу Теодориху Великому), которого он с большим трудом уговорил, считал мудрым политиком и советовался с ним. Можно назвать также франка Меровея и бургунда Гондиока, несмотря на его колебания и несвоевременные приступы отваги.
Аэций еще был во власти сомнений, когда началось великое вторжение.
Почему именно в Галлию?
Прежде всего потому, что Аттилу, как и всех завоевателей с востока, точно магнитом притягивал к себе Запад, манил океан — finis terrae, край земли.
Но была и другая причина: неправильное понимание ситуации. Аттила ошибся, и ошибся как минимум три раза.
Аттила ошибался, считая, что галлы, в большинстве своем враждебные власти римлян, откажутся встать на защиту Империи. Но галлы, которые действительно мечтали положить конец владычеству римлян, стремились сами решить свою судьбу при поддержке расселявшихся на их землях варваров, чуждых дикости гуннов, и не хотели подставить шею под ярмо еще более тяжкое, чем прежде. Борясь с Римом, они в то же время с неменьшей охотой защищали восточные границы Империи. Лучший из «римских» легионов, выставленный Аэцием против гуннов, больше чем на три четверти состоял из галлов.
Аттила ошибался, доверяя Евдоксию и рассчитывая на помощь багаудов. Настоящие багауды, поднимая мятеж против галло-римского «порядка», хотели видеть Галлию единой и свободной и не были намерены вырывать ее из рук Западной Римской империи лишь для того, чтобы передать ее под власть другой империи, какой бы она ни была.
Он ошибался, полагая, что франки, бургунды и даже вестготы рано или поздно присоединятся к нему в надежде на поживу. Но они и так уже были, на разных условиях, «федератами» и, наблюдая ежедневно растущую слабость Римской империи, знали, что время работает на них, а потому в подавляющем большинстве не желали помогать кому-то еще, какими бы обещаниям их ни пытались прельстить.
Наконец — и это очевидно всем, — Аттила избрал Галлию потому, что она, несмотря на мятежи и раздоры, была богатой, желанной страной, манившей к себе завоевателя, которого в походе не сопровождало организованное интендантство.
Несмотря ни на что, в V веке Галлия была довольно процветающей страной, намного богаче дунайских провинций, византийских земель и даже самой Италии. Ее плодородные земли притягивали беглых колонов, свободных крестьян и трудолюбивых багаудов. В многочисленных шахтах и каменоломнях добывалось необходимое сырье, хорошо оборудованные мастерские работали даже на экспорт. Производство предметов обихода и роскоши было развито более, чем где бы то ни было. Торговля процветала, а цены, несмотря на алчных и своевольных римлян, оставались невысокими. Купцы из Галлии путешествовали по всему цивилизованному миру, добираясь до его самых отдаленных уголков. В Галлии выросли такие города, как Бордо, Тулуза или Ле-Ман, которые сегодня считаются одними из самых красивых именно потому, что в свое время подверглись ужасным разрушениям и омолодились, похорошели в процессе восстановления. И повсюду: в монастырях, поместьях, в густо населенных городах — ремесленники, ремесленники, ремесленники…
Варвары уже давно обосновались на этих землях. Они никак не ожидали, что встретят в Галлии такое благополучие, несмотря на все обрушившиеся на нее беды. Эти кочевые народы нашли здесь цивилизацию, административную организацию, основанную преимущественно на власти епископов, открыли для себя то, что может дать оседлая жизнь, мирная эволюция без головокружительных скачков и падений, без жестокой ломки и бесконечных перемен.
В Галлии уже сложилась определенная административная организация, романизированная галльская или галлизированная римская. Оставаясь еще достаточно сырой, она тем не менее была гораздо лучше отлажена, чем та, что Аттила пытался установить в своей империи, хотя бы в силу своего несравненно более длительного существования. Тут — города под управлением наместников и чиновников, деревенские общины, хутора свободных крестьян с устоявшимися традициями, крупные поместья, ярмарки с особым статусом, профессиональные цехи чеканщиков монет, перевозчиков и шахтеров; обители и братства, лавки с привилегиями для иноземных купцов! И конечно же монастыри, богатые, почитаемые, добывающие хлеб в поте лица своего, и епископы, католические или арианские, игравшие не последнюю роль в административном управлении.
Вкусив новой жизни, варвары не хотели быть вытесненными или просто потесненными новыми пришельцами, равно как и получить новых конкурентов в борьбе за свободные земли. Аттила хотел явиться освободителем, а был воспринят как конкурент или смутьян. Ну а христианское население Галлии — по крайней мере, в большинстве своем христианское — не желало склониться перед Бичом Господним в смиренном ожидании кары за грехи.
Аттила понял свои ошибки очень быстро, но все равно слишком поздно. Допустив, если не санкционировав преступные деяния в отношении епископов, он впоследствии сделал все возможное, чтобы загладить вину перед ними и привлечь их на свою сторону.
Можно было бы лишь подивиться бездействию Аэция в то время, когда Аттила открыто готовился форсировать Рейн, если не знать, что он сам тогда затевал.
Пока воины Аттилы рубили вековые дубы в Герцинском лесу и строили мосты через Рейн, а также, для большей уверенности, разных размеров барки, Аэций гостил в Оверни у своего старого боевого друга Флавия Марцелла Авита.
Авит успел сделать и неплохую гражданскую карьеру. Будучи префектом претория Галлии, он сумел заключить между Римом и вестготами союз, которому последние противились долгое время. Префект при этом остался почитаемым другом вестготов и их короля Теодориха. Отойдя от дел державных, он счастливо проводил время в своей роскошной овернской усадьбе, доставшейся от отца — богатейшего галла. Авита занимали только поэзия и цветоводство. Его дочь Папиллия вышла замуж за поэта и историка Сидония Аполлинария, который ее очень любил и воспел в своем «Панегирике».
Авит был тронут визитом патриция. Он легко разгадал замысел друга. Аэций хотел убедить Теодориха выступить против Аттилы, но сам никогда не смог бы этого добиться.
Теодорих всегда был верен Риму, но когда к нему недавно прибыл посланец Валентиниана, он сухо ответил ему: «Римляне были столь неуклюжи, что навлекли на себя грозу. Так пусть же они сами и справятся с ней!»
Только Авит мог переубедить Теодориха, внушив ему, что Аттила стремится нейтрализовать его, чтобы затем изгнать, как только доберется до Аквитании.
Человек долга, Авит был польщен и принял предложение. Он полностью оправдал все надежды — Теодорих сам встал во главе войска вестготов. Как писал Сидоний Аполлинарий в своем «Панегирике»: «Отряды воинов в шкурах строились под звуки римского горна».
Авит помог также привлечь под знамена Аэция войска багаудов, несмотря на твердое убеждение, что по окончании войны они снова возьмутся за старое. Проводив обрадованного и полного признательности гостя, Авит облегченно вздохнул. Этот почтенный и уважаемый человек не сомневался, что теперь его карьера достойно завершена. Знал бы он, что после поражения гуннов снова станет префектом Галлии, примет из рук императора Максима Петрония верховную власть над Галлией, будет провозглашен императором Западной Римской империи, отречется от престола после четырнадцати месяцев правления, когда романо-готский полководец Рицимер предпочтет Майориана, добьется назначения епископом в Италию, проведет в этой стране некоторое время и затем вернется домой, чтобы в уединении, в достатке и покое провести остаток дней в своей великолепной овернской усадьбе.
Ну а пока что Аэций разыграл блестящую партию: Теодорих во главе вестготов перешел на его сторону, а багауды на время становятся союзниками римлян, чтобы преградить дорогу Аттиле! Добиться этого было невозможно, пока общая угроза не стала очевидной.
Аттила переправился через Рейн, форсированным маршем вышел к Триру, который Цезарь называл «вторым Римом», и разграбил его.
Эдекон и остгот Теодемир пересекли границу Гельвеции и двинулись в направлении Страсбурга. По пути их атаковали бургунды Гондиока, теперь преданного союзника Аэция. Бургунды были обращены в бегство, смяли и увлекли за собой подошедших на помощь франков — по Фредегару, именно тогда юный Хильдерик с матерью и были пленены гуннами, а затем спасены храбрым Виомадом!
Эдекон и Теодемир разрушили Аугст (Базель), Виндониссу (Виндиш) и Аргентуарию (Кольмар), и их авангарды уже подходили к воротам Безансона. Орест с гепидом Ардарихом захватил Страсбург, Шпейер, Вормс и Майнц. Онегез, Скотта и Вааст овладели Тонгром, а затем Аррасом. Однако, пока недисциплинированные армии варваров растекались по своему усмотрению в направлениях Реймса, Крейля, Амьена, Бове, Руана и даже Кана, грабя и разоряя все на своем пути, Аттила, разбивший свой лагерь где-то под Триром или Люксембургом, испытывал тревогу от своих успехов и их последствий.
Обладать гигантской армией, конечно, превосходно, и успешное начало кампании тому лучшее доказательство. Но можно ли действительно назвать ее армией или даже объединенными войсками? Даже лучшие из полководцев Аттилы не могли удержаться от рискованных авантюр. Войска разбредались во всех направлениях, не подчиняясь единому плану действий. Дикость часто брала верх над стратегическим мышлением. Повсюду царил грабеж. Но если его ограничить, не охладит ли это воинственный пыл? Аттила призвал к себе Эдекона, Онегеза и Ардариха и поделился с ними своими опасениями. Результат не замедлил сказаться: Ардариху удалось остановить один из своих диких отрядов, который неизбежно был бы изрублен под стенами Реймса.
Драматична судьба Бича Божия. Играя роль Дикаря, Безжалостного, Воплощения ужаса, он не мог хотя бы иногда проявить себя Миротворцем, Дипломатом или Освободителем. В бесчисленных походах армия гуннов показала себя едва ли не самой организованной и дисциплинированной. Ее стратегия была наиболее верной, командование — авторитетным, иерархия — самой четкой. Сравниться с ней могли только гепиды и остготы, усвоившие некоторые основы стратегии. Однако отсутствие общих войсковых учений, так называемых «больших маневров», не позволяло обеспечить должный уровень взаимодействия. Так, была отмечена слабая координация действий конницы гуннов, самой подвижной из всех, и тяжелой пехоты гепидов, наиболее защищенной из всех. Риск потери управления был велик даже при наступлении, и еще больше возрастал при выполнении маневра или отступлении. Разброд и неразбериха в когортах, когда каждый действовал по своему усмотрению, если не сказать — думал только о своей шкуре, были тем более опасны, что войска выходили из подчинения центральному командованию и начинали сражаться, следуя своим традиционным племенным тактическим приемам и нисколько уже не заботясь о соседях и конечном исходе сражения.
Бич Божий не стал воином, повергающим в трепет, ставшим во главе стройных, смертоносных, бесстрашных и бесстрастных демонов, безразлично поражающих все на своем пути, как это представлялось по Апокалипсису. Картина нашествия должна была выглядеть еще более бесчеловечной, более механической, более впечатляющей и намного более безжалостной.
Аттила понимал это и все чаще задумывался, сможет ли своевременно подготовиться. Своевременно — значит, до начала ожидаемого им контрнаступления многочисленных римских легионов и союзников-федератов под энергичным управлением Аэция.
Он поделился собственными соображениями с полководцами и военачальниками своей армии, которых ему удалось собрать на совет, приложив при этом все усилия к тому, чтобы его страхи не передались им в полной мере.
Эдекону поручалось привести в порядок катапульты и баллисты, что в разгар войны было непростой задачей. Другие вожди должны были сгруппировать свои войска на отведенных им рубежах: Мец — Бар-ле-Дюк, Лангр — Шатильон-на-Сене и Реймс — Шалон-на-Марне.
Во все концы были посланы эмиссары на поиск разбредшихся когорт. Предстояло убедить вождей направиться к пункту общего сбора, не задев их тщеславия и индивидуализма. Небольшие лагеря, оставляемые на захваченных землях, обозначали успех наступления того или иного отряда.
Военачальники получили указания ограничиться боями местного значения, по возможности уклоняясь от столкновений, и сделать все, что в их силах, для пресечения грабежей.
Сам Аттила возглавил ближайшие к его ставке войска, с которыми намеревался взять Мец, поскольку крайне нуждался в показательной победе. После ошеломляющего успеха он сумеет выйти к Труа или Сансу, проведет еще раз перегруппировку сил, распределит стратегические задачи и примет на себя командование всей гигантской армией.
X
Два марсовых меча
Gladius Martis: меч Марса, бога войны из античной мифологии, сохранил свое символическое значение и для римских солдат, принявших христианство, — они потрясали Марсовым мечом, веря, что он способен отразить все удары клинков противника.
Церковь попыталась было заменить его на меч святого Михаила или святого Георгия, но слишком не настаивала. К тому же в Евангелии говорится, что тот, кто с мечом придет, от меча и погибнет, а это мало подходило для христианизации языческого символа. Даже в Константинополе золотой меч, несомый спатарием перед императором, назывался spatha Martis.
Gladius Martis: скифский меч царя Марака, найденный в окрестностях Астрахани пастухом, который удостоился чести преподнести его Аттиле, уже давно вошел в легенду (легенды бывают и правдивыми… или становятся таковыми). Искажение имени Марак и превращение его в Марка или Марса, несомненно, помогло римлянам поверить в «Марсов меч», который когда-то принадлежал царю скифов, чем и объяснялась его воинская слава.
У Аэция был меч Марса, и Аттила гордо принял в наследство меч Марса. Бились ли они на равных?
Аттила сумел собрать гигантскую армию. Вполне вероятно, что некоторые союзники, особенно остготы и болгары, не испытывали большого энтузиазма, но просто не имели другого выбора, кроме как следовать за гуннами. Однако Аттила, созывая воинов, пользовался тройным преимуществом.
Прежде всего, он давал восточным народам возможность беспрепятственно продвинуться на запад и получить в награду за верную службу право обосноваться на новых землях под защитой победителя.
Кроме того, не должно было возникнуть проблем со снабжением: войскам предстояло пройти по богатым землям, где можно было легко достать пищу и собрать ценную добычу.
И наконец, Аттила обращался к воинственным народам, многие из которых жили войной и еще не утратили атавистической тяги к кочевничеству, от которого были вынуждены отказаться под давлением обстоятельств.
Аэций также встал во главе сильной армии. Сперва у него возникли серьезные проблемы. Валентиниан III, безумный спесивец (и это еще мягко сказано), согласился дать ему не более четверти римских легионов, расквартированных в Италии. На настойчивые просьбы главнокомандующего он отвечал, что Император — он, Империя — его, что он ожидает новых нападений в Африке, мятежей на Сицилии и заговоров в Италии. Этот трусливый эгоист хотел в ущерб делу усилить внутреннюю полицию, а также охрану побережья полуострова и альпийских перевалов. Так что ядром «римских легионов» Аэция стали варвары-федераты.
Большое войско выставили галлы. Чем дальше проникали гунны, тем сильнее оно прирастало. Основой его были галло-римские легионы, традиционно охранявшие северные и рейнские границы, затем к ним добавились гарнизоны городов и заслоны, выставленные в свое время против багаудов.
Этой мобилизации способствовали два явления. Во-первых, различные «гости», осевшие в Галлии, единодушно высказались в поддержку римлян, и незачем стало держать против них войска, чтобы пресечь любую попытку проникновения в земли империи или проявление сепаратизма. Стражники смогли встать в строй воинов. Во-вторых, подавляющее большинство багаудов, отличавшихся решительностью и отвагой, дали знать Аэцию через галло-римских военачальников, что они готовы участвовать в борьбе с захватчиками. Союз с багаудами стал возможен благодаря личным усилиям Авита и духовенства. Авит обещал Аэцию поддержку багаудов при условии, что их не будут притеснять после победы. К Авиту прислушивались все епископы, среди которых были багауды, а к епископам-багаудам прислушивались священники-багауды, даже если епископы не поддерживали их борьбу.
Возникло удивительное явление: между багаудами, решившими сопротивляться гуннам, и багаудами, поддерживающими захватчиков, разгорелась борьба. На Мозеле произошли вооруженные столкновения. Но затем сторонники гуннов осознали, что рискуют сменить одно ярмо на другое и при этом быть отвергнутыми соплеменниками. Поэтому Евдоксий, возможно, совершенно искренне, ввел Аттилу в заблуждение, обещав поддержку багаудов, тогда как он мог рассчитывать лишь на изгоев-отщепенцев. Позиция багаудов в этом конфликте имела далеко идущие последствия для всего уклада галльского крестьянства и даже для всей экономики Галлии. Для Аэция поддержка багаудов имела большое значение. Они всегда были хорошо вооружены, одинаково успешно действовали в нападении и обороне, были отважны и воинственны. Свободные крестьяне не имели ни вооружения багаудов, ни столь же отлаженной организации, но тем не менее в случае необходимости могли храбро и упорно обороняться. Следуя примеру багаудов, они выставляли отряды добровольцев и даже небольшие армии. Между партизанами-разбойниками и мирными пахарями наметилось некоторое сближение. До того в некоторых провинциях, особенно на северо-западе и в центре, багауды и не-багауды, жившие в соседних, но достаточно удаленных друг от друга деревнях, не были знакомы. На следующий день после почти национальной победы над гуннами багауды почувствовали новую атмосферу и перестали отгораживаться от внешнего мира. Они осознали преимущество взаимовыгодного обмена перед хищническими набегами.
Кроме багаудов и свободных крестьян, источником для пополнения армии Аэция являлись и личные отряды богатых землевладельцев. Ослабление охраны поместий также имело свои последствия. Колоны и рабы могли беспрепятственно бежать, а тех, кто оставлял хозяев, чтобы присоединиться к войскам, было запрещено удерживать. Иногда, правда, сам хозяин приказывал рабам вступить в ряды защитников отечества. Крупные поместья на время пришли в упадок, но только на время, так как очень скоро в силу необходимости поддержания порядка владельцы латифундий превратились в воинственных сеньоров, твердой рукой устанавливавших свои безжалостные законы. Крестьяне были прикреплены к земле, однако при этом многие ремесленники оставили поместья и обосновались в защищенных городах и селах, выскользнув из рук своих господ.
Другим благоприятным для Аэция фактором стало положительное отношение к нему летов. Это были варвары, некогда проживавшие по среднему течению и в верховьях Рейна. Им выделили земли в центре Империи при условии постоянной готовности выступить в поход по первому зову. Это были воины-крестьяне.
От летов отделяли гентилов, которые имели самое разное происхождение и, подобно летам, получали землю, но на обычных условиях. Они теснее смешались с местным населением, чем леты. Позднее различия между гентилами и летами будут постепенно исчезать, пока эти две категории поселенцев не сольются в единую нацию.
Леты поднялись по призыву римлян, и их примеру последовали многие гентилы. Их поддержку трудно переоценить, так как они были умелыми воинами. Однако у них был один недостаток, который, впрочем, давал при этом немало преимуществ — леты сохранили свои обычаи, исконную тактику и боевые приемы, плохо сочетавшиеся с правилами, принятыми в галло-римской армии.
Сохранились упоминания об основных группах летов, сражавшихся с захватчиками: тевтоны из Шартра, батавы и свевы из Байё и Кутанса, свевы из Ле-Манса и Клермона, франки из Ренна, сарматы из Отена, сарматы и тайфалы (выходцы из Шварцвальда) из Пуатье, саксы из области между устьями Сены и Луары.
Количество воинов-варваров, вставших под знамена Аэция, выглядит несколько завышенным, но надо учитывать, что, за исключением летов, далеко не все из них поднялись по первому зову: 17 000 багаудов, 4000 свободных крестьян, 3000 ополченцев из городов, поместий и отрядов стражников и 1800 летов и гентилов! В целом выходит 25 800 воинов, что составляет более одной шестой части всех войск, отданных под командование Аэция.
Военные историки полагают, что основное различие между римским войском и варварами заключалось в преобладании пехоты у первых и кавалерии у вторых. Но при этом они всегда спешат добавить, что со времени походов Юлия Цезаря положение вещей претерпело серьезные изменения. Прежде всего, федераты и другие союзники галло-римлян были большей частью природные наездники, а многие приспешники гуннов — от гепидов до остготов — имели сильную пехоту с железной дисциплиной.
Часто отмечают тот факт, что за варварами следовало большое количество повозок и обозных телег, сковывая войска и препятствуя выполнению маневра, а тем более отступлению. Но в первые недели великого похода и в особенности после взятия Реймса Аттила дает четкие указания, чтобы обоз под сильной охраной следовал на достаточном удалении, чтобы не мешать перестроениям войск.
Кстати, неоднократно отмечалось, что громоздкие римские обозы, несомненно, менее разношерстные, чем у варваров, и чаще имевшие чисто военное предназначение, также нередко сковывали войска и даже приводили к катастрофам. Тем не менее, учитывая опыт кампаний Цезаря, римские легионы теперь старались обеспечивать сопровождение из конных и пеших лучников и метателей дротиков, которые прикрывали фортификационные работы по укреплению лагеря и возведению оборонительных сооружений. Аэций увеличил количество разведчиков, чаще всего набиравшихся из прирожденных наездников — варваров на римской службе, чтобы иметь лучшее представление о защищенности выбранного места расположения войск.
Римская тактика ведения боя в открытом поле претерпела значительные изменения, во многом на основе опыта, полученного в боях с варварами. В авангард выделялись конные разведчики и легкая кавалерия, которые должны были обстрелять противника дротиками и стрелами и тут же быстро отойти к основным силам. За ними, если была такая возможность, в три линии следовала пехота:
— первая линия легкой пехоты, вооруженной простыми метательными копьями — пилумами (pilum);
— линия средневооруженной пехоты, media pedestris, на поздней латыни, которая вооружалась пиками с ремнем — Іапсеа с amentum. Метание производилось не обычным способом, а при помощи кожаной пращи, которая позволяла посылать копье на значительно большие расстояния;
— линия тяжелой пехоты, состоявшей из воинов, защищенных панцирем, имевших меч и кинжал, а порой и боевой топор, — урок, усвоенный у варваров, так как римская пехота уже отошла от использования топоров. В легионах, укомплектованных галлами, использовался франкский обоюдоострый топор.
В отличие от построений легионов минувшего века, в каждой линии имелись свои велиты — легковооруженные пешие воины, которые должны были драться любым доступным во время боя оружием и преследовать поверженного врага.
Все легионеры, включая и галлов, к тому времени уже имели металлические шлемы и щиты. Велиты и другие легковооруженные воины защищались кожаными щитами, укрепленными стальными полосами и бляхами. В целом, ноне столь единообразно, как во времена Траяна, применялись четыре типа щитов: маленький круглый — у велитов, средний овальный — у воинов первой линии, большой круглый или овальный — для второй линии, большой прямоугольный — для тяжеловооруженной пехоты. При построении в каре тяжелая пехота становилась в первую линию, образовывая стену или черепаху из своих прямоугольных щитов, из-за которых в противника летели стрелы и дротики.
На марше шлемы, поножи и наручи часто подвешивались к пикам или палкам, которые воины несли на плечах. Большой опасности воины подвергались, когда разбивали или покидали свой лагерь, так как они снимали свои доспехи и могли стать жертвой неожиданного нападения из засады тщательно замаскировавшихся варваров, которые осыпали легионеров смертоносным дождем стрел. Хотя римляне принимали меры предосторожности и выставляли группы прикрытия из пеших и конных стрелков, засады, западни и другие военные сюрпризы, приводившие к тяжелым потерям, случались довольно часто.
Артиллерия уже получила достаточно широкое применение, и громоздкие машины, обслуживающий персонал и снаряды занимали немалое место в обозе, часто затрудняя его продвижение.
В случае длительного похода или экспедиции в малоизведанные земли в обозе транспортировались не только съестные припасы и боевое снаряжение, но и пункты снабжения (что-то вроде передвижного магазина), печки, ручные жернова для помола зерна, шанцевый инструмент, снаряжение понтонеров, тараны и другие баллистические машины, которые нельзя было катить. В обоз входили и передвижные медицинские пункты со всеми инструментами, приспособлениями и запасами лекарств и перевязочных материалов. Полевая медицинская служба, доведенная до совершенства (по тем временам) в римских и галло-римских легионах, на протяжении всей кампании Аэция была перегружена работой, так как приходилось оказывать помощь и союзникам-варварам, не имевшим собственных лекарей. Римская артиллерия имела развитую структуру, включая в себя карробаллистов, которые применяли и обслуживали баллисты, запряженные лошадьми или волами, немобильные онагры, метавшие камни и другие снаряды, понтонеров, которые наводили мосты и приводили в движение тяжелые тараны, и саперов, способных изменять русла рек, откачивать воду из рвов, строить фундамент для укреплений и поджигать города и деревни.
В IV веке только войска, расположенные в Галлии, снабжались восемью крупнейшими поставщиками военного снаряжения, специализировавшимися на производстве кирас, панцирей, кольчуг, шлемов и других доспехов, мечей, дротиков, копий, луков и стрел, щитов и баллист. На складах хранились запасы оружия и боеприпасов, стрел и камней для пращи.
Несмотря на тот запас питания, что находился в обозе, римские пехотинцы всегда были нагружены собственной снедью. В любое время, за исключением периода активных боевых действий, каждый легионер нес на плече палку или копье, на котором висел заботливо увязанный узелок с харчами. Брошенные мешки с продовольствием всегда были приятной находкой для не имевших регулярного снабжения варваров.
Обычным боевым построением римлян на открытой местности было каре, позволявшее отражать нападение со всех направлений. Гунны не только не использовали этот прием, но даже считали его опасным, так как он позволял окружить и осадить воинов, со всех сторон запертых в кольце врагов. Зато гепиды им пользовались часто. Рассказывают забавную историю о том, как в окрестностях Лана встретились войска римлян и гепидов и построились в каре, после чего ни одна из сторон не знала, что делать дальше, и противники разошлись без боя.
Выход из каре осуществлялся следующим образом: тяжеловооруженные пехотинцы раздвигались, стена из щитов складывалась, как два крыла, первые, а затем вторые линии воинов выдвигались вперед, одна за одной, и тяжелая пехота, выстроившись в рад, замыкала походный порядок.
Военные историки не перестают удивляться, что в то время, как кавалерия Восточной Римской империи достигла выдающихся успехов и быстро развивалась, конница Аэция находилась в упадке.
И действительно, есть чему удивляться. В начале V века конные воины, защищенные стальными шлемами и пластинчатыми доспехами или кольчугами, были главной ударной силой при фронтальном столкновении. Кроме того, используя высокую мобильность, кавалерия должна была отойти после первой атаки и разделиться на три группы: два «крыла», бравших врага в клещи с флангов, и отряд, который осуществлял глубокий обход противника, перегруппировывался и нападал с тыла.
Это тем более удивительно, что армия Аэция состояла главным образом из галлов, которые имели репутацию лучших наездников, чем римляне.
В чем же могли заключаться причины слабости римской кавалерии? Прежде всего, в ее численном меньшинстве по сравнению с гигантской конной массой варваров, затем в недостаточной защищенности коней от стрел и дротиков и, наконец, в том, что у римлян стремена стали использоваться недавно, и у воинов не было достаточного опыта обращения с ними, а галлы вообще пренебрегали ими, к тому же качество стремян оставляло желать лучшего. Наконец, в качестве причины называют психологическое воздействие гиканья, вольтижировки, нарочитого варварского одеяния гуннов; их дикие крики и улюлюканье должны были пугать коней римлян и приводить в расстройство построение кавалерии. Впрочем, они навели бы не меньший ужас и на пехотное каре.
С другой стороны, вполне вероятно, что Аэций недооценил боеспособность варварской пехоты. Считая гуннов отличными наездниками, но никудышными пехотинцами, он полагал, что и его немногочисленная конница легко втопчет в землю пешие колонны варваров. Однако оказалось, что гепиды и остготы располагали тяжелой пехотой, которая была обучена укрываться за стеной больших щитов и стойко выдерживала натиск кавалерии, осыпая атакующих стрелами и дротиками.
Как-то раз на Мультьенском плато в районе Уазы сильный пеший отряд гепидов был атакован галло-римской конницей. Гепиды немедленно построились в каре по римскому образцу. Всадники разделились на четыре колонны и атаковали каре со всех сторон одновременно. После пяти-шести атак остатки римлян были вынуждены буквально спасаться бегством, так как большинство их лишилось в бою своих коней.
Одной из особенностей этой Галльской войны стало то, что тяжелая, закованная в броню конница вестготов была лучшей у римлян, а тяжелая пехота гепидов — лучшей у гуннов.
О составе войска Аттилы сохранилось гораздо меньше документальных свидетельств, чем об армии Аэция.
Костяк составляла кавалерия. Аммиан Марцеллин оставил ее описание, но очевидно, что оно относится к первым волнам гуннов, прорывавшихся на запад, и уже не столь точно отражает положение дел ко времени битвы за Галлию. Однако долгое время историки считали его классическим и представляли гуннов кем-то вроде диких краснокожих с примитивными топорами и луками, которые готовы были содрать скальп с первого встречного и убивали ради удовольствия убивать.
Основная тактика гуннов и большинства их союзников по-прежнему строилась на запугивании, но воин-пугало, от которого шарахались люди и кони, был хотя и основным, но уже не единственным типом.
«Дикая» конница всегда располагалась в первой линии. Она атаковала противника с фронта и с флангов и старалась, насколько это было возможно, обойти его с тыла. Когда нельзя было одновременно напасть с фронта и с тыла, отряд на рысях отходил, обтекал легион на довольно большом расстоянии с флангов и атаковал с тыла. Воины «первой линии» часто даже не имели другого оружия, кроме лука со стрелами и пращи, а иногда обходились только запасом маленьких топориков на шнурах, которые метали во врагов и калечили коней противника, если вдруг наталкивались на вражескую кавалерию.
«Вторая линия» уже имела иные, нежели действовать противнику на нервы, задачи. Ее образовывали конные лучники. Лук висел на локте правой руки, колчан с запасом стрел закидывался на спину через левое плечо. Лучник вытаскивал стрелу правой рукой, скидывал лук с локтя на ладонь и натягивал тетиву. Гунны отличались умением одинаково превосходно стрелять как вперед, так и назад через левое плечо. С лучниками смешивались конные пращники, метившие как в головы всадников и коней, так и в головы и грудь пеших воинов противника. Некоторые гунны одинаково хорошо управлялись и с луком, и с пращой и использовали в разные моменты боя то или иное оружие в зависимости от ситуации. Все всадники имели небольшой круглый щит, крепившийся на спине пониже колчана. Им пользовались редко, только при отступлении, так как при стрельбе из лука и при метании камней он мог бы только помешать.
«Третья линия» вооружалась дротиками или копьями, а иногда предусмотрительно и тем и другим. Дротики хранились в большом футляре-колчане, который подвешивался к седлу и свисал позади передней левой или, реже, передней правой ноги лошади. Всадник держал поводья левой рукой, а правой вытаскивал дротик и метал его во врага. Если всадник был еще и копейщиком, он клал копье перпендикулярно на шею коню и действовал тем же манером. У римлян всегда вызывала восхищение та ловкость, с какой гунны, проезжая через узкое место, моментально переводили копье из перпендикулярного положения в параллельное, вдоль левого или правого бока лошади.
Воины «четвертой линии», лучше других защищенные доспехами, имели дротик или копье и меч. Меч подвешивался к поясу с правой стороны. Верхом воин никогда не пользовался сразу и мечом и копьем: меч вытаскивался из ножен лишь тогда, когда не оставалось больше дротиков или копья и когда приходилось сражаться пешим. На земле воин мог драться одновременно обоими видами оружия, взяв меч в правую руку, а копье в левую.
Один из излюбленных приемов гуннов заключался в следующем: воины первой линии, вернее, те из них, кто уцелел, завершив атаку, направлялись к обозной телеге или просто к навьюченным лошадям, где брали проволочные сети, с которыми атаковали вновь, набрасывая их на вражеских пехотинцев. Пойманных в ловушку врагов убивали копьями и палицами. Воины четвертой линии также часто имели среди прочего вооружения проволочную сеть.
Превосходство гуннской конницы над римской в период этой Галльской войны сегодня уже не вызывает сомнений, хотя еще не так давно многие историки утверждали, что дисциплина и продуманная стратегия регулярной кавалерии должны были ставить ее выше неорганизованной конницы варваров-кочевников. Тактика рассыпного строя и дробления сил для охватов противника, применявшаяся гуннами, считалась неразумной, и от неминуемого поражения степняков должны были спасать только беспримерные отвага и индивидуальное воинское мастерство.
После проведенных исследований появился совершенно новый взгляд на положение вещей. Тактика гуннов имела свои преимущества, а их внешне грубое снаряжение во многом превосходило римское.
Одним из ключевых вопросов является использование железных стремян, сначала одного, затем пары. Авторство этого изобретения приписывается персам, туркменам и аварам, которых часто ассоциируют с белыми гуннами. Появление стремян датируется второй половиной V века, что, однако, опровергается многими исследователями, полагающими, что римские военачальники могли перенять это новшество во время войн с гуннами. В любом случае речь идет только об одном стремени, левом, которое помогало сесть в седло.
Парные стремена, как утверждает венгерский историк Ласло Маккай, были изобретены алтайскими тюрками, именуемыми в китайских источниках тью-кью. Эти тюркские племена первыми модернизировали уже известное одинарное левое стремя, добавив к нему парное правое. Стремена позволяли не только легко садиться на коня, но и прочно держаться в седле.
Затем от тюрков стремена переняли авары, а от аваров — воины хана Баяна, осевшего около 562 года на среднем Дунае, после чего изобретение распространилось по всей Европе и сыграло важную роль в формировании средневековой конницы.
Хотя вопрос о стременах полностью не закрыт до сих пор, сегодня принято считать, что задолго до появления железных стремян уже использовались кожаные стремена, изобретение которых, по всей вероятности, является заслугой гуннов.
Для этого есть много оснований. Люди, которые буквально всю жизнь проводили в седле, ели, пили и даже спали, не сходя с коня, не смогли бы выдержать такую нагрузку на ноги, не имея пусть даже самых примитивных стремян.
Конечно, это были довольно несовершенные стремена, представлявшие собой петли из прочной ткани или кожи, которые крепились к седлу. Опираясь на них, ноги уставали меньше, к тому же всадник уверенней держался в седле. В бою поверх стремян завязывались ремни грубых сапог.
При более тщательном изучении описания гуннов, оставленного Аммианом Марцеллином, можно обратить внимание на важные детали снаряжения. «Козлиные кожи, обмотанные вокруг их волосатых ног», столь удивившие римского всадника, не что иное, как те самые примитивные стремена. Обувь гуннов показалась ему «бесформенной и безразмерной», но это лишь означало, что она не предназначалась для боя в пешем строю, а образовывала защитный и усиливающий элемент стремян, который всегда можно было быстро и легко подогнать по ноге.
С вопросом о стременах тесно связан и вопрос об использовании шпор — съемных, железных или стальных, одинаково хорошо сочетающихся с кожаными стременами и сапогами. Тогда как галло-римские шпоры были острыми и ранящими, шпоры гуннов были короткими, менее заостренными и часто «звездообразными». Они были легкими и не натирали щиколотку.
Но надо было что-то придумать на случай непредвиденного нападения! Ведь могло и не хватить времени прикрепить шпоры. В этом случае выручали сапожные гвозди, которые, хотя и менее эффективно, но все-таки позволяли пришпорить коня.
Немецких археологов поразило обилие сапожных гвоздей во всех гуннских, пара-гуннских и германских захоронениях. Наличие сапожных гвоздей в ряде случаев выступало доказательством гуннского происхождения могилы, за неимением других научных аргументов. Этот примечательный факт был подтвержден на выставке «На заре Франции», экспонировавшейся в 1980–1981 годах сначала в Майнце, а затем в музее Люксембургского дворца (Сената) в Париже.
Таким образом, вполне вероятно, что грубые сапоги гуннов были скреплены гвоздями так, чтобы можно было воспользоваться их остриями, когда у всадника не было времени (или желания) надевать на ногу браслет с настоящими шпорами.
Во всяком случае, очевидно, что гунны придавали большое значение сапожным гвоздям и старались иметь их в запасе. Их ценили так высоко, что даже клали в могилы.
Некоторые исследователи полагают — хотя и бездоказательно, — что в каблуки сапог гунны вбивали боковые гвозди, острием к телу коня, которые позволяли слегка кольнуть скакуна и заставить его ускорить бег, не прибегая к шпорам.
Итак, если гуннская конница не прекращала совершенствоваться и превосходила римскую, то собственной регулярной пехоты у гуннов практически не существовало, особенно поначалу.
Пешее войско формировалось из оседлых дунайцев и кавалеристов, лишившихся своих коней. Снаряжение и вооружение ратников было самым разнородным, единой тактики и отработанных приемов ведения боя не было и в помине. Вооружение состояло из дротиков, лука со стрелами, широкого меча и кинжала. В избытке имелись кольчуги, что особенно удивительно. Специальных родов войск не существовало, и пехотинцы в случае необходимости становились артиллеристами и саперами.
Вопреки широко распространенному заблуждению, в войсках гуннов имелись интендантская и медицинская службы, хотя их, конечно, нельзя сравнивать с галло-римскими. Гуннам и в голову не приходило таскать за собой печки и жернова. Главную заботу «интендантов» составляли съестные припасы. Команды «снабженцев» забирали из кладовых разоренных деревень овощи и фрукты, сгоняли в стада коров, овец, коз и свиней. Скот гнали своим ходом за войском, пополняя запасы по дороге, забивали на привалах и, в зависимости от предпочтений, мясо варили, жарили или ели сырым, а остатки везли в кибитках. Запасали также кумыс, пиво, вино и фруктовые напитки, но за их распределением следил лично вождь или военачальник, который знал, когда можно выпить и повеселиться, а когда лучше оставаться трезвым. Обычно воины довольствовались водой из ручья.
Не вся живность перегонялась в стадах. Интенданты везли в кибитках молочных поросят, птицу, собак (вкусовые качества которых ценили азиаты и некоторые готы) и «крыс», хотя крысами летописцам на самом деле показались обыкновенные кролики.
Колоритное упоминание о сыром или полусыром мясе под седлом, конечно, основано на реальных фактах, но не должно восприниматься как общее правило, и внимательное чтение древних хроник подтверждает это. При набегах или рискованных экспедициях вожди отказывались от обоза, замедлявшего движение и лишавшего войска маневренности. Но питаться чем-то надо было, а сколько продлится поход, никто наперед не знал, поэтому приходилось проявлять предусмотрительность. Запас продовольствия в виде сырого мяса под седлом, таким образом, был не изыском гуннской кулинарии, а издержками войны.
Обоз же доставлял гуннам немало хлопот, так как враги знали их принципы снабжения и по возможности старались отбить или истребить стада, следовавшие за войсками, опустошить или сжечь кибитки с запасами провианта.
В войсках имелись лекари, знавшие целебные свойства трав и кореньев, и санитары, выносившие раненых с поля битвы. Однако для гуннов, в отличие от римлян, тяжелое ранение всегда означало смерть. Лучше умереть, чем жить калекой и не испытывать более счастья битвы. Раненого добивали по его просьбе, как, впрочем, и тогда, когда он об этом не просил. Но чаще всего он приканчивал сам себя, сожалея, что не погиб в бою.
Античные авторы сделали любопытное наблюдение: римлянин, будучи никудышным кавалеристом, любил своего коня, заботился о нем, считал благородным созданием, холил и лелеял, а гунн, лучший из наездников, за своим конем не следил.
Гунны хорошо кормили своих скакунов, давали им напиться и отдохнуть, рискуя даже быть захваченными преследователями, но к уходу за своими грязными «кормильцами» они были совершенно не расположены. Дело тут даже не в желании казаться диким и страшным. Конь — не роскошь, а средство передвижения и боевое снаряжение. Раненых лошадей забивали и употребляли в пищу. Когда заканчивались припасы, всадник мог хладнокровно вырезать кусок мяса из крупа своего коня и продолжать подхлестывать кричащее от боли животное, пока оно не издыхало. Всегда можно было взять запасного коня.
Запас коней, поразивший древних авторов, был наследием кочевой жизни. Он позволял быстро покрывать огромные расстояния, используя сменных лошадей, заменять павших и служил источником продовольствия любителям сырой или вареной конины.
Вместе со стадами передвигались кибитки с семьями гуннов, но во время Галльской кампании они уже не следовали непосредственно за войсками, как в описании Аммиана Марцеллина. Семьи останавливались в опустевших деревнях и охраняемых лагерях. Кроме того, само число таких семей было невелико, так как большинство своих близких гунны оставили в дунайских и рейнских областях. Этим отчасти объясняется стремительность продвижения войск.
Артиллерия гуннов была еще в худшем состоянии, чем пехота. Если убожество пехотинцев еще как-то компенсировалось качеством войск некоторых союзников, то хороших баллистических орудий не было во всей армии, осуществившей вторжение.
Число катапульт и баллист возросло уже в ходе войны. В дунайских и мозельских землях были в спешном порядке устроены еще две мастерские, из которых машины под надежной охраной доставлялись в места сосредоточения, указанные Аттилой. Стараниями Эдекона в изготовлении разрушительных машин был достигнут определенный технический прогресс. Прототипами служили римские образцы. Возросшая потребность в осадных машинах привела к увеличению количества в ущерб качеству. Передвижных баллист было по-прежнему мало, тогда как производство тяжелых машин расширялось.
Остготы славились своими таранами, считавшимися наиболее прочными и практичными. В Гуннии и на захваченных землях мастерские получили заказы на изготовление стенобитных орудий по остготскому образцу.
Копья, дротики и пики с более или менее длинным стальным наконечником, врезанным в древко, поставлялись с Кавказа. Двойное копье, представлявшее собой древко, на одном конце которого крепился стальной наконечник, а с другого — длинное плоское заостренное стальное лезвие, имело тюркское происхождение и изготовлялось в паннонийских оружейных мастерских. В Галлии оно появилось после падения Сен-Кантена. Это копье давало некоторые дополнительные преимущества пехоте и произвело впечатление на галло-римлян, которые немедленно обзавелись таким же оружием.
Можно только поразиться протяженности коммуникаций, по которым гуннским армиям в Галлии доставлялось снаряжение из самых отдаленных уголков Империи гуннов. Многолетние заботы Аттилы о благоустройстве путей сообщения оказались ненапрасными.
Хотя лодки гуннов, изготовленные из древесной коры, были столь великолепны, что вызвали уважительное удивление Максимина и Приска, дефицит средств для переправы через широкие реки создавал для завоевателей проблемы в ходе всей Галльской кампании. Переправы большой массы войск стали возможны только благодаря высокому мастерству понтонеров.
Быстрая переброска войск при помощи имевшихся челнов была неосуществима, но Аттила ошибочно полагал, что у него есть время построить достаточное количество лодок на месте. Времени, как, впрочем, и леса, не хватало. Пришлось довольствоваться большими плотами, наспех сколоченными общими усилиями саперов и простых воинов: целые когорты, сняв даже посты охранения, не покладая рук трудились для обеспечения переправы.
Стоит ли философствовать о «двух мечах Марса»? С точки зрения стратегии, простор для размышлений не слишком широк.
Несколько упрощая, можно сказать, что галло-римляне всегда старались давить своей монолитностью, сплоченностью рядов и четкостью механически отлаженных перестроений, тогда как гунны делали ставку на рассыпной строй. Нет ничего удивительного, ведь римлянин — прежде всего пехотинец, а гунн — конник. Современные стратеги считают не подлежащим сомнению фактом, что тактика гуннов продемонстрировала преимущество маневра перед статичной обороной.
Но противников отличала не только тактика. По отношению к населению галло-римляне стремились выглядеть несущими мир и покой, а гунны — сеющими страх. Аэций хотел изгнать Демона разрушения, объединить жителей Галлии, обеспечить им мир и процветание: он сдерживал, насколько это было возможно, разрушения и грабежи, чинимые войсками (Теодорих также старался обуздать своих, что для остальных союзников было непростым, а то и невозможным делом). Аттила шел изгнать тирана-притеснителя, освободить жителей Галлии, дать им независимость и… обеспечить процветание! Поскольку же приспешники тирана не поняли своего счастья и осмелились сопротивляться, их следовало запугать показательной резней и разорением. Он начал с поджогов, истребления и грабежа. Но, столкнувшись с последствиями, полностью пересмотрел свою политику и попытался сделать ее более гуманной. Ардарих последовал его примеру, но для других союзников сдержать войска, превратившиеся в разнузданную орду, было крайне тяжело, а порой и просто невозможно. Впрочем, поведение противников, таким образом, было вполне логично, если вспомнить, что римляне были защитниками, а гунны захватчиками.
Другим интересным фактором стало взаимное влияние противоборствующих сторон. Римляне улучшили свою кавалерию, а гунны подтянули пехоту. Римляне совершенствовались в стрельбе из лука, велиты осваивали атаку рассыпным строем, а гунны учились лучше владеть мечом и тверже стоять в пешем строю. Все достижения одной стороны тут же копировались другой. Война всегда способствует развитию средств разрушения.
На долю населения Галлии выпало много страданий, и особенно тяжело пришлось северянам, несмотря на то, что своей главной целью Аттила ставил подчинение вестготов Аквитании. Итогом его похода явилось уничтожение целых деревень и даже больших городов. Многие из них так и не были восстановлены. Картину разорения дополняли вырубленные леса, выжженные и вытоптанные поля, изуродованные дороги, разрушенные речные порты, горы смердящих трупов, грозящих эпидемиями.
Война стала заключительным страшным аккордом, довершившим лавину бедствий, обрушившихся на Галлию. Неурожаи и призыв крестьян в армию подкосили сельское хозяйство, в городах начался голод, увеличилась смертность от болезней, еще более усугубившая убыль населения в результате военных потерь.
Лишениям подверглись не только жители районов боевых действий — вся страна так или иначе почувствовала тяготы войны. Историков поразило искреннее добровольное содействие общей победе, которое временно сплотило все народы Галлии и создало некоторую иллюзию прочного национального единства.
Одержав победу, Аэций мог надеяться, что спас Империю и что Галлия останется ее провинцией. Но сама Империя была надломлена и разорена войной, и, разгромив врага, Аэций оказался еще слабее, чем был в начале войны. И что особенно важно, победа во многом была заслугой галлов, ибо они изгнали захватчиков со своей земли, и хотя им, как и прежде, пришлось выступить в роли защитников Империи, это совершенно не вело к развитию у них проимперского мышления. Их стремление к независимости только усилилось после всех пережитых лишений, от которых они смогли избавить себя сами. Многие стали задаваться вопросом, не будет ли Галлия втянута в чуждые ее интересам войны, если останется в составе Империи? В итоге — не имея, впрочем, большого выбора — галло-римляне предпочтут смириться с соседством других варваров и со временем образовать единую с ними нацию, чем продолжить сопротивление их натиску, даже после одержанной победы. Спустя всего несколько лет после смерти Аттилы, когда при Хильдерике, сыне Меровея, расселения франков уже было не сдержать, священник Сальвиан, автор трактата «О Божьем промысле», напишет: «Римляне (имеется в виду, галло-римляне — галлы, жившие под властью Рима) не желают впредь быть подданными Рима; они молят Небеса позволить им жить, как они живут, совместно с варварами».
Вскоре преемник Аэция уже рассматривался как помеха для единства галло-франкского королевства — и эта помеха будет устранена. Аттила, полагая, что творит благо, на деле покалечил страну, которая в результате осознала свои силы, но вместе с тем и пределы своих возможностей, и, столкнувшись с худшим из зол, научилась выбирать для себя меньшее.
Скрестились два меча Марса. Их ждали еще более яростные и кровавые битвы, но эта жестокая дуэль Аэция и Аттилы принесла победу третьей стороне, второстепенному персонажу драмы — франкам!
Можно сказать, что оба они, сами того не ведая, обеспечили единство и независимость страны, ставшей сначала Франкией, а затем — Францией.
XI
Мец, но не Париж
Аттила заявил о своем твердом намерении взять Мец: ему был необходим триумфальный захват какого-либо важного города. Кроме того, Мец мог стать наилучшей исходной позицией для намеченной им кампании.
Следуя римской стратегии и опираясь на собственный опыт создания укрепленных пунктов в центральной части своей огромной империи, он оставлял гарнизоны во всех захваченных землях, что не мешало ему также формировать крупные группировки войск, которые должны были действовать в различных направлениях, но на достаточно близком расстоянии друг от друга, чтобы можно было оперативно собрать всю армию или создать более мощное войсковое соединение.
План Аттилы был следующим: подавляя встречающиеся по пути отдельные очаги сопротивления и оставляя гарнизоны в укрепленных лагерях, стремительным броском достигнуть Южной Галлии, где атаковать и разбить войска вестготов Теодориха (который должен был попытаться помешать гуннам проникнуть дальше в Аквитанию), до того как с ними соединится Аэций, все еще находившийся в Италии, и «прижать» последнего в предгорьях Альп.
Из Меца на юг вели две дороги: одна — через Лангр, Шалон-на-Соне, Лион и долину Роны; другая — через Реймс, Труа, Орлеан, долины Луары и Вьены. Аттила пока еще не сделал выбора, хотя уже склонялся ко второму пути, так как его манил Реймс, а захват таких известных городов, как Лютеция Паризиев и Орлеан, бывший Кенаб Карнутов, впоследствии Аврелиан, преумножил бы его славу. Кроме того, Аттила был не прочь провести Аэция, соединившись со своими сообщниками в долине Луары.
История этих сообщников такова. Жили некогда между Доном, Волгой и Каспием кочевники аланы, рыбаки, охотники и скотоводы. Они, кстати, и дали Волге одно из ее первых названий — Ра. Теснимые белыми гуннами и сарматами, они совершили великий переход на Запад, подвергая разграблению все, что попадалось по пути. Они тайком перебрались через Дунай и Рейн: всадники — гуськом, в колонну по одному, кибитки — по ночам. Прорвались, наконец, в долину Оба, ограбив, разумеется, всех, кто встретился по дороге, а оттуда разбрелись в разных направлениях. Наиболее многочисленная группа пересекла Галлию по диагонали и прошлась по Пиренейскому полуострову, откуда многие отправились в Африку. Другие же взяли курс на Луару и Луар, а оттуда растеклись во все стороны, опустошив весь северо-восток, Лимузен и Ангумуа (область вокруг Ангулема). Часть аланов была перебита, другие же осели и смешались с местным населением, но многочисленные банды их еще бродили по берегам Луары, Луара, Луаре, Эндра и Шера, испытывая особое расположение к Сол они и туренской равнине.
Им вольготно жилось в галльских лесах, полных дичи, на берегах рек, тогда еще кишевших рыбой, и зеленых лугах долин. Аланы превратились в небольшой оседлый народ, который жил земледелием, скотоводством и охотой, строил деревянные домики и процветал, пока из-за Рейна не пришли, опять-таки скрытно, навестить своих орлеанских и туренских соплеменников новые волны аланов-переселенцев. Эти уже не тратили время на грабежи, стремясь как можно быстрее пробраться в хлебные места и строго выдерживая курс на Луару и Солонь. Вождь пришлых аланов, волосатый коротышка Сангибан, обосновался вблизи Шеверни или Шамбора и, не встретив возражений, провозгласил себя королем. Он ввел некоторую иерархию, отражавшую различия в образе жизни его оседлых и кочевых подданных, сформировал сильный отряд телохранителей, который составлял костяк его войска во время набегов, а в свободное от ратных дел время занимался охотой и рыболовством.
Сангибан вызвал серьезное беспокойство у галло-римлян, так как, несмотря на оседлость части его народа, он совершенно не стремился слиться с местным населением и больше походил на захватчика, чем на гостя. Желая задобрить вождя аланов и оправдать, хотя бы теоретически, его присутствие на земле Галлии, Аэций решил привлечь его к обеспечению коллективной безопасности, официально поручив ему охрану района Луары. Аттила знал Сангибана, и получше, чем Аэций, справед.і?пю считая его продажной шкурой, неспособным соблюдать верность и дисциплину, готовым принять сторону того, кто больше заплатит, и предать римлян в любой момент. Назначение его главным стражем Луары явилось для Аттилы подарком судьбы. Но он знал, что Сангибан, этот жулик, став большим человеком в Галлии, имея собственное сильное войско, непременно начнет торговаться.
Аттила приближался к Мецу. От Тьонвиля он послал одно «крыло» к Брийе. Этот фланговый отряд спустился в направлении Коммерси, свернул с трети пути и поднялся к Мецу с юга, где и остановился. Другой прошел по течению Мозеля и подошел к Мецу с запада. За этим отрядом вскоре последовал третий, который двинулся к Буле, откуда взял направление на Шато-Сален, повернул, проделав четверть пути, и осадил Мец с востока. Наконец, основные силы под личным командованием Аттилы выступили в поход и вышли по прямой от Тьонвиля к Мецу с севера, замкнув кольцо окружения.
Но, прежде чем взять сильно укрепленный город, предстояло истребить отступавшие к нему отряды франков. Следовало прижать их к крепостным стенам и уничтожить, а затем уже переходить к штурму города. Кроме того, надо было связаться с мозельскими багаудами, поддержку которых обещал Евдоксий, чтобы те перебили всех, кто сумеет вырваться из осады до решительного штурма.
К багаудам были направлены эмиссары. К великому разочарованию гуннов, выяснилось, что псевдобагаудская банда Шато-Салена, состоявшая из бывших дезертиров, на которых можно было положиться в борьбе с римлянами, была полностью вырезана багаудами с запада от Нанси, решивших защищать галльскую землю. Сильная группировка багаудов из Коммерси заключила договор с мощным галло-римским гарнизоном Бар-ле-Дюка. Сен-Дизье стал мобилизационным центром крестьянского ополчения. Гунны не только не могли рассчитывать на поддержку багаудов, но и были вынуждены послать несколько «диких» конных отрядов, чтобы запугать ополченцев и отбить у них всякое желание прийти на выручку осажденным. Последнее не составило большого труда, так как отряды багаудов, войска ополчения и римские гарнизоны находились далеко от Меца и решили оставаться на своих местах, чтобы воспрепятствовать вторжению на собственные земли. Мец был предоставлен собственной судьбе.
Другое разочарование: возле города не было замечено ни одного франкского отряда. Движение огромных масс гуннов не могло укрыться от франков, и большая часть их когорт заблаговременно отступила в укрытия, надеясь на возможность атаковать осаждающих или же позже сдержать их продвижение. Остальные воины, главным образом местные жители, просто вошли в город и присоединились к его защитникам, щедро поливая штурмующих кипящим маслом и осыпая камнями.
Таким образом, гунны без труда подошли к Мецу с четырех сторон. Именно легкость похода и вызывала их досаду, поскольку им не удалось встретить и уничтожить ни одного вражеского отряда. Аттила постарался приободрить своих воинов, рассчитывая, что теперь защитников города оказалось больше, чем нужно, и запасы продовольствия иссякнут гораздо быстрее. Он не подозревал, что Мец был превращен в образцовую крепость и были сделаны все необходимые приготовления к долгой и изнурительной осаде. Если бы гунны надолго застряли у городских стен, им пришлось бы испытать голод гораздо раньше, чем осажденным.
Осада началась с обычного предложения капитулировать: сложите оружие и спасете свои жизни, только воины должны покинуть город и перейти в охраняемый лагерь, где с ними будут хорошо обращаться, город же не подвергнется ни пожарам, ни грабежам, а честь женщин не будет поругана. В ответ со стен посыпался град стрел и камней.
Глашатай снова воззвал к осажденным: осада продлится до падения города, и тогда уж капитуляция будет без всяких условий. Герольд подошел слишком близко и был убит. Метко брошенное копье попало ему в лицо.
Аттила приказал войскам встать лагерем, и много дней прошло спокойно: ни приступов, ни вылазок, ни попыток снять блокаду извне. Стены города были неприступны, и потерявший терпение Аттила приказывает пробить ворота тараном. Кипящее масло умерило пыл атакующих.
Ночью на все лагеря гуннов — северный, южный, восточный и западный — обрушился град снарядов. Стреляли все городские баллисты, катапульты и «скорпионы».
Утром Аттила пускает в ход свои катапульты. Увы! Только несколько каменных ядер перелетело через укрепления, а повреждения городских стен оказались едва заметными. Некоторое удовлетворение Аттиле доставили «тяжелые лучники», обстрелявшие город стрелами с горящей паклей. В городе был замечен небольшой пожар.
Осада продолжалась. Новый глашатай, в шлеме, панцире и кольчужной маске, сделал последнее предложение: в случае добровольной сдачи женщинам и детям даруется жизнь, если же горожане не внемлют разуму, осада продлится, пока они не передохнут с голоду до последнего человека. В ответ в него выстрелили из катапульты… мешком муки, который разорвался у его ног.
Терпение иссякло. Аттила отправил гонца к Эдекону с приказом явиться к городу с лучшими катапультами и баллистами и самыми мощными и совершенными таранами. Эдекон прибыл с самой современной военной техникой гуннов: окованными железом таранами с защитной крышей на раме и таранами «камнедёрами» — огромными стволами, имевшими на конце такие же огромные металлические «когти», при помощи которых можно было выбивать камни из каменной кладки, уже поврежденной обычным тараном. Эдекон доставил также снаряжение для рытья подкопов и гигантские катапульты, которые стреляли не слишком высоко, но могли разрушать крепостные стены.
Лагерь был отведен подальше от городских укреплений, чтобы избежать урона от летящих осколков камней и падающих стен. Воины, управлявшие осадными машинами, были защищены шлемами с широкой смотровой щелью спереди и спинным щитком, уберегавшим от кипящего масла.
Ворота выдержали несколько приступов и даже не дрогнули. От бомбардировки на стенах кое-где появились редкие едва заметные трещинки, совершенно не похожие на пролом. «Камнедёры» ничего не выдрали, если не считать нескольких выцарапанных камней. Под стены подвели подкоп, на который возлагались определенные надежды, но кладка так и не обрушилась.
Гнев Аттилы перерос в бешенство. Утром, к удивлению и замешательству своих командиров, он приказал подготовиться к организованному отходу. Войска строились, соблюдая порядок и дисциплину. Великая мечта о славной, ошеломляющей победе над знаменитым городом с давней историей таяла на глазах. Ярость Аттилы передалась его воинам. Аггила чувствовал себя униженным и боялся растерять престиж. Возможно, он хотел уйти и потому, что ожидал подхода франков и галло-римских легионов. На месте оставался только Эдекон со своими таранами, баллистами и прочими машинами с малочисленным прикрытием. Он уже приказал привести в походное состояние осадное снаряжение и присоединиться к уходящим войскам. Под издевательский хохот осажденных, взиравших на отступление с высоты городских укреплений, воины двинулись в путь. Но не прошли они и пятисот метров, как раздался оглушительный грохот: обвалилась почти вся южная стена.
Эдекон с великим трудом удержал воинов прикрытия, с радостными воплями бросившихся к пролому. Он обеспечил охрану катапульт и послал гонца к отступавшим войскам. Даже Аттила потерял контроль над собой. Вся армия в один момент превратилась в неуправляемую толпу. Исчезли вожди, иерархия и порядок. Это была некая бессмысленная сутолока прорвавшегося из загона стада.
Защитники города оказались в полной растерянности. Катапульты молчали. Лучники, наконец, вспомнили, что надо стрелять. Судорожно разбирались копья и дротики. Штурмующие падали под градом стрел, но новые волны наступавших перекатывались через завалы из тел убитых и шли вперед. Защитники города валились под ударами топоров и мечей, их сбрасывали со стен. Проломленные черепа, отрубленные головы, перерезанные глотки… Женщины и дети искали спасения в домах, церквях, часовнях и подворотнях. Покончив с защитниками, гунны перебили остальных. Сожгли все, что могло гореть. Подтащили тараны и снесли все дома, постройки и монументы. Резня и разрушение разворачивались с невиданной яростью и головокружительной быстротой.
Не осталось ничего. Не уцелело ни одного живого существа, ни одного дома, даже мебели. Ничего не брали — всё жгли, топтали, разбивали и швыряли. Найдя запасы продовольствия, уничтожили и их. Исключение составили только винные погреба. На развалинах города началась пьяная оргия, пляски и дикие вопли до изнеможения.
Аттила получил свою победу, показательный штурм! Эдекон стал большим человеком — такую стену разрушил!
Вожди обнялись. Радость успеха? Конечно. Но к их радости примешивалось беспокойство. Они видели, как их войска, расстроив порядок, пешие вперемежку с конными, расталкивая командиров, не слушая приказов, бросая снаряжение, неслись дикой ордой и повсюду сеяли смерть и бессмысленное разрушение. Разве можно с этой нестройной толпой дикарей привести войну к победному концу? Мыслимо ли превратить разрушителей в созидателей империи? Бич Божий обречен всю жизнь оставаться карающим орудием Господа?
Но сейчас ничего нельзя предпринять. И не стоит ничего предпринимать. Никто не смеет омрачить радость этих пьяных разбойников, устыдить их и усомниться в величии этой победы. Надо смолчать. На этот раз.
Воинов с трудом согнали в лагерь и едва нашли достаточно людей, способных держаться на ногах без посторонней помощи, чтобы выставить часовых и караулы. Прошло два дня, прежде чем снова можно было думать о продолжении похода. Все это время Аттила обдумывал и обсуждал с Эдеконом планы кампании. Решение было принято. Следующая цель — Реймс.
Войска Ореста пощадили этот город или просто пренебрегли им. В строгом порядке они перешли Маас и Эн и прошли через теснины Аргонна, эти «галльские Фермопилы», где оставили сильный гарнизон, чтобы не пропустить здесь франков Аэция. Те уже объявились в Шампани. Они были многочисленны, но плохо организованы, к тому же не ждали встречи.
Орест применил классическую тактику гуннов: атака легких «диких» наездников, затем одна за другой в дело вступают все четыре линии; окружение франкских когорт прошло не без труда, но тем не менее успешно, и, обойдя противника с флангов, перегруппировавшаяся конница ударила с тыла. У франков не было артиллерии, у гуннов была, но небольшая, и они не воспользовались ею. Встречная атака франкской кавалерии была отбита и, отступая, конница потеснила собственную пехоту, наступавшую более плотным строем, чем обычно. Гуннские всадники убивали коней франков, а затем легко расправлялись с оглушенными падением седоками. Подошла пехота гуннов. Орест приказал большей части своей конницы спешиться и примкнуть к пехоте. Коноводы отогнали коней на безопасное расстояние. Началась рукопашная. Гунны были лучше защищены доспехами, чем франки, и бой превратился в избиение. Последние когорты франков сдались и даже предложили перейти на сторону гуннов. Несмотря на это, Орест приказал их разоружить и всех перебить. Победителям достались все запасы франков. Это был настоящий пир. Окончив трапезу, войска выступили в поход.
Путь гуннам преградил сводный отряд галло-римлян и франков. К их удивлению Орест приказал построиться в каре. Он понял, что на этот раз противник был упрежден о его появлении и уже подготовил нападение с флангов и тыла. Но враги были обескуражены этим построением в каре, когда конница располагалась не только впереди стены из щитов пехоты, но и позади нее, готовая в удобный момент вырваться через проходы и атаковать. Они отступили без боя. Орест приказал перестроиться и атаковать. Гунны настигли убегавших врагов и перебили всех до последнего человека. Конница, посланная Орестом, встретила обходные отряды римлян и обратила их в бегство. Войска продолжили путь.
Они достигли Лана. Это был укрепленный город, стоявший на невысоком, но крутом холме. Орест разбил свой лагерь к западу от города и в течение четырех дней посылал во всех направлениях конные отряды, чтобы очистить окрестности от любого противника, осмелившегося приблизиться. Вся местность в радиусе нескольких километров была полностью вытоптана и выжжена: войска, которые могли быть посланы на выручку осажденным, посчитали бы, что крепость пала, и отошли бы назад. Всех крестьян, которых удалось захватить, вешали или распинали на кресте, скот забивали и оставляли гнить. Затем город был взят в кольцо и подвергнут бомбардировке. Никаких предложений о капитуляции. Несмотря на потоки кипящей смолы и град камней, ворота были высажены тараном. Однако за воротами гуннов ждал сильный гарнизон. Штурмующие отступили под дождем стрел, камней и дротиков. Сопротивление было столь сильным, что походило на прелюдию к контратаке. Осажденным удалось восстановить ворота и забаррикадировать проломы в стенах.
Орест выдвинул в первую линию лучников и пращников, приказав стрелять только при попытке вылазки. Такая попытка не заставила себя ждать, однако вышедшие из ворот тут же поспешили войти обратно, только уже в меньшем количестве. В течение трех дней Орест вел осаду города. На четвертый день на город обрушились снаряды всех катапульт, а с неба огненным дождем посыпались зажигательные стрелы. Ворота снова были проломлены, но гунны не торопились со штурмом. Было выставлено оцепление из лучников, которые даже не препятствовали горожанам в их тщетных попытках навесить ворота и залатать разбитые стены. Прошло еще два дня.
Наездники Ореста рыскали по округе. Повсюду распятые, повешенные, гниющие трупы людей и животных, но никаких следов римских войск. Чтобы зря не ездить, разведчики внесли свою лепту в разрушение, вытоптав и предав огню посевы.
От гуннов все еще нет никаких предложений об условиях капитуляции. На городской стене Лана показался герольд. Его послание нарочито наивно: чего хотят гунны? На каких условиях они хотят войти в город? В ответ просвистел камень из катапульты.
Городские лучники и копейщики предприняли массированную вылазку. Кавалерийской атакой гунны втоптали их в землю, прежде чем они успели отойти. Новый обстрел города из баллист и удары таранов. Город более не оборонялся. Через разбитые ворота неторопливо, без сутолоки, чуть ли не соблюдая равнение, в город входили пешие колонны гуннов. Островки сопротивления тут и там, особенно на площадях: в ход идут стрелы, дротики и кинжалы. Основные силы оборонявшихся собрались в центре периметра укреплений и дрались до последнего человека. Их тела сбрасывали с городских стен.
Орест издал дикий крик, понятый и подхваченный всеми. Войска растеклись по улицам во всех направлениях. Убийство детей, изнасилование и убийство женщин. Повсюду трупы. Зарезанные, удушенные, сброшенные со стен на каменную мостовую. Дав час на удовлетворение пороков, Орест и его командиры снова криками созывают своих подчиненных. Воины выстраиваются, после чего сбор и дележ добычи проходят в полном порядке под контролем и арбитражем начальников. Съестных припасов почти не осталось, только вино, которое также долго не задержалось в бурдюках.
Последней город покидала команда, которой было поручено систематически поджигать все, что горит. Справившись с поставленной задачей, она присоединилась к войскам на марше. Далеко были видны языки пламени, довершавшего разрушение города. Укрепления Лана будут восстановлены в 465 году по приказу Хильдерика I. В 1814 году городом овладеет прусский генерал Ф. Г. Бюлов фон Денневиц, и Наполеон 1 будет разбит под его стенами. В 1815 году город будет в течение двух недель отражать атаки войск антинаполеоновской коалиции.
После этой длительной задержки войска Ореста направились к городу Аугуста Веромандуорум, т. е. к современному Сен-Кантену. Два города разделяло всего тридцать восемь километров. Жители второго узнали об ужасной судьбе первого. Предчувствуя, что пришел их черед разделить участь Лана, горожане избрали иную тактику. Основные силы защитников расположились вне города на небольшом удалении от крепостных стен.
Орест также изменил тактику. Он бросил на защитников города «дикую» конницу гуннов и действительно диких франков Вааста. Обе стороны понесли чувствительные потери: Вааст был убит, но сен-кантенцы дрогнули и начали отступать к городским укреплениям. Дальше все шло по классическому сценарию: атака первой линии — и горожане оттеснены еще дальше, удар второй линии — и обороняющиеся прижаты к стенам, в бой вступает третья линия — и обороняться больше некому. Уцелевшие пробиваются к воротам, их впускают внутрь, но не успевают закрыть ворота — в город врывается четвертая линия. Резня, убийство женщин и детей, укрывшихся в церквях и часовнях, изнасилования, сбрасывание со стен, размозжение голов и перерезание глоток, захват добычи, поджоги и разрушение. Город был восстановлен лишь в 645 году святым Элоем, который дал ему имя Сен-Кантен в честь святого, принявшего мученический венец в 287 году, и основал коллегиальную часовню. В 1557 году, после жестокого боя у городских стен, Сен-Кантен, оборонявшийся до последней возможности, был захвачен испанцами под предводительством Филибера-Эммануэля Савойского. В 1870 году, после героической обороны национальными гвардейцами под командованием префекта Анатоля де Лафоржа, он был вынужден капитулировать перед прусскими войсками. В августе 1914 года город захватывают немцы. В 1918 году, после трехдневных кровопролитных боев, французы освобождают наполовину разрушенный Сен-Кантен.
Отдохнув и набравшись сил, войска Ореста, практически не ослабленные даже гибелью франков Вааста, направились, методично и без спешки уничтожая все на своем пути, к Реймсу, где должны были соединиться с Аттилой.
Аттила подошел к Реймсу. Там уже знали о судьбе Лана. У слабо защищенного Реймса с укреплениями из наваленных друг на друга камней и деревянного частокола не было ни малейших шансов устоять.
Епископ Никасий в лучшем праздничном облачении вышел из города в сопровождении церковных служителей. Во имя Всемогущего Господа он пришел просить императора гуннов пощадить город и не проливать крови невинных. Сам он готов был остаться заложником, обещая, что жители Реймса не предпримут никаких военных действий. Говоря медленно, чтобы его хорошо понимали, Никасий напомнил, как Дурокорторум открыл ворота Цезарю, и тот пощадил город, признав его официальной столицей ремов.
Чуть свесившись с коня, Аттила внимательно слушал епископа. Но тут, растолкав священников, к Никасию пробился какой-то гуннский воин и ударом меча снес ему голову. Как по сигналу, воины бросились к городу. История повторилась. Аттила даже не захотел после этого войти в Реймс и удалился со своей личной охраной на некоторое расстояние от пепелища, в которое превратился город.
Восстановление Реймса началось на следующий же день после смерти Аттилы. Крестьяне и ремесленники окрестных сел стали жителями вновь отстроенного, пока еще деревянного городка. С 459 года Реймс стал резиденцией архиепископа. Архиепископом был избран двадцатидвухлетний сын графа Ланского Ремигий, само имя которого указывает на семейные корни. Этот Ремигий стал другом франка Хлодвига, потому что встал на его сторону в борьбе с римским патрицием Сиагрием, преемником Аэция!.. В Реймсе же Хлодвиг принял святое крещение. Ирония истории.
Аттила привел свое войско к западным окраинам Эперне и держал речь, которую все должны были хорошо запомнить: ни один город не может подвергнуться нападению без его приказа; на марше должен соблюдаться безукоризненный порядок; обоз переполнен добычей, поэтому грабежи запрещаются. Берику, который только что присоединился к основным силам, поручается укрепление дисциплины, для чего под его начало выделяются необходимые силы правопорядка; команда Эслы, отменного исполнителя, получает задание обеспечить фураж и продовольствие, действуя больше силой убеждения, нежели оружия (для большей убедительности Эсле выделили большой отряд «дикой» конницы).
Войска миновали Шалон-на-Марне и Труа, пощадив оба города. У Бара-на-Обе Аттила встретился с Орестом и Онегезом, войска которых расположились между Шомоном и Лангром. В шатре Аттилы состоялся военный совет.
Аттила предоставил слово Оресту, который поведал о своих подвигах. Аттила оставил рассказ без комментариев и изложил ход собственной кампании, иногда давая Эдекону вставить несколько замечаний о роли артиллерии. Затем он прямо заявил, что был по-настоящему напуган дикостью собственных войск. Он признал, что потерял управление, не мог обеспечить дисциплину при штурме городов и избежать ненужных эксцессов. Мец надо было разрушить, но не так, как это произошло. Реймс вообще следовало пощадить, поскольку капитуляция города больше отвечала бы интересам гуннов, чем его разрушение. Только у Эперне ему удалось восстановить порядок и воспрепятствовать ненужному разорению края. Но проблема дисциплины стоит очень остро, тем более, что от ее соблюдения зависит победа во всей кампании. Потрачено драгоценное время, а через несколько дней придется встретиться с легионами Аэция, а они-то уж точно будут соблюдать образцовый порядок. Только управляемая армия будет способна одержать верх над ними.
Орест посчитал момент удобным, чтобы похвастаться собственными успехами: у него все было в полном порядке, никакой резни без приказа, добыча тщательно собиралась и надлежащим образом распределялась, города методически поджигались непосредственно перед уходом. Вот это настоящая дисциплина!
Онегез холодно заметил: «У тебя вышло не лучше. Скорее хуже». Аттила посмотрел на своего советника со столь очевидным одобрением, что Орест подпрыгнул от ярости: «Как это хуже?»
Онегез тоже приподнялся: «Сам знаешь. Ты держал людей в руках только потому, что все должно было закончиться резней и грабежом, и они это знали. Ты приказывал то, что не мог запретить. Вот твоя дисциплина. Она не только не подняла дух воинов, но и скрыла от них истинные цели похода. Мы завоевываем королевство, Орест, а не уничтожаем его».
Аттила не вступился, и Орест был уязвлен. И только у отталкивающего коротышки Скотты хватило ума выступить миротворцем: «Что сделано, то сделано. Победа есть победа. Наши люди и союзники показали себя храбрыми воинами. Наш император объявил нам, как полагается вести себя, и впредь будем так поступать. Я припас лучшие вина, так выпьем же во славу Атгилы и за его победу! Я пью также за талант Эдекона, неустрашимость Ореста, силу Берика, хитроумие Эслы, мудрость Онегеза и отвагу наших воинов!»
Войска двинулись к Лютеции. Часть их прошла между Сансом и Провеном, достигла Мелена и остановилась к югу от Лютеции. Другие отряды продвигались к востоку от Труа, к северу от Ножана-на-Сене, поднялись вплоть до Мо, достигли слияния Уазы и Сены, и взяли город в вилку с запада. Остальные войска поднялись до Витри-ле-Франсуа и по прямой прошли к Кретейю и Ножану-на-Марне, откуда одно крыло заняло позицию к западу от линии Кретей-Бобини, тогда как второе расположилось справа и слева от Аржантёйя. Кольцо окружения сомкнулось, хотя в некоторых пунктах гунны находились на значительном удалении от города.
Лютеция… Галло-римская Лютеция, некогда галльская Лукотеция — так лодочники с берегов Сены переиначили на латинский манер кельтское название Луктейх, что значит «болотистая местность».
Маленький островок посередине Сены когда-то облюбовало галльское племя паризиев. Вскоре другие роды паризиев поселились по соседству на холме Мартр и горе, получившей впоследствии имя Святой Женевьевы. Город уже давно назывался Lutetia Parisiorum, а впоследствии просто Paris — Париж. Но Париж был не только Лютецией. Он включал в себя большой посад вне линии городских укреплений — настоящий внешний город, столь крупный и оживленный, что его нельзя было назвать предместьем, поскольку в него входил весь квартал на левом берегу Сены с банями, театром, аренами и множеством жилых домов, представлявший собой своего рода огромный лагерь, укрепленный и хорошо защищенный.
Жила-была маленькая хрупкая девочка, дочь галлов Севера и Геронтии, людей богобоязненных и зажиточных, обитавших в красивой вилле в Неметодуруме, ставшем много лет спустя Нантером. Эта девочка, Геновефа (еще при жизни ее имя будет превращено народной молвой в Женевьеву), родилась в Нантере в 422 году. Ей было семь лет, когда город посетили знаменитые епископы Герман Оксерский и Лу из Труа, которые благословили этого хилого, но не по годам смышленого ребенка, поражавшего религиозным пылом весь Нантер и его окрестности. Герман подарил тогда Женевьеве серебряный крестик и пообещал вернуться. Они увиделись снова спустя восемь лет, в Париже, где девушка жила у своей набожной крестной после смерти своих родителей. Она по-прежнему была хрупка, но стройна, с пышными волосами, ниспадавшими на ее плечи, нежна, мила и улыбчива. Она проводила ночи напролет в молитвах и постилась больше, чем следовало. Такое благочестие, казалось, подрывало ее здоровье, но, несмотря на внешнюю хрупкость, она была полна сил. Женевьеву посещали видения Христа и святых Фомы, Павла, Петра и Мартина. Она могла даже творить чудеса: крестная, кашлявшая кровью, исцелилась от простого наложения крестного знамения; от одной ее молитвы хромой нищий, споткнувшийся и упавший на улице, встал совершенно здоровым и ушел не хромая; соседская девочка-заика избавилась от своего недостатка, чудесным образом прекратились колики, мучившие служанку. Герман объявил, что Женевьева «посвящена Господу» и что у нее дар заступницы.
Женевьеве минуло тридцать лет. Несмотря на все посты и утомительные молитвы, здоровье ее ничуть не пошатнулось, а даже несколько окрепло. Она совершает добрые дела, раздает милостыню, организует сборы пожертвований в пользу бедных, исцеляет больных, обучает неграмотных чтению Евангелия; она становится сиделкой, учительницей, благодетельницей и заступницей; она и странница, и затворница, молчальница и красноречивая вещунья, улыбчивая и строгая, сдержанная и полная энтузиазма, она — Ангел Господень, Божья Избранница.
И вот пришли гунны — дикие, ужасающие, неумолимые и непобедимые. Парижане в страхе и смятении: Бич Божий стучится в их двери. Гуннам мешали болота. Они умели наводить гати, но здесь топкая грязь простиралась до самых крепостных стен. Гунны не предпринимали попыток штурма, возможно, они ждали капитуляции. У горожан еще оставалась возможность вырваться из сжимающегося кольца окружения. Париж не мог выдержать долгой осады, и в первую очередь из-за недостатка питьевой воды.
Парижане собрались на сходку, дабы обсудить, что делать дальше. С болью в сердце было принято решение: под надежной охраной и со священниками во главе все женщины и дети покинут город и укроются в Новигентуме (Сен-Клу) и богатых селах в окрестностях нынешнего Версаля; если беглецы наткнутся на вражеский лагерь, они вымолят право прохода или прорвутся с оружием в руках, но ведь путь почти свободен — и не нарочно ли? Затем, ночью, город оставят мужчины. Брешь в кольце блокады позволяла надеяться, что многие сумеют пройти к востоку от Аржантёйя и достичь Кормейя и Понтуазы. Прорыв через Нантер и Рюль с выходом на Лувесьен и Гриньон также казался вполне осуществимым. На восточной стороне, с которой подошел сам Аттила, будет специально поддерживаться иллюзия подготовки к вылазке, чтобы отвлечь внимание от западной, откуда намечалось бегство. Те, кто не сможет бежать (возможно, что и все), сдадутся на милость победителя, спустившись вниз с крепостных стен, дабы выказать осаждавшим полную покорность. Все настигнутые во время бегства также сложат оружие и будут умолять сохранить им жизнь.
И тут в собрании появляется Божья Избранница, возвещая, что гунны не нападут, если горожане останутся на месте и будут молиться Богу; женщины осуждают малодушных, помышляющих о бегстве и готовых отдать город на разграбление и разрушение; они укрылись в церкви Святого Стефана и соборе Божьей Матери на западной стороне и забаррикадировали все входы и выходы; у них достаточно припасов, чтобы в течение многих дней прокормить себя и детей, которых они забрали с собой; следует остаться и читать молитвы, незачем охранять ворота и стены, слово Божье — вот истинная защита, все должны молиться и ждать скорого снятия осады.
Ошеломленные мужчины подумали, что перед ними сумасшедшая. Многие задавались вопросом, не является ли она орудием мести Господа и не влечет ли она их к смерти и наказанию муками ада? Часть была склонна считать ее просто изменницей на службе гуннов. Люди в гневе уже подступили было к ней, но отпрянули перед крестным знамением.
Но что же делать? Женщины добровольно затворились в храмах? Мужчины бросились к церквам, вопя и барабаня в двери… и услышали эхо псалмов. В ярости они вернулись к Женевьеве. В нее полетели камни, но ни один не попал в цель. Она опустилась на колени посреди площади и начала молиться. Многие мужчины обнажили головы, пали на колени, и нестройный хор тысяч голосов, поющих псалмы, донесся, наверное, до аванпостов Аттилы.
А на рассвете все гунны ушли.
Что же произошло?
Было высказано немало предположений:
— Аттила отступил, устрашившись мощных укреплений и болотистой местности;
— Аттила не испытывал ни малейшего желания возглавить очередную бойню и предпочел оценить дисциплинированность своего огромного войска, неожиданно приказав отступить;
— Аттила не решился на продолжительную осаду, которая могла задержать его у Парижа, и Аэций получил бы возможность беспрепятственно перейти через Альпы и подойти к нему, соединившись с войсками вестготов;
— Женевьеве удалось направить к Аттиле эмиссаров, которые смогли убедить его, что город неприступен и гарнизон сумеет продержаться до подхода легионов и наемников;
— Женевьева сумела направить к Аттиле толковых священников, которым удалось убедить вождя гуннов, что от проявленного милосердия еще ярче воссияет его слава, для чего он должен демонстративно пощадить город, который мог бы взять без малейшего труда;
— от Сангибана прискакал гонец, сообщивший Аттиле о сборе галло-римских сил к югу от Луары, продвижение которых аланы в одиночку не смогут остановить;
— и, наконец, произошло «чудо святой Женевьевы»: Милосердие Господне отвело занесенный Бич Божий.
Париж пел псалмы и возносил молитвы три дня и две ночи. Богослужения шли одно за другим. Женевьева стала предметом обожания и почитания всех парижан. Еще при жизни она стала святой покровительницей города. После смерти Германа Оксерского, также провозглашенного святым, она основала небольшую молельню, получившую его имя, на месте которой сто лет спустя была воздвигнута церковь Святого Германа Оксерского.
Но на том карьера святой покровительницы Парижа еще не завершилась, и, став образцом веры, она показала и пример героизма. В 488 году Парижем решил завладеть Хлодвиг. Осада затянулась. На этот раз город не думал о капитуляции, несмотря на лишения. Женевьева собрала небольшую команду умных и смелых парижан, которым чудесным образом удалось вырваться из города и добраться на лодке до Арсина-Обе. Женевьева со своими людьми смогла снарядить флотилию барок со съестными припасами и доставить груз — чудесным образом? — в осажденный Париж. Горожане оказали ей триумфальную встречу: она избавила их от голода!
Хлодвиг, удивленный доносившимися до него радостными криками парижан, решил узнать, в чем дело. Глашатаи начали переговоры. Женевьева обещала Хлодвигу, что Париж откроет ему ворота, если он поклянется стать его защитником. Хлодвиг согласился и — вот это действительно чудо — на сей раз сдержал слово. Быть может, это небывалое происшествие и подвигло его избрать Париж своей столицей.
Женевьева — святая Женевьева Парижская — почила с миром в своем любимом городе спустя год после смерти Хлодвига, в 512 году, немного не дожив до девяноста одного года.
XII
Утраченные иллюзии
Audaciores sunt semper qui inferunt bellum. Иордан утверждает, что Аттила часто произносил эти слова. Это был его любимый афоризм, девиз, его убеждение. Это был главный принцип его стратегии.
Предлагают самые разные варианты перевода этого изречения: самыми отважными всегда являются те, кто несет войну; самыми отважными всегда являются те, кто начинает войну; самыми отважными являются те, кто всегда бросается в бой; самыми отважными всегда являются те, кто нападает; самыми отважными являются те, кто всегда нападает.
Слово bellum, война, также употреблялось, хотя и реже, чем pugna, в значении битвы, сражения. Тит Ливий в своей «Истории Рима» использует его в обоих значениях. С не меньшей уверенностью можно утверждать, что Юлий Цезарь в своих «Записках о Галльской войне» употреблял выражение inferre bellum в значении и вести войну, и нападать, и бросаться в битву.
Кроме того, особенно в поздней латыни, была возможна инверсия semper, что позволяет прочитать одно и то же выражение как самыми отважными являются всегда те… равно как и самыми отважными являются те, кто всегда…
Эта фраза если и стала любимой поговоркой Аттилы, то несомненно благодаря возможности двойной трактовки. Она подходила ему в любых условиях: самыми отважными всегда являются те, которые первыми начинают войну — эффект внезапности, и самыми отважными являются те, которые всегда бросаются в бой — это значит, что лучше напасть самому, чем ждать, что нападут на тебя.
Но всегда ли так хорошо быть «самым отважным»? Не значит ли это систематически идти на большой риск и подвергаться опасности?
Audaces fortuna juvat — удача смелых любит. Суеверный Аттила любил эту поговорку и считал ее истиной. Еще в Равенне, совершенствуясь в латыни, он читал Вергилия и хорошо запомнил его знаменитое изречение, впоследствии причисленное к народной мудрости в несколько искаженном варианте: Audentes fortuna juvat — фортуна благосклонна к отважным.
Воевать, нападать… Но снял же Аттила осаду с Парижа, даже не предприняв попытки штурма?
Какова бы ни была причина, которой пытаются объяснить его поведение, основным мотивом, похоже, являлось желание идти вперед, как можно дальше и как можно быстрее. Это означает нападать. Напасть первым и избежать неожиданного нападения. И когда Аэций подойдет — а это равносильно нападению, — его надо атаковать и отбросить за пределы Галлии. Итак, стоит поторопиться.
Аттила остался верен раз выбранному пути и отбыл в направлении Орлеана. Город мог быть сдан ему без боя: Сангибан как представитель римской власти сумел бы проникнуть в город и открыть ворота. Если бы это не удалось, войска аланов могли бы начать осаду в ожидании подхода гуннов. Затем Сангибан вернется к охране рубежей на Луаре, но уже в пользу Аттилы. Сам же император гуннов совершит бросок на юг, прижмет в подходящем месте вестготов и, перебив союзников римлян, отбросит назад легионы Аэция. Вот так выглядел превосходно разработанный план кампании.
К Сангибану поспешил Эсла. Этот великолепный наездник так лихо управлялся с конем, что успел вернуться, исполнив поручение, когда Аттила не добрался еще и до Фонтенбло. Все складывалось наилучшим образом. Эсла сам видел, как Сангибан с отборной частью своего войска направился к Орлеану. Но через несколько километров гуннов постигло жестокое разочарование.
Загнав коней, из Лиона прискакали трое разведчиков. Им удалось узнать из надежных источников, что Аэций уже в Арле! Больше им ничего не известно, и они не могут сказать, сколь многочисленно его войско.
Аэций в Арле!
Мечта рассыпалась в прах. Весь план кампании рухнул. Не осталось ни малейших надежд оттеснить римские легионы обратно в Альпы. Больше нельзя рассчитывать на уничтожение вестготов до столкновения с Аэцием. Никогда еще Аттила не был так обескуражен. Что делать? Вернее, что он может теперь сделать?
Вполне вероятно, что он думал об отступлении. Бросить все и отступить, а затем, чтоб дважды не ходить, отыграться на Марциане Константинопольском.
В Галлии ситуация безнадежна. Сказались последствия всех промахов, которые он совершил или не сумел предотвратить. Это и длительные осады на северо-востоке Галлии, и затянувшиеся грабежи и резня жителей, пьянство и продолжительные остановки, медлительность перегруппировок.
Свою лепту внесли и рейды, передышки для восстановления дисциплины, поиска новых целей и обдумывания плана дальнейших действий. Как он теперь сожалел о времени, потраченном под Мецем! А совершенно ненужное разорение Реймса! Быть может, прав был Орест в своей беспощадной жестокости, уничтожая всех и вся строго по плану и устанавливая лимиты времени на разоружение противника, насилия, убийства и поджоги!..
К счастью, рядом был Онегез. Онегез, ближайший друг, мудрый советник и холодный ум. Ни чрезмерного оптимизма, ни излишнего пессимизма, вечный прагматик. Храбрый, но не теряющий самообладания. Полностью свободен от предрассудков и суеверий. Убежден в цивилизаторской освободительной миссии гуннов. Верил в необходимость «третьей силы» в лице гуннов для обуздания происков обеих, Западной и Восточной, Римских империй.
Онегез посоветовал не впадать в отчаяние и не показывать даже малейшего беспокойства командирам и войскам. Война имеет свои превратности. В данном случае сложилась особенно тяжелая ситуация. Нужно найти выход, и для этого нужна лишь твердость и неустрашимость вождя. Только и всего. Так вперед, на Орлеан!
Увы! Увы! Аттила, решивший обмануть шпионов врага, сделав вид, что намерен встать лагерем в Монтагри, был сражен, не дойдя восьми километров до этой деревушки, еще одной ужасной новостью. Сангибан с сильным войском, как и планировалось, подошел к воротам Орлеана и объявил, что ему поручено укрепить оборону города и его когорты дождем стрел с крепостных стен посеют панику в рядах гуннов; а кроме того, он привез с собой запасы продовольствия на случай, если осада затянется, несмотря на храбрость его воинов.
И тут какой-то викарий, маленький смешной викарий, залез на стену и ответил, что ему-де надо посоветоваться с епископом и начальником гарнизона и что он очень скоро сообщит ему их решение. Через два часа он снова появился на стене и заявил, что Орлеан рад предложенной поддержке и аланы, несомненно, сумеют надежно прикрыть подступы к городу. Благодаря такой защите город станет воистину неприступным, и если, паче чаяния, аланам не удастся отбросить врага, Орлеан будет храбро сражаться и выдержит даже длительную осаду. Воинов в городе много, они храбры, как львы, запасов продовольствия вполне достаточно, так как все меры были приняты своевременно. О том, чтобы открыть ворота, не может быть и речи.
После безуспешных переговоров Сангибан был вынужден уйти, не осаждая города, так как это было бы нелепо и сделало бы невозможным впредь любое соглашение.
Еще одна утраченная иллюзия! Военная хитрость не удалась. Предстоял штурм города, более укрепленного, чем предполагалось, и его нужно было покорить любой ценой, чтобы избежать неприятных сюрпризов в тылу.
Вновь разочарованный Аттила приказывает войскам расположиться между Бон-ля-Роланд и Бельгардом.
Audaciores sunt semper qui inferunt bellum…
Но Аттила медлил, и на сцену снова вышел Онегез.
«Кто знает, — сказал он, — где сейчас могут быть разведчики Аэция? Отступиться сейчас от намеченных планов — значит капитулировать. Народы Галлии утратят веру в гений Аттилы, освободителя и победителя. Все усилия, все достигнутые успехи пойдут прахом. Орлеан не открыл ворота, значит, надо взять его штурмом, только и всего. Но взять его надо быстро, пока Аэций не пришел на помощь его защитникам».
Епископ Орлеана Аниан был скромным человеком, которого все любили и почитали. Он правил городом, неизменно соблюдая справедливость, защищая больных и терпящих нужду. Он ввел — или восстановил — обычай бесплатной раздачи обедов нуждающимся. Родился он во Вьене, в провинции Дофине, около 395 года, и был ровесником Аттилы. По происхождению он был галлом. Прежде чем стать священником, Аниан изучал архитектуру. Став по воле народа епископом, он улучшил городские укрепления и наладил в городе сторожевую службу. Аниан состоял в переписке с известными деятелями своего времени, в частности, с Аэцием и Германом Оксерским. Он не пользовался благосклонностью императора, так как в бытность свою в Риме открыто осудил Валентиниана III за его бесчинства. Административная власть Аниана распространялась только на город с предместьями, но его власть епископа — на всю округу. Диоцез доставлял ему немало хлопот, поскольку в него входили крупные поместья, где было нелегко установить дорогие ему принципы справедливости и благотворительности, деревни вольных крестьян, которые вечно находились под двойным гнетом разбойных шаек аланов и крупных землевладельцев, и, наконец, поселения багаудов. Репутация святого помогала Аниану поддерживать добрые отношения со всеми. Вся разношерстная паства считала его своим общим духовным наставником и видела в нем посланца неба.
Аниан был заранее предупрежден о приближении Аттилы. Он никогда не доверял Сангибану и имел на это немало веских оснований. Умиротворение аланов, наступившее после того как Аэций доверил им охрану Луары, казалось ему весьма относительным и ненадежным. Естественно, он отказался открыть им ворота и, как только Сангибан ушел, немедленно послал к Аэцию в Арль — новости распространялись быстро, от епископа к епископу — сообщить, что Орлеан в опасности и не сможет долго продержаться и что галло-римские легионы должны прийти на выручку, пока еще есть время.
Ответ был неутешительным. Аэций собирал новые войска. Легионов, которые Валентиниан скрепя сердце разрешил ему провести через Альпы, было недостаточно. Аэций обещал помочь городу, но пока не мог сообщить точную дату выступления, собираясь держать Аниана в курсе. Большего он пока что обещать не мог, ибо предстояло укреплять оборонительные сооружения и готовиться к долгой изнурительной осаде.
Аттила приближался медленно, очень медленно. Большая часть его армии находилась между Шатонеф-на-Луаре и Витри-о-Лож.
Почему такая медлительность? Знал ли он, что Аэций не был намерен оставлять Арль, пока не соберет достаточное количество войск? Обдумывал ли он стратегию осады, которая позволила бы провести штурм наиболее эффективно и с наименьшей потерей времени? Существенным сдерживающим фактором, о котором можно говорить с полной уверенностью, должна была стать многочисленная и громоздкая артиллерия Эдекона. Кроме того, месторасположение Орлеана создавало множество трудностей: город стоял на перекрестке широких дорог, поэтому требовалось выставить заслоны, чтобы предотвратить возможные нападения арморикан, франков и прочих германцев; а кроме того, Луара с ее быстрым течением подходила почти под самые стены.
Следовало принять меры предосторожности: любой ценой добиться содействия багаудов, всегда готовых восстатьпротив римлян, поручить им охрану дорог, ведущих с севера и запада, и убедиться в стойкости аланов, охраняющих водный путь по Луаре.
Были посланы эмиссары. Положение оказалось весьма затруднительным. Прежде всего, багауды в большинстве своем колебались, не зная, к кому пристать. Они, конечно, опасались подхода римских легионов, но им не милее были и аланы, которых они считали союзниками гуннов. Многие почти не скрывали нежелания встать на сторону захватчика-варвара и склонялись к союзу с Римом на собственных условиях. Вместо решительных действий в подходящий момент, которые снискали бы им расположение гуннов, багауды выжидали, и было ясно, что их выбор определит судьба Орлеана.
Кроме того, Сангибана с его аланами отыскать оказалось не так-то просто. Его «воины» охотились в лесах и удили рыбку в Солони, как в доброе мирное время. Естественно, Сангибан пообещал все, что от него хотели, но когда Берик предложил ему свою помощь в охране реки, тот довольно резко ответил, что лучше знает Луару и не нуждается в помощниках, и вообще, гунны будут только мешать, что не пойдет на пользу общему делу. Недовольному Берику пришлось сдержаться.
Аттила оставил Мец 10 апреля 451 года, а к Орлеану вышел 19 мая. Несмотря на потерянное время и частые остановки, кампания разворачивалась не так уж и медленно, как можно было бы подумать.
Осада началась 28 или 29 мая. Все было подготовлено тщательно, без спешки и нетерпения. Аланы наконец появились на южном берегу реки. У них были лодки и плоты. Ни одна из сторон не направила герольдов. Просто начали, без лишних слов, осаду. Орлеанцы налаживали жизнь в окружении.
К Аттиле прибыли гонцы с плохими вестями: хотя Валентиниан III и отказал Аэцию в дополнительных легионах, это сполна компенсировалось тем, что Теодорих по ходатайству Авита решил присоединиться к галло-римлянам. Более того, он, как стало известно, готовит к походу два войска: одно, элитное, под началом своего сына Торизмонда и второе, вспомогательное, под командованием другого сына, Теодориха, которого уже сейчас именуют Теодорихом II, столь активно он участвует в управлении страной вместе с отцом. Поскольку же оба брата терпеть друг друга не могут (Торизмонд кипуч и безрассудно отважен, Теодорих — сама рассудительность и осторожность), Теодорих I возглавит командование всей армией вестготов, отдавая приказы и распределяя задачи; кроме того, он разделил власть в королевстве между четырьмя младшими сыновьями, которые хорошо ладят друг с другом и сумеют сделать все необходимое для обороны Аквитании с севера и запада.
Нерадостные, весьма нерадостные вести. Аттила все отчетливее сознавал, что ему не удастся заманить вестготов в ловушку, более того, они могли напасть на него первыми. Как говорится, audaciores sunt semper qui inferunt bellum… Надо было действовать.
Надо было действовать, тем более, что орлеанцы затеяли какие-то странные работы. Команды землекопов часто выходили за укрепления и на некотором удалении от стен возводили высокие насыпи. Гунны осыпали их стрелами, и землекопы ретировались, однако ночью они, видимо, возвращались, ибо к утру насыпи становились выше. Кроме того, они завели досадное обыкновение появляться днем в сопровождении лучников, которые перестреливались с гуннами, пока продолжались земляные работы. Большого урона от этой перестрелки не было, так как противники опасливо держались на большом расстоянии друг от друга.
Аттила наблюдал за работой горожан. Эти землекопы используют весьма любопытный метод: укладывают слоями плетни и засыпают землей. Если они полагают, что их кучки помешают штурму, то жестоко заблуждаются. Должно быть, это какой-то магический ритуал; право, чудаки эти обитатели Запада… Хотя все равно странно.
В сопровождении Эдекона Аттила проинспектировал баллисты. На этот раз их имелось предостаточно. В первом ряду стояли передвижные машины, метавшие зажигательные снаряды из подожженной пакли. Спуск производился одним воином. Их подкатят поближе к стенам, когда «дикие» всадники и, при необходимости, воины первой линии перебьют орлеанцев вне укреплений и вынудят их отступить в город. Дальше выстроились стационарные баллисты, стрелявшие на рассчитанную дистанцию. Между ними выдерживались достаточные интервалы, чтобы тяжелые снаряды катапульт могли беспрепятственно пролетать в промежутке между машинами. Немногочисленные передвижные баллисты на конной или воловьей тяге маневрировали в тылу и по берегу Луары — это было стратегическим нововведением — с целью воспрепятствовать речному десанту и заставить поверить противника, который мог воспользоваться сухим путем, в существование двух армий — одной, осаждавшей город, и второй, готовой встретить врага во всеоружии.
Закончив смотр, Аттила назначает день артобстрела, по всей вероятности 12 июня. Гунны подошли к упомянутым странным насыпям и выяснили, что это — земляные холмы, которые прочно удерживаются от осыпания плетеными конструкциями. Насыпи не позволяли подтащить стенобитные машины. Пришлось потратить почти два дня, чтобы разрушить их, причем это оказалось нелегким делом еще и потому, что с крепостных стен гуннов обстреливали баллисты горожан. Наконец проход был проделан. Заработали «паклеметы», и после уточнения наводки зажигательные снаряды стали ложиться точно за стенами. Однако пожаров было замечено мало, поскольку горожане предвидели атаку и запаслись водой.
В дело вступили баллисты и катапульты. Они были отрегулированы неважно, и все же большое количество снарядов перелетело через укрепления, а другие повредили зубцы стен. Вдруг баллисты осажденных нанесли ответный удар, причинив немалый урон осаждающим, чего последние явно не предвидели.
Эдекон отдал приказ подтащить тараны. Полный провал: горящая пакля, горящие стрелы и прочие зажигательные снаряды обрушились на саперов прежде, чем они успели подойти к воротам. Воины побежали, бросив машины. Справившись с паникой, гунны вернулись вновь и героически пробились к воротам, где их ждал душ из кипящего масла. Таран так и не ударил в ворота.
Надо было ждать наступления ночи. Застревая в глине разрушенных насыпей, гунны все-таки дотащили тараны до ворот и стен. Окованные железом бревна ударяли и ударяли, несмотря на непрерывный поток зажигательных снарядов и кипящего масла. Однако их удары были напрасны, стены не поддались. Саперы с измочаленными таранами не смогли проделать ни единой бреши. Архитектор-епископ Аниан хорошо изучил науку фортификации! Гунны отошли, только баллисты и катапульты обстреливали укрепления.
Каким чудом в подобной ситуации мог Аниан получить письмо от Аэция?..
И тем не менее он его получил. Заручившись поддержкой Торизмонда, Аэций рассчитывал подойти к Орлеану 20 июня. Невероятно! Для этого Аэций должен был разделить свои легионы таким образом, чтобы они могли параллельно перейти через Луару по всем имевшимся мостам и затем соединиться вновь, да еще выставить один легион или сильный отряд, чтобы очистить южный берег от аланов.
Значит, надо было любой ценой продержаться до 20 июня, до подхода Аэция.
Увы, масло закончилось, снаряды на исходе, вода тоже. Теперь все труднее гасить пожары, стены начинают разрушаться под непрестанным обстрелом катапульт.
На закате 20 июня Аниан, убедившись, что Аэций не пришел в условленное время, запросил Аттилу через герольда о переговорах. Встреча была назначена на пять часов утра.
Аниан вышел через северные ворота без охраны. Его сопровождали только несколько дьяконов. Аниан не облачился в епископские ризы, возможно, из опасения разделить судьбу Никасия. Его ждал Онегез, пеший и без доспехов, в окружении немногочисленной охраны. Он проводил епископа к Аттиле.
Аниан первый приветствовал вождя гуннов, но тот встал и усадил гостя. По свидетельству аббата Миня, опиравшегося на древние свидетельства, беседа длилась ровно двадцать минут.
Аниан, как потом он сам рассказывал, попросил, не веря в благосклонный ответ, снять осаду в обмен на то, что орлеанцы поклянутся не участвовать в войне против Аттилы. «Они уж точно не смогут в ней участвовать, если я велю сбросить их вниз с городских стен», — ответил Аттила.
Аниан предложил себя и своих священников в заложники, если Аттила согласится не вступать в город. «А кто же останется перевязывать раны?» — последовал ответ.
Аниан не хотел повышать тона:
— Каковы же ваши условия?
— Безоговорочная капитуляция.
— Не думаете ли вы, что епископ, отвечающий за свою паству, может на это согласится?
— У вас нет выбора.
— Напротив, пока что есть. Мы можем продолжить борьбу.
— Если бы могли, вас не было бы здесь.
— Я могу подождать прибытия подмоги.
— Вы ждали ее, и теперь находитесь здесь, потому что знаете, что к вам не придут на помощь.
— Я взываю к вашему милосердию.
— На этот раз вы поступаете разумно.
— Что это значит?
— Увидите.
— Император, я верю вам.
— Быть может, напрасно.
— Нет. Я открою ворота. Не вылетит ни одна стрела. Никто не станет сопротивляться. Я прошу вас никого не убивать. Вам не найти богатой добычи, поскольку мы действительно истощены. Не допускайте грабежей и тем более поджогов. Все, что вы захотите взять, вам будет отдано. Не забирайте священных сосудов, ибо мой Бог вам этого не простит. Отпустите меня, и через час все ворота будут открыты. Войдя в город, вы увидите, что все наше оружие брошено на землю.
— Вы только что спасли ваш город. Можете идти.
Около шести с половиной часов утра до Аттилы донеслось пение псалмов — как тогда в Париже, но при сколь различных обстоятельствах!
Ворота были открыты, все сразу. Но Аттила не входит. Он выступает с речью перед войсками, отдает приказы. Баллисты и катапульты приведены в походное положение и готовы к отправке на север, осталось только определить мосты для перехода через Луару. Лишь к полудню особые команды с повозками вошли в город собрать оружие осажденных, сваленное в кучи у ворот. Позже по пустынным улицам прошли артиллеристы, спешившие завладеть баллистами орлеанцев. К их великому сожалению, большая часть техники была установлена так, что исключалась всякая возможность ее транспортировки. Несколько мобильных машин передали Эдекону.
Около пяти часов вечера Аттила объявил через герольда, что намерен посетить город. Его сопровождал эскорт из одной-двух тысяч всадников, которые оставили коней у ворот под немногочисленной охраной. Епископ ждал Аттилу на пороге храма.
На площади были собраны сосуды, посуда, амфоры и бурдюки. По указанию Аттилы все это было перевезено людьми Берика в лагерь. В это время специальные команды ходили по домам, нигде не встречая сопротивления, и забирали драгоценности, деньги и дорогие ткани. Собрав добычу и уложив ее на телеги, пригнанные горожанами на площадь, гунны оставили Орлеан. Аттила и его эскорт в этот раз уходили последними. Аггила приказал коменданту гарнизона, чтобы городские ворота оставались открытыми.
22 июня весь день шел дележ добычи, с соблюдением полного порядка и под контролем начальников. Лучшую часть отдали союзникам: гунны не возражали, а союзники были польщены. Остаток дня и вечер прошли во всеобщем веселье и, разумеется, пьянстве. Никто даже не пытался вернуться в город.
Победу отпраздновали с таким размахом, что весь следующий день, 23 июня, был отведен на отдых. Командиры обсуждали планы дальнейших действий. Выступление было намечено на утро 26 июня. Основные силы должны были подняться по долине Луары до Роанна; там им предстояло разделиться по направлениям на Вильфранш и на Лион и спуститься вдоль Роны. Это позволило бы настигнуть на марше вышедшие из Арля войска Аэция. Другому войску, в состав которого входили гепиды и готы, предписывалось выдвинуться на Тур и Пуатье, подняться по долине Вьены до Лиможа и в окрестностях Перигё, если только на пути не встретятся вестготы, выбрать направление на Тулузу или двигаться к востоку на соединение с главной армией. Все было рассчитано, включая время и места привалов.
Часть добычи на плотах переправили аланам. Хоть они и не участвовали непосредственно в боевых действиях, но, по крайней мере, стояли на страже Луары; теперь им предлагалось продолжить охрану реки в течение всего времени намеченной кампании. Сангибана на месте не оказалось, но его помощник, заявивший, что облечен всеми полномочиями в его отсутствие, принял предложение от имени короля аланов.
К багаудам снова были посланы эмиссары, дабы узнать, будут ли они охранять край в то время, когда гунны уйдут, и воспрепятствуют ли подходу римских войск с севера или с востока? Ответы были даны довольно расплывчатые, но тем не менее сложилось впечатление, что на них можно рассчитывать. Но тут Берику сообщили неприятное известие: Евдоксия, объезжавшего багаудов на востоке Парижского бассейна, обозвали предателем, продавшимся диким захватчикам, тот пришел в ярость, и его закололи.
Во второй половине дня 23 июня, как и было предусмотрено условиями капитуляции Орлеана, довольно сильный отряд гуннов вернулся в город. Онегез прибыл уточнить с комендантом гарнизона условия нейтрализации Орлеана. Договорились, что орлеанцам возвратят часть оружия, необходимого для защиты от возможного нападения разбойных шаек, при условии, что они обязуются не вступать в какие бы то ни было военные формирования римлян. За соблюдением условий останется наблюдать гуннский гарнизон.
И вдруг послышался невообразимый шум, как будто все разом вскрикнули от удивления или страха. Онегез поспешил подняться на стену. Аттила выбежал из шатра. Невероятно, но факт! На горизонте все отчетливее виднелась огромная армия, надвигавшаяся на город с севера! Еще одна показалась с западной стороны! Аэций и Торизмонд!..
Началась невообразимая неразбериха. Баллисты и катапульты были слишком далеко, чтобы ими воспользоваться сейчас, более того, их мог захватить противник. Предстояло прорываться через живую стену вражеских воинов. Аэций неизбежно окружит весь лагерь подковой, прижав к реке. Аттила знал, что численный перевес на его стороне, но он оказался в наихудшем для него положении — положении осажденного, на него напали. Audaciores sunt semper…
К своему великому удивлению, он увидел, что уже соединившиеся вражеские армии не спешат охватывать гуннов кольцом, как он предполагал. Напротив, можно было даже предположить, что они намерены сами стать лагерем!.. Аттила сообразил: войска утомлены долгими и быстрыми переходами. Наконец-то повезло!
В его распоряжении были две возможности: переправить на другой берег пехоту на плотах и лодках Сангибана, а конницу пустить вплавь, или же на рассвете следующего дня бросить на врага заведомо обреченный отряд, что позволит вывести по обе стороны основные силы.
Но вот сильный отряд противника с баллистами приблизился к городским укреплениям, поставил большой шатер, окопался, выставил часовых. Аттила узнал военачальника с гордой осанкой, который стоял у входа в шатер. Это был Аэций.
Каковы его намерения? Долгая осада? Это не его стиль. Кроме того, припасы быстро иссякнут. Ночная атака? Маловероятно: его войска устали. Атака завтра или послезавтра, благо баллисты уже на месте? Вот это больше похоже на правду.
Но цель Аэция в любом случае заключалась не в истреблении гуннов, а в их изгнании. Аттила знал, что даже при поддержке вестготов армия галло-римлян не могла сравниться с его войском. Если Аэций узнает, что гунны хотят уйти на восток, он, вполне вероятно, не станет им препятствовать, так как стяжает славу, не обнажив меча. Аттила же где-нибудь свернет обратно. Быть может, тогда вестготы уже отправятся домой и все огромное войско гуннов обрушится на оставшихся в одиночестве галло-римлян. Audaciores sunt semper…
Однако в тот момент необходимо было знать планы Аэция, чтобы понять, как он поведет себя, если гунны отступят. Первой мыслью было направить к нему Аниана: тот выполнил бы поручение ради спасения человеческих жизней. Но по здравому размышлению Аттила решил, что это невозможно — простые гуннские воины заподозрят переговоры о капитуляции. Ни за что!
И тут его осенило! Он даже засмеялся от удовольствия. Констант! Констант, галл, бывший секретарь-советник Аэция, которого тот в свое время отпустил из собственной канцелярии на службу к Аттиле. Тактика была разработана быстро. Констант вернулся в город, один поднялся на стену напротив шатра, у которого все еще стоял неподвижно Аэций. Тот обратил внимание на одинокую фигуру и узнал своего подчиненного. Он помахал ему рукой. Констант жестами дал знать, что хочет поговорить. Аэций согласился, отослав охрану. Констант тайно пробрался в лагерь и скрылся в шатре Аэция.
Нет, Аэций отнюдь не намеревался нападать на осажденного, но численно превосходящего противника, если тот попытается уйти. Пусть только Аттила снимется с лагеря. Это все, чего он требует. Но пускай поторопится и уйдет как можно дальше! Когда? Этой же ночью.
Аэций добавил, что это решение устроит всех. Сам он прославится, одержав победу не сражаясь, покажет вестготам, как его страшатся враги и сколь полезен им союз с римлянами, если одно только его появление обратило в бегство сильного противника, а кроме того, его воины оценят, что он старается сберечь им жизнь. Аттила, в свою очередь, может преподнести свое ночное бегство так, будто он сумел гениально провести врага и ускользнуть у него из-под носа, не потеряв ни одного воина, и ему не составит труда объяснить отступление исключительно стратегической необходимостью вести войну в другом месте.
Аэций добавил и еще нечто заключавшее в себе немалую долю истины, сообщив собеседнику, что до него дошли сведения, будто империя гуннов, освободившись из-под тяжелой десницы своего господина, застрявшего в Галлии, начинала выходить из повиновения; Эллак боролся с мятежами в урало-каспийском регионе; все земли степной Центральной Азии отказались признавать власть гуннов и постепенно уничтожали их знаменитые «укрепленные пункты»; гуннские племена сцепились между собой и постепенно возвращались к разрушительному хищническому кочевничеству. У Аттилы были все основания оперировать этими аргументами.
Констант подтвердил согласие Аттилы. Гунны уйдут этой ночью. И в подтверждение благих намерений часть войск уже сегодня вечером переправится на другой берег Луары.
«Нет! — воскликнул патриций. — Нет! Я не хочу подвергаться даже малейшему риску на юге. Я сказал, что отступление должно быть в северо-восточном направлении. Я намеренно разбил свой личный лагерь перед расположением войск — моих и Торизмонда. Если ночной отход произойдет в указанном направлении, воины ничего не заметят. Ваши войска должны будут уходить двумя группами. Первая пройдет к востоку от армии вестготов, оставшись незамеченной, вторая — к востоку от моей армии, которая ее также не обнаружит. Ты проследишь, чтобы объединение групп произошло в Бельгарде. Должно быть так.
— Патриций, я позволю себе настоять на моей просьбе. Нельзя бросить аланов. Надо дать им возможность уйти с нами, если они не смогут заключить с тобой мир.
— Тебя это не касается. Не беспокойся об аланах.
— И тем не менее их нельзя бросить.
— Предоставь мне договориться с ними.
— Но, патриций, все уже готово для переправы через Луару, и я обещаю тебе лично, что гунны, которые окажутся на другом берегу, перейдут реку снова у Жиена и быстро нагонят главные силы.
— Послушай, Констант. Ты был и остаешься моим другом. Я сделал тебя другом Аттилы, и сегодня я этому рад больше, чем когда-либо. Запомни хорошенько, что я тебе скажу. Я разрешаю тебе, хотя это и противоречит моим желаниям, организовать переправу через Луару части гуннского войска. Но я тебе прямо говорю, что этим хочу только преподать еще один урок Аттиле. Я не стану препятствовать переправе. Никто не станет. Но он сам не ступит на другой берег.
— Я бесконечно верю тебе, Избранник Господа.
— Я не Избранник Господа. Я всего лишь мудрый человек, и я буду весьма удовлетворен, если покажу Аттиле, что я умнее его. Прощай, Констант».
Констант вышел из шатра и скрытно пробрался в лагерь Аттилы. Аттила поздравил его с успешным выполнением задания. Условия Аэция были справедливыми и обеспечивали ему более чем достойный выход из положения. Он поблагодарил Константа за то, что тот не уступил в вопросе о переправе через Луару. Теперь не нужно было пускать конницу вплавь, достаточно переправить под началом Берика ограниченное количество воинов на плотах и лодках. Берик объяснит ситуацию Сангибану или его помощнику.
Вдруг с южного берега донесся сильный шум. Аттила, Констант и Онегез направились выяснить, в чем дело. Эдекон, оставив артиллерию, которую противник не сумел обнаружить, стоял на городской стене рядом с епископом и комендантом орлеанского гарнизона.
Им открылось неожиданное зрелище. Довольно малочисленный отряд галло-римлян показался на южном берегу реки. Их встречали громовым ура. Аланы, которые прежде никогда не отличались дисциплиной, выставили образцовый почетный караул по обеим сторонам дороги. Их командиры вышли встретить галло-римских командиров, которые слезли с коней, чтобы дружески обняться со своими союзниками.
Все ясно: Сангибан предал и тайно переметнулся обратно к Аэцию, если только он с самого начала не вел двойную игру. До Констанция дошел теперь смысл предложений Аэция: нет, Луару перейти нельзя — потому что аланы возвратились в стан римлян, если только они вообще его покидали.
Сколько разбитых иллюзий! Уродливый коротышка Скотта повторил по следам Берика и других эмиссаров объезд ближайших багаудов. Они уже знали о приходе Аэция с Торизмондом. Нет, они не встанут на сторону гуннов. Впрочем, и к Аэцию не примкнут. Они останутся теми, кем были — закрытым сообществом, настороженно и враждебно относящимся ко всем предприятиям римлян. Они были уверены, что время работает на них и роковое столкновение двух противоборствующих сил ускорит окончательное освобождение Галлии.
Надеяться было не на что: Сангибан оказался предателем, а Евдоксий — глупцом: от багаудов помощь не придет.
Не на что надеяться? Сейчас, может быть, и так. Но в будущем — и даже уже в ближайшем будущем — все сложится по-другому. Конечно, Аттила снимется с лагеря, но на почетных условиях. Но сколь бы ни были велики опасности, нависшие над империей гуннов на Востоке, не может быть и речи о том, чтобы отказаться сейчас от завоеваний на Западе. Сперва надо разбить Аэция, а там видно будет.
Около семи часов вечера Аттила выступил с речью перед войсками. Он изложил свой план: им открылась блестящая возможность — и он берется ее реализовать — обмануть тупых вестготов и уставших с дороги римлян. Надо выскользнуть у них из-под носа. Если не поднимать шума, они не подвергнутся никакому риску. Командиры знают маршрут, надо только следовать их приказам, соблюдать молчание и не делать привалов. Перегруппировка произойдет не очень далеко отсюда, между Бельгардом и Бон-ля-Роланд — в пункте сбора, который всем хорошо знаком. Затем предстоит путь на равнину Шампани, откуда они направятся к новым победам.
Все шло по намеченному плану, и воины испытывали полное доверие к своему командующему. По дороге подобрали боевые машины Эдекона. К великому удивлению Аттилы, за отходящими войсками не следовал даже крошечный отряд галло-римлян. Впоследствии он узнал от одного галла, что на самом деле за гуннами следили во время всего перехода багауды, которые по цепочке, от одного к другому, передавали все сведения Аэцию. Все стало ясно. Багауды предпочли сотрудничать с галло-римлянами. Еще одна хрупкая иллюзия рассыпалась в прах.
На рассвете воины Аэция увидели, что противник исиез. Два всадника спешно покинули лагерь и скрылись в утреннем тумане. Они держали путь в Рим к Валентиниану III, чтобы рассказать о предательстве Аэция. Вместо того чтобы перебить гуннов, которые были у него в руках, патриций при пособничестве Констанция дал им уйти. Аэций — враг Рима!..
XIII
Твой злейший враг падет
Маститые исследователи предложили двадцать семь различных толкований этимологии Каталаунских полей. Но найдется еще с полдюжины других, выдвинутых авторами, чья единственная заслуга заключается в оригинальности идеи, что с исторической точки зрения не является весомым достоинством.
Разрешить эти давние споры не представляется возможным, равно как и выбрать одну из наиболее разумных гипотез. Все ошибки допущены из-за попыток слишком точной локализации на излишне ограниченной территории, что с неизбежностью ставит под вопрос результаты исследования.
К северу от Санса, между Ионной и Эной, протянулась цепочка равнин, которую кельты называли Катр-а-ni (земля, где мало жителей), а римляне переиначили в Campania (место, где можно стоять лагерем). Эти равнины, образуя территорию в 200 на 160 километров, сегодня составляют основу Шампани — Champagne.
На севере этот район окружают Арденнские горы, которые отделяют его от бельгийских равнин. К Рейну из Шампани вели две дороги: труднопроходимые ущелья Аргонны, которые находились под постоянной охраной, выставленной Орестом, и, на юго-востоке, длинный окольный путь через Вогезы и горный массив Юра. Эти две римские дороги, которые, впрочем, представляли собой облагороженные галльские проселки, пересекались у Каталауна или Дурокаталауна (Catalaunum или Durocatalaunum) — Шалона-на-Марне. Этот небольшой торгово-ремесленный город стал столицей галльского племени каталаунов (catalauni), научившихся делать столь превосходное вино, что даже римляне завидовали им и пытались различными мерами ограничить его производство.
Обширная территория, населенная каталаунами, называлась campus Catalaunorum, а еще чаще обозначалась как campi Catalaunorum (по одной версии под «campi» следует понимать лагерь, по другой — поля).
Существует много версий о происхождении Каталаунских полей, которые Аттила и Аэций прославили на века, но при этом никто не может точно определить их местонахождение. По наиболее распространенной версии, этот район имел стратегическое значение, и конечно же речь может идти только о военном лагере. Это место часто избирали для бивуака. Но если не полениться и рассмотреть употребление слова «campus» в латыни и поздней латыни, то в значении «лагерь» оно использовалось крайне редко. Для лагеря существовало слово «castrum», которое означало главным образом укрепленное место, гарнизонный город и обнесенный частоколом лагерь, а когда речь шла о стоянке большой массы войск, слово «castrum» употреблялось во множественном числе — «castra».
Вторая версия: Каталаунские поля назывались так потому, что часто становились полем битвы.
Хотя Цицерон и Цезарь иногда использовали campus в таком значении, это было скорее исключением, чем правилом. Поле сражения обычно именовалось «locus pugnae» и довольно часто «acies». С другой стороны, при всем своем стратегическом значении Campania не была местом большой битвы (по крайней мере, до Аэция и Аттилы) или хотя бы часто происходивших мелких стычек, чтобы стать символом поля сражения среди прочих мест, многие из которых были гораздо более знамениты!
Все намного проще. Можно со всей уверенностью утверждать, что campi Catalaunorum, Каталаунские поля, были всего лишь полями, лугами, сельской местностью каталаунов. Прежде всего, потому, что одним из наиболее употребительных значений слова campus было «место расположения, земля, территория» — в таком значении это слово чаще всего встречается у Цицерона, Тацита и Квинта Курция; campus Catalaunorum — это земля каталаунов. А во-вторых, потому что другим общепринятым значением слова campus была «равнина», что подтверждают сочинения Цезаря, Тацита, Плиния, Лукреция, Овидия и Горация. Да и Вергилия тоже: «molli flavescet campus arista» — «равнина зажелтеет гибкими колосьями»!..
Campi Catalaunorum — равнины, край каталаунов, Каталаунские поля!.. На севере протянулась гряда Арденн, а за ними бельгийские равнины — campi Belgarum — край белгов, бельгийские поля!
Таким образом, Шампань и Каталаунские поля не имеют не только общих этимологических корней, но и какого-либо этимологического родства. Шампань — Campania — как и итальянская Кампания, означала место, пригодное для лагеря, a Campi Catalaunorum были всего лишь полями, а не военным лагерем.
К сожалению, многочисленные исследователи так глубоко копали, что докопаться до истины сквозь их наносы теперь стало еще труднее. Самым распространенным заблуждением стала попытка привязать место расположения Каталаунских полей к месту известных сражений. Этот район имел большое стратегическое значение, и различные военачальники, как галлы, так и римляне, любили разбивать свои лагеря на тамошних полях.
В треугольнике великой равнины, очерченной с запада Сеной и Обом с востока, был когда-то лагерь, который называли привалом Мариака или Маврика, видимо, просто потому, что его на какое-то время избрал некий Мариак или Маврик. В середине V века его звали уже лагерем Мориака. Сегодня в дельте, образованной слиянием двух рек, расположился город Мери-на-Сене. Некоторые исследователи склонны видеть в Мери искажение Мориака (что полностью исключается современными специалистами по топонимике) и считают лагерь Мориака «Каталаунским полем».
Весьма вероятно, что был еще лагерь в Муаре. Он расположен поблизости от описанного места. Муаре может происходить от Маврика через Мориака. Но это мог быть и другой лагерь Мариака или Маврика.
Постоянные или временные лагеря устраивались и в других уголках нынешнего департамента Оба: в Труа, в окрестностях Труа, в Баре, Арсисе, Бриенне, Вандевре, Марсильи, Ножане и Ромильи… Они располагались в той самой «кампании» — месте, пригодном для лагеря, на тех самых полях, желтевших гибкими колосьями, где жили каталауны и их потомки, давшие название Каталаунским полям, на которых после Аттилы и Аэция трава еще не скоро вновь проросла.
В любом случае, невозможно установить точное место Каталаунских полей, с трудом вместивших огромную массу войск обеих противоборствующих сторон. Битва на Каталаунских полях стала одним из самых гигантских сражений в мировой истории и разворачивалась на огромном пространстве.
Сама битва происходила на территории от Эны до Сены и от утесов Шампани и Отского леса до Аргонны. Весьма вероятно, что основные силы и обоз Аттилы располагались к северу от долины Орнена недалеко от Бар-ле-Дюка. В определенные моменты сражение переходило даже в сторону долины Серры вплоть до окраин Бара-на-Сене и в направлении слияния Йонны и Сены. Отдельные стычки произошли даже к западу от Мюлуза!
Все это говорит о том, что узкое видение «Каталаунеких полей» не соответствует исторической реальности. Стоит напомнить, что через пятнадцать веков после описываемых событий «Верденской мясорубкой» назовут сражение, вышедшее далеко за границы города и его окрестностей.
Аттила двигался к Труа.
По дороге он много размышлял. Поведение Аэция задало ему немало вопросов, хотя он и не был застигнут врасплох. Он знал, что противник умен и храбр. Снисхождение как возможное объяснение отметалось сразу.
Конечно, Аэций был поражен громадным численным превосходством гуннов и понимал, что, напади он под Орлеаном, победа не была бы гарантирована, зато в чудовищных потерях сомневаться не приходилось. Но как объяснить то, что он не последовал на некотором расстоянии за армией гуннов и даже не пытался следить за их передвижением, чтобы знать, где они останавливались и, возможно, разделялись? Аттила знал, что багауды извещают римлян о всех перемещениях гуннов, но это мало помогло бы Аэцию, если бы гунны неожиданного и резко изменили направление движения.
Могло быть только одно объяснение: Аэций действительно верил, что Аттила уходил со всем, своим войском на Рейн и дальше на Дунай, оставив — хотя бы на время — планы завоевания Галлии, чтобы восстановить порядок в восточных пределах своей огромной империи.
Похоже, что так Аэций и думал, судя по тому, сколь настойчиво возвращался в разговоре с Константом к теме беспорядков. Аттила должен был непременно забеспокоиться, узнав, что слухи о волнениях в его империи достигли даже здешних мест, и воспользоваться своей гигантской армией для решения внутренних проблем. Он без труда сумел бы уговорить гепидов и остготов сопровождать его в новом походе, который принесет им только выгоды, гарантируя при этом, что битва за Галлию не проиграна и они еще вернутся сюда. Да, именно так Аэций и думал.
Аттила же замышлял прямо противоположное. Положение в дунайских и рейнских землях не вызывало у него ни малейшего беспокойства; Эллак сумеет удержать акациров, что же до остальных, то время терпит. Аттиле нужна была Галлия с ее богатствами, а на очереди стояла Италия. Вестготы, осевшие в Аквитании, быль столь дикими, алчными и злыми, что поддержка коренного населения в борьбе с ними была практически гарантирована. Вот куда надо было идти, вот что нельзя было упустить. Реализовать численное превосходство, разгромить эти так называемые римские легионы, в которых и римлян-то почти не было, воспользоваться глупостью Валентиниана III, не распорядившегося о мобилизации необходимых сил, и слабостью Аэция, который так его разочаровал.
Войска гуннов выходили на равнину, позднее получившую в широком смысле название Каталаунских полей, со всех сторон, следуя распоряжению Аттилы находиться в виду Труа. Сам он прошел между Сансом и Жуани или между Жуани и Оксером и приблизился почти к самым стенам столицы трикассов, ставшей римским городом Augustobona Tricassium, а затем резиденцией епископа Труа. Епископство было основано за сто двадцать лет до нашествия гуннов святым Аматером. Епископом был высокочтимый Jly, которого называли Лу из Туля по месту его рождения. Он сопровождал Германа Оксерского в Британию и вместе с ним познакомился в Нантере с маленькой Женевьевой. Jly дожил до девяноста шести лет и преставился в 479 году, войдя в историю как святой Лу из Труа.
Во время описываемых событий он был высоким красивым человеком, выглядевшим намного моложе своих шестидесяти восьми лет. Облаченный в епископскую ризу, он без страха поджидал Аттилу у городских ворот в окружении священников. Аттила осадил коня перед епископом и подал знак Константу, чтобы тот велел священникам посторониться и открыть ворота.
«Зачем вам входить в этот невинный город? Это город благочестия, ремесленников и купцов. Народ здесь трудолюбивый и мирный, женщин и детей больше, чем мужчин. В городе нет гарнизона, жители по очереди стоят в караулах и ходят в дозоры. Сохраните город и не навлекайте на себя громы небесные. Избиение жителей будет деянием преступным и бесполезным для вас. Господь отвергает войну и благословляет милосердие. Мой клир и я готовы следовать за вами, но мы молим пощадить город».
Епископ преклонил колени и вознес молитву.
Аттила размышлял какое-то время, не слезая с коня. Затем, обращаясь к Констанцию и указывая на прелата, отдал приказ: «Пусть встанет и следует за нами!» — и продолжил свой путь, не вступая в город. Аттила сдерживал коня, чтобы Лу и священники могли поспевать за ним. Метров через пятьсот Аттила остановил процессию: «Возвращайся, откуда пришел, епископ, твоему городу не причинят вреда». Однако именно в этот день один старый отшельник скажет ему: «Ты — Бич Божий!» Какая путаница в датах!..
Есть ошибка и посерьезней. Принято считать, что битва на Каталаунских полях произошла 20 июня 451 года. Это неверно.
Дату сражения перепутали со вступлением гуннов в Орлеан. Именно 20 июня Аттила вошел в этот город, который оставил в ночь с 23 на 24 июня. Из Бельгарда в Труа войска Аттилы двигались медленными темпами: нужно было показать Аэцию, что отход носит регулярный управляемый характер без проявлений агрессивности, и не утомить воинов перед планируемым генеральным сражением. Занятие будущих позиций проходило без спешки.
Аттила хотел, чтобы битва состоялась именно здесь, на этих ровных открытых полях, где можно было развернуться, не подвергаясь риску попасть в западню, как у Орлеана.
Он, не торопясь, выбрал место расположения своих войск и спокойно поджидал врага. Можно было не сомневаться, что Аэций, как только узнает, что он здесь, придет сюда. Патриций поймет, что это будет решающая битва, которой он не сможет избежать. Их спор будет разрешен раз и навсегда. На карту поставлено все. У Аттилы превосходство в численности, у Аэция превосходство в качестве подготовки, военной стратегии и дисциплине. Если Аэций потерпит поражение, это будет катастрофой, так как Аттила обрушится на Аквитанию и никто ему не сможет помешать; если же Аэций победит, это станет его триумфом, поскольку Аттиле не останется ничего иного, кроме как отступить через Аргонну. На карту поставлено все.
Аттила мог читать мысли Аэция. Он знал, что Аэций прикажет войскам двигаться, соблюдая дисциплину и максимальные предосторожности, будет следить, чтобы его воины не переутомились перед сражением, так что и у него, Аттилы, есть время подготовиться и успокоить нервы. Встреча двух бывших друзей не могла состояться ранее 30 июня, а скорее всего, произошла 4 или 5 июля. Реквизированного продовольствия вполне хватало, чтобы проблема снабжения не побуждала стороны поскорее избавиться друг от друга.
Сама же битва произошла не у Мери-на-Сене, и не в окрестностях Труа, и не на окраинах Шалона и Мери-на-Марне (где якобы был еще один лагерь Мориака), и не к югу от Мальи, но во всех этих местах, да и во многих других тоже.
Из Труа Аттила направился в Арциаку — Арси-на-Обе — и встретился там с Ардарихом и его гепидами, расположившимися в «лагере Мориака» в дельте Сены и Оба. Он переправился через Об и разместил своих воинов в Шалоне. Он ожидал подхода авангарда Аэция через два-три дня. Вместе с вождями союзников он объехал войска и наметил им рубежи для атаки. «Римлянам» и их союзникам позволят построиться, но, ввиду длинной сплошной стены гуннов, они также будут вынуждены вытянуться в линию, которая в силу меньшей их численности будет недостаточно плотной, и кавалерийские атаки легко прорвут ее.
Аттила, конечно же, нападет первым. Место будущего сражения хорошо разведано, войска заняли свои позиции. Аттила возвращался в Шалон в приподнятом настроении. Войска находятся в хорошей форме, главнокомандующие союзных остготов и гепидов Валамир и Ардарих, равно как и все другие военачальники и вожди, хорошо поняли его замысел. И все-таки в какой-то момент к нему снова вернулось некое смутное беспокойство, от которого он никак не мог отделаться.
Аэций поставил на карту всё. Он должен был победить, у него не оставалось другого выхода. Сумеет ли он побить своими козырями военной науки, вооружения, дисциплины и стойкости карты численного превосходства и отваги варваров?
Аттила был суеверным человеком. Не тревожило ли его какое-нибудь знамение свыше? Иордан пишет, будто бы старый отшельник, признавший в нем Бич Божий, предсказал Аттиле поражение в битве с римлянами. Едва ли старик унес бы ноги, если бы осмелился на это. Иначе выглядит история со святым Jly. Хотя Аттила и не имел своего бога, он не хотел ссориться с богом Лу, и, сохранив город епископа, обеспечил себе надежный тыл.
Но Аттилу по-прежнему мучило беспокойство. Подобно своим предкам и родственникам, Аттила часто обращался к предсказателям судьбы накануне сражений или перед принятием важных решений. Оставаясь суеверным, он тем не менее не слишком прислушивался к предсказаниям колдунов. Колдуны дорожат жизнью не меньше обыкновенных людей, и простая осторожность мешала им предвещать несчастья своим повелителям. Гадание было скорее ритуалом, ободряющим воинов, и как раз сейчас в этом была необходимость…
Учитывая особую важность момента, Аттила решил всё сделать, как полагается. По всем войскам был разослан приказ прислать к нему самых известных колдунов, вещунов, ясновидящих, астрологов, прорицателей и магов. На центральной площади Шалона их собралась целая толпа. Пестрая смесь рас и всевозможных одеяний: гунны, гелоны, готы, акациры, герулы и гепиды, волхвы-язычники и анахореты, имевшие мало общего с римской христианской церковью. Работа кипела: закалывались ягнята, быки и петухи, гадали по внутренностям и по раскаленному на огне мечу, раскидывали кости, калили камешки, сжигали куски мяса и пахучие травы. Отовсюду раздавалась какофоническая музыка, бешеные ритмы, истошные крики и пение, повсюду танцевали, прыгали, топали и в трансе катались по земле.
По приказу императора спокойствие, хотя и с большим трудом, было восстановлено. По этому же приказу все верховные жрецы и шаманы должны были удалиться… на совещание! Им предстояло избрать одного, кто ответил бы от лица всех на вопросы императора. Неизвестно, как долго продлился совет и кто представлял сообщество чародеев. Наверное, это был какой-нибудь старый волхв или отшельник.
Аттила задал один вопрос, возможно, выбрав не слишком удачную формулировку:
— Меня могут победить?
— Конечно, всегда можно оказаться побежденным, проиграть битву. Но в ближайшем бою падет твой злейший враг.
Аттила удалился в свой шатер за городом.
Итак, он может проиграть — по крайней мере, проиграть одну битву, — но он может и выиграть. Несомненно одно, что Аэций — если не он, то кто сегодня его злейший враг? — будет убит, и это приводило Аттилу в доброе расположение духа.
Великая битва на Каталаунских полях остается и, по-видимому, еще долго останется мало изученным историческим событием. Не сохранилось никаких воспоминаний непосредственных участников, все, что известно, было почерпнуто из римских произведений с неизбежными личными комментариями авторов и литературной обработкой. К таким источникам относятся письма и поэмы Сидония Аполлинария (430–488 гг.), зятя Авита. Естественно, они страдают всеми недостатками крайнего «национализма»: субъективизм в отборе и оценке героев, тенденция к панегирику, восторги и расточение похвал своим и проклятий врагам вместо объективного изложения фактов.
Традиции устного творчества питали больше легенды, чем историю. Усталые и покрытые ранами герои, возвращавшиеся в Германию, Бургундию или Венгрию, заслужили право на пропуск в Валгаллу или другие высшие почести, и легенды сделали все, чтобы им помочь, скрыв факты, которые не делали им чести и сулили путь прямиком в геенну огненную.
Эта страшная битва явилась пароксизмом эры столь жестокой, дикой и бесчеловечной, что подорвала основы религий и принятых норм. Милосердный Бог христиан перестал быть защитником слабых, став Богом карающим. Он благословлял мечи чаще, чем кресты, и охотнее открывал райские врата героям и королям, покрывшим себя воинской славой, чем тем, кого эти герои зарезали, сожгли или сбросили со стен. При этом Господь был так перегружен работой, что не мог один справиться с поддержкой воителей и распределением памятных наград. На помощь единому богу пришла мифология. Взять, к примеру, «Песню о нибелунгах». Тут Вотан, там Марс или Венера. Нечисть преграждает путь воинам, валькирии скачут на помощь. Если нет валькирий, героя прикроет Вулкан или поддержит огнем молний Зевс.
То, что отголоски сражения дошли до нас в легендах, одинаковых у самых разных народов и бережно сохранявшихся в течение многих столетий, свидетельствует о небывалых масштабах и невероятной жестокости этой великой битвы. Битвы, которая длилась пять или семь дней. Битвы, о которой достоверно неизвестно практически ничего, за исключением нескольких ярких эпизодов.
Еще до начала великой битвы стали происходить необъяснимые вещи. Гепиды Ардариха, прибывшие первыми, расположились в лагере Мориака. Они составляли авангард войска гуннов. Часть гепидов должна была пропустить врага и ударить с фланга, другая — перейти Об у Арсиса и преградить дорогу римлянам с фронта.
Гепиды, наверное, ничего не видели и не слышали, когда на них обрушилось с топорами все войско Меровея, подошедшее от Ромильи. Нападение было столь неожиданным, что гепиды, более других варваров привычные к сомкнутому строю и построению в каре, нестройной толпой бросились навстречу врагу с копьями и мечами в руках, предварительно не обстреляв противника из луков и пращей.
Допущенная ошибка усугублялась тем, что авангард гепидов оторвался слишком далеко от остальных гуннских войск. Поскольку перед гепидами была поставлена задача оборонять противоположный берег Оба, гунны не оставили на этом берегу другого войска.
Это была настоящая бойня. Все было кончено за какой-нибудь час. Погибло 16 000 человек, из которых 12 000 составили гепиды. По другим, наиболее заниженным оценкам, было убито 11 000, из них от 8000 до 8500 гепидов.
Похоже — именно похоже, так как ни о чем нельзя говорить с уверенностью, — что Ардарих, будучи толковым военачальником, сумел переправить и выстроить в оборонительную линию часть своих воинов на южном берегу Оба и что Меровей, посчитав свою победу достаточно убедительной и не желая без нужды губить жизни своих доблестных франков, остановил бой, дав понять Ардариху, что пойдет на эту уступку при условии отхода гепидов на северный берег Оба. Франки остались хозяевами дельты.
Ардарих и остатки его войска вышли к Шалону, где встретились с разведчиками остготов и крупным отрядом гуннов, уже узнавших о приближении врага. Ардарих остановил их, сообщив, что там, за рекой, франки, которые по приказу Аэция вышли к реке быстрее, чем ожидалось; ошибка в прогнозах дорого обошлась; Аэций со своими галло-римлянами и варварами-федератами уже близко; надо быстрее разворачивать главные силы.
Соединившись с Аттилой, который одобрил действия Ардариха, войска стали занимать свои позиции.
Ветер доносил тяжелый гул, возвещавший о приближении легионов Аэция. Отважный Ардарих готов был немедленно атаковать их. Аттила удержал его: не время вступать в бой. В этот раз он точно знал, как будут разворачиваться события. Методичное вытягивание в линию войск друг напротив друга, распределение войск второй линии и резерва. Сразу в атаку не бросится никто. Каждая сторона будет изучать противника и вносить коррективы в свои планы. Для гуннов главным было получить возможность быстро прорвать фронт римлян, для чего требовалось вынудить Аэция как можно больше растянуть свою первую линию. Надо было также знать, где встанут арморикане и бургунды, поскольку «дикую» конницу бессмысленно было пускать на галло-римлян, тогда как против союзных им варваров она всегда действовала безотказно.
Все складывалось так, как и предполагал Аттила. Противники выстроились и изучали друг друга, не решаясь атаковать первыми. Воины с обеих сторон разъезжали перед фронтом противника, только что не раскланиваясь друг с другом.
Аттила посчитал, что решающая схватка произойдет на равнине к югу от Шалона, и отвел ее для своих основных сил. На востоке расположился Валамир со своими остготами. Ардарих и гепиды встали к западу. Еще западнее заняли свои позиции акациры и гелоны под началом Берика.
Аэций же решил не брать на себя командование центром, а возглавил левый фланг, встав, таким образом, напротив гепидов и прочих варваров Ардариха. На правом фланге расположились вестготы Теодориха и Торизмонда. В центре Аэций поместил бургундов Гондиока, франков Меровея с примкнувшими к ним багаудами и аланов двурушника Сангибана, которого не зря подперли с боков верными войсками. Для большей уверенности позади аланов поставили арморикан, которые должны были пресечь всякую попытку несвоевременного отступления.
Возможно, и даже весьма вероятно, что была и другая причина такого расположения войск. Аэций знал, что Аттила нанесет лобовой удар в центр прямо перед собой, и поставил в центре Сангибана. Аттила ненавидел его за измену и к тому же считал аланов наименее стойкими противниками, поэтому должен был еще с большим азартом броситься в атаку. Прорыв Аттилы мог окончиться полным провалом, так как с флангов его сдавили бы сплоченные ряды тяжеловооруженных воинов, а в центре, рассеяв или перебив аланов, он совершенно неожиданно для себя наткнулся бы на арморикан.
Итак, по замыслу Аэция, гунны должны были сойтись в бою с аланами, бургундами и франками, а остготы схлестнуться с вестготами, которых смертельно ненавидели. В диспозиции войск учитывалась психология!..
Однако все разворачивалось несколько иначе, нежели представлял себе Аэций. Сражения вообще редко проходят так, как планировали военачальники. В данном случае карты спутал Торизмонд.
Аттила, как и ожидалось, обрушился на Сангибана. Но тут на гуннов ударил Торизмонд и лихой кавалерийской атакой обратил их в бегство. Удар был столь массированным и жестоким, что гунны дрогнули. По словам Иордана, дух гуннских воинов так упал, что Аттиле даже пришлось обратиться к ним с длинной и эмоциональной речью. В условиях реальной динамики боя речь, скорее всего, была сведена до нескольких кратких, но весьма выразительных фраз. Торизмонд остается на захваченных позициях, к нему готовятся присоединиться Теодорих и Теодорих II. Остановив бегство гуннов и соединившись с остготами, Аттила с непонятным упорством вновь атакует по центру. Он опрокидывает вестготов Торизмонда и рассеивает аланов Сангибана, но тут неожиданно наталкивается на арморикан и оказывается зажатым с флангов подошедшими войсками Аэция и обоих Теодорихов, притом что Торизмонд, перегруппировав войска, пытается пресечь ему путь к отступлению.
Ценой невероятных усилий и во многом благодаря отваге остготов, Аттила оттесняет арморикан и отходит на восток в направлении Ревиньи, прокладывая себе дорогу сквозь внезапно растерявшихся вестготов. Торизмонд преследует отступающих гуннов. Галло-римляне присоединяются к погоне, не дожидаясь приказа Аэция, который находится в полном смятении и топчется на месте. Только спустя какое-то время он догадался бросить оставшиеся рядом с ним легионы против остатков войска Аттилы.
Аттила отступал к своему обозу, оставленному в Орненской долине. Он оставил там сильный отряд. Часть когорт вошла внутрь кольца из повозок, тогда как прочие расположились на флангах. Вестготы Торизмонда увлеклись преследованием и налетели на стену повозок, из-за которых на них пролился дождь стрел и дротиков. Сам Торизмонд был тяжело ранен. Кое-как его усадили на коня. Надо было выбираться из западни. Гунны окружили отбивавшихся вестготов. Среди разбитых кибиток завязался долгий и тяжелый бой. Но тут подошли франки и бургунды. Гунны, окружившие вестготов, сами могли оказаться в окружении. Аттилу не радовала перспектива сражаться на два фронта, и он приказал войскам расступиться и пропустить Торизмонда, а затем атаковать арьергард вестготов и подступающих франков с бургундами. Вестготы, вынужденные отражать нападение, снова остановились. Начался новый бой с вестготами, франками и бургундами. Остготы Валамира изрядно потрепали вестготов Торизмонда, которым все же удалось отправить своего раненого вождя под сильной охраной в Шалон.
Аэций, наконец, овладел собой и ринулся на гепидов, акациров и гелонов Берика. Гелоны отчаянно бросались на римских всадников, перерезая подколенные сухожилия их лошадей, но в конце концов копья галло-римлян образумили этих дикарей. Артиллерия Эдекона отстояла слишком далеко от сражавшихся войск, и ее катапульты уложили больше отступавших герулов и тукилингов, чем римских федератов.
Окончательно измотанные и выбившиеся из сил остготы и гунны Аттилы стали отступать в то же время, когда франки, бургунды и остатки вестготов решили, что с них на сегодня довольно.
Воцарилась удивительная тишина, изредка нарушаемая только хором стенаний, доносившихся со стороны вестготов, оставшихся примерно на своих начальных позициях.
Аттиле сообщили, что старый Теодорих был убит во время атаки восточного фланга гуннов и тело его не могут найти, так как оно скрыто под горой других мертвых тел. Аттила понял, чем объяснялась растерянность вестготов, которая облегчила ему прорыв к Ревиньи. Королем избран Торизмонд с полного согласия Теодориха II (вероятно, потому, что брат находился при смерти).
Аэций же был цел и невредим, только что рассеяв акациров и гепидов.
«Твой злейший враг падет».
Стало быть, его злейший враг вовсе не Аэций, а этот вестгот Теодорих. Возможно, волхвы не обманулись, и Теодорих, которого Аттила хотел устранить или подчинить своей воле, и был его злейшим врагом…
Сто шестьдесят тысяч убитых и раненых, включая от одиннадцати до шестнадцати тысяч гепидов и франков, павших на поле Мориака еще до начала решающей битвы…
Земля была усеяна трупами людей и лошадей. Тут и там высились горы мертвых тел. Сквозь эти завалы невозможно было пробраться. Воды Оба окрасились кровью.
Немногие избранные были преданы земле. Большинство тел было сожжено. После ухода войск епископ Jly из Труа собрал команды могильщиков, чтобы очистить окрестности и реку, сжечь трупы и развеять пепел. Только так можно было избежать эпидемии.
Завершилась невероятная, безумная битва громадных масс людей. Ее называли битвой народов. И верно, ведь кроме основных противников — гуннов и галло-римлян, — на поле сражения сошлись германцы, славяне, азиаты, балканцы, средиземноморцы и даже африканцы.
Говорят, что битва ознаменовала собой столкновение двух миров. Это так, но все же необходимо дать несколько пояснений.
Да, противостояние «римской цивилизации» и «варварства» действительно имело место. Но «римскую цивилизацию» защищали варвары, и варварство наложило свой отпечаток на многих исконных римлян. В борьбу вступили народы, так или иначе приобщившиеся к римской цивилизации, и народы, тяготевшие к кочевому образу жизни и культуре охотников-воинов.
Было бы ошибкой видеть в этой борьбе столкновение технически развитой цивилизации — римлян и технически отсталой цивилизации — варваров. Несмотря на значительный прогресс римлян в ряде областей, в частности, архитектуре и баллистике, развитие металлургии, гончарного и кожевенного ремесел и даже производства текстиля показывает, что варвары, которых совершенно не интересовало строительство, обладали надежной техникой и умели копировать чужие образцы. Это была еще и борьба римского консерватизма и германо-азиатского авантюризма. Но римский консерватизм был тогда на последнем издыхании, порождая слепцов вроде Валентиниана III, желавших жить в роскоши, пока за них будут сражаться наемники.
Говорили и о противоборстве христианства и язычества, вернее, разнородного смешения языческих верований и суеверий в сочетании с атеизмом. Несмотря на большое количество исключений, особенно среди готов на службе гуннов, религиозное противостояние сыграло свою роль. Значение Церкви несомненно сказалось на развитии событий в Италии и Галлии.
Но прежде всего, это была борьба за независимость и свободу. Различные варварские племена поднялись против захватчиков-гуннов, чтобы сообща защитить землю Галлии. Стойкость и мужество, проявленные галлами, однако, совершенно не означали примирения с Римом. Валентиниан III допустил грубую ошибку, отказав Аэцию в римских и романизированных легионах, вынудив того набирать войско из галло-римлян и пестрого варварского населения, не исключая багаудов, этих непримиримых врагов римлян. Разгромив гуннов, они почувствовали себя истинными победителями. С устранением Бича Божия антиримские настроения никуда не делись.
На Каталаунских полях сошлись Запад и Восток, город и степь, крестьянин и кочевник, дом и шатер, Меч Господень и Бич Божий.
Сто шестьдесят тысяч убитых из пятисот тысяч воинов, ступивших на равнины Шампани. Прежде чем на полях сражений снова столкнулись такие огромные массы войск, прошли века, наступила эпоха Наполеона и время мировых войн.
XIV
Загадка Каталаунских полей
Загадка? Скорее, загадки, которые поставили бы в тупик самого Сфинкса.
Обратимся к фактам и только фактам.
Сражение прекратилось, когда Аттила и Валамир, с одной стороны, Меровей и Гондиок, с другой, покинули поле битвы. Далее ничего не происходит. Вестготы воздают последние почести почившему королю и провозглашают нового — Торизмонда.
Аттила и его союзники ушли далеко к северу от Шалона-на-Марне и расположились в нынешнем Камп де Мурмелон и его окрестностях. Остатки обоза и артиллерии удалось эвакуировать без всяких проблем — никто не пытался преградить им путь.
Вестготы остановились неподалеку, на шампанских холмах, откуда вся равнина открывалась, как на ладони.
Аэций со своими легионами и франки встали между Марной и Вьерой, что позволяло Аэцию следить за всеми; он посылал похоронные команды закапывать трупы; позже их находили там в большом количестве.
Бургунды выбрали свой маршрут самостоятельно и остановились между Обом и Марной в окрестностях Шомона, приблизившись, таким образом, к Лангру и родной Бургундии.
Спустя всего три дня после великого сражения вестготы ночью снялись с лагеря и ушли.
На следующий день ушел Аттила с остатками войск и снаряжения.
Все еще многочисленные франки, несмотря на понесенные потери, на безопасном удалении последовали за гуннами, наблюдая за отступающим противником.
Через два дня пустились в путь бургунды, которые задержались, хороня умерших тяжелораненых. Они двинулись к Лангру и достигли Соны.
Спустя еще четыре дня в направлении Орлеана выступили галло-римские легионы Аэция и римские варвары-федераты. Багауды уже давно разбежались маленькими группами.
На Каталаунских полях остались только похоронные команды епископа Лу из Труа.
Все это трудно понять. Когда армии после боя разошлись в разные стороны, ничто не позволяло думать, будто война закончилась. Разумеется, все устали, но что мешало возобновить сражение дня через два-три? У Аэция не было ни малейших оснований полагать, что дикий Аттила признает себя побежденным и откажется от нового нападения, равно как и Аттила не мог считать, что упорный Аэций посчитает свой успех полным и откажется от преследования его войска вплоть до берегов Дуная.
Итак, первый вопрос: почему вестготы ушли первыми? Не было ли это предательством? Как мог Аэций примириться с уходом столь ценных соратников, когда угроза со стороны Аттилы — того самого Аттилы, который хотел захватить Аквитанию — еще не исчезла?
Вестготы не могли уйти без согласия Аэция. Теодорих II получил из Аквитании — интересно, как? — плохие вести. Случилось то, что можно было предвидеть: коренное население взбунтовалось против оккупантов-вестготов. Четверо младших братьев Теодориха 1 делали все, что могли, но не имели необходимых сил для подавления мятежа. Самое время было вернуть войска домой. Кроме того, у Теодориха II и Торизмонда, который неожиданно быстро оправился от своих ран, был и другой повод для опасений. Если бы в Аквитании в их отсутствие узнали о смерти Теодориха I, то наиболее нетерпеливый из четырех младших братьев, Эврих, мог провозгласить себя королем. Хотя его честолюбие и алчность поражали даже его братьев, способностями правителя, по их мнению, он не обладал.
Аэций предпочел бы удержать вестготов, но был вынужден уступить под давлением обстоятельств. Вестготы ушли бы и без его согласия. Упорствуя, он только рисковал бы потерять лицо и превратить друзей во врагов. К тому же, стоя на страже спокойствия Империи, он не желал, чтобы Аквитанию раздирали междоусобицы и на смену законному королю пришел узурпатор. Он уступил Теодориху II и Торизмонду, которые поклялись вернуться, если в том возникнет необходимость. Аэций попросил их только об одном: уйти ночью, не гася огней, особенно на склонах холмов, так как они были видны издалека. Тогда Аттила ничего не узнает или, по крайней мере, узнает не сразу.
Они прибыли в Тулузу как раз вовремя. Эврих, узнав о смерти отца, готовился захватить власть. Последовало выяснение отношений, в результате которого все сыновья Теодориха I признали королем Торизмонда. Однако это не помешало Теодориху и Фредерику убить венценосного брата во время набега на Прованс. Троном завладел Теодорих, который считал себя учеником Авита и мудрость которого воспел Сидоний Аполлинарий. Он увлекался философией, сражался со всеми соседями, проявляя при этом дикость, достойную Аттилы, посадил в Лузитании (Португалии) королем своего ставленника, захватил Нарбонну, расширил на какое-то время собственные владения в Галлии до Луары и в конце концов, в 464 году, был убит своим братом Эврихом. Тот аннексировал Прованс и, будучи фанатичным арианином, предал мучительной смерти всех священников; после его смерти, случившейся в Арле в 484 году, Меровинги изгнали вестготов из Прованса без надежды на возвращение. Все драматические испытания, выпавшие на долю Аквитании, хаос и анархия, царившие в ней в течение столетий, произросли из произвола и бесчеловечности этих бесстрашных негодяев.
Но возникает второй, гораздо более щекотливый вопрос: как Аттила мог уйти вторым? Вне всякого сомнения, он поддался на хитрость Аэция, не сообразив, что вестготы покинули лагерь. Огни костров ввели его в заблуждение.
Но было ли достаточно одного этого, чтобы вынудить его к отступлению? Его прошлое просто не позволяет в это поверить. У него оставалось самое меньшее 250 000 воинов, тогда как Аэций мог выставить от 110 000 до 115 000 человек, не больше. Армия в 250 000 воинов не отступает!
Естественно, Аттила знал о трудностях своего сына Эллака на восточной окраине империи гуннов и о волнениях на русских равнинах, но все же он отложил восстановление порядка и остался в Галлии. Так почему он вдруг так заспешил домой? Решил, что еще одно поражение в Галлии затруднит и вообще поставит под сомнение саму возможность восстановления его власти в Гуннии? Не исключено.
Но как он мог рассчитывать, что Аэций так просто даст ему уйти? Тому есть несколько объяснений.
«Предположение первое: Аттила сохранял численное превосходство, и активное преследование его было чревато для Аэция определенным риском. Он отступал — и этого было довольно.
Второе предположение: Аттила был уверен, что Аэций не станет продолжать войну, так как, не получив от Валентиниана III дополнительных легионов, он мог преподнести отступление гуннов как победу и претендовать на триумфальную встречу в Италии.
Третье предположение: возобновление сражения привело бы к полному разгрому гуннов, от которого Аэций предпочел пока воздержаться, понимая, что Аттила не нападет. Аттила же осознал, что одного только героизма и численного превосходства недостаточно, чтобы выиграть войну. Он оценил преимущества техники и снаряжения римлян и опасался нового, еще более тяжелого поражения. Поэтому он решил вести себя как побежденный, демонстративно отступив, чтобы Аэций посчитал ненужным добивать поверженного врага, признавшего свое поражение.
Четвертое предположение: между Аттилой и Аэцием существовал сговор. Даже сойдясь на поле брани, они инстинктивно оставались сообщниками. Каждый мог стремиться победить другого, но никак не уничтожить. Раздел «мира» все еще был возможен, надо было только дождаться удобного момента и разыграть свои личные козыри. Аэций отпустил Аттилу, как сделал это еще раньше под Орлеаном. Аттила сделал бы то же самое, если бы повернулось колесо фортуны и побежденным оказался бы Аэций. Можно даже предположить, что посредничал не один только Констанций и связь между Аттилой и Аэцием поддерживалась регулярно, даже в самые напряженные периоды их взаимоотношений. Подобное возможно и невозможно. Возможно, что в 451 году так и случилось…
Была у Аттилы и еще одна причина уйти: он должен был сохранить доверие союзников.
Если в сложившихся условиях Аттила и согласился сыграть для римлян и галло-римлян роль побежденного, то гунны и их союзники вовсе не считали сражение проигранным. Бой был прерван, и хотя обе стороны понесли тяжелые потери, ничего еще не было решено. В глубине души Аттила считал, что потерпел поражение, для стороннего же наблюдателя его отступление к Шалону могло выглядеть очередной военной хитростью, как и под Орлеаном. Он не намечал перед своими воинами иной цели, кроме туманного «поставить Рим на колени», и мог рассчитывать на их безоговорочное подчинение в предстоящих кампаниях. Уходя из Галлии (хотя он никогда не говорил и, видимо, тогда еще не думал, что гунны покидают ее навсегда), Аттила хотел показать, что после целого ряда проведенных здесь успешных боев он решил сменить театр военных действий по чисто тактическим соображениям. Воины любили риск и приключения и верили в полководческий гений Аттилы, поэтому выполняли приказы, не задавая лишних вопросов.
Аттила извлек из своего галльского похода немало ценных уроков: неожиданный героизм галло-римлян, участие на их стороне варваров-добровольцев и багаудов, стойкость осаждаемых городов и бесцельность «показательных» расправ. Кампанию следовало провести совсем не так, ударив одновременно и с севера, и с юга. Если бы только вестготы были союзниками гуннов!.. Галлия не смогла бы отразить двойной удар, не уменьем, так числом взяли бы. Но партия еще не закончена. Сейчас надо перенести войну в Италию, пребывавшую в упадке, загнивавшую под бездарным управлением ставленников Валентиниана и охранявшуюся армией наемников. Италия не способна на спонтанный национальный порыв в галльском стиле. После падения Италии и вестготы наконец поймут, что не в их интересах становится на пути победителя, и тогда завоевание Галлии станет вполне осуществимым делом.
Аттила также рассчитывал, что франки, уже давно подбиравшиеся к Галлии, не остановятся на занятых рубежах, а продолжат свое вторжение. Надо дать им время увязнуть в борьбе с коренным населением, чтобы они обескровили себя понесенными в этой борьбе потерями. Заручившись поддержкой остготов, можно будет сравнительно легко покорить их. К тому же франки вряд ли выступят единым фронтом. Их многочисленные вожди и царьки постоянно враждуют друг с другом. Взаимная ненависть Рамахера и Вааста яркий пример тому. Часть франков может даже перейти на сторону гуннов. Франкам нужно будет еще «переварить» свои новые завоевания в Галлии, поэтому большинство их скорее всего примет дружеское покровительство Аттилы в обмен на признание его верховной императорской власти. Пока что они рассчитывают на расположение римлян, но их ждет скорое разочарование. Аттила по опыту знает цену этому расположению. Франки быстро расстанутся со своими иллюзиями, когда поймут, что они нужны Риму только для охраны его границ и что их дальнейшая экспансия будет воспринята враждебно или допущена на унизительных условиях.
Аттила питал надежду, что, когда он вторгнется в Галлию с юга, паника охватит всю страну и франки воспользуются этим, чтобы захватить новые земли в восточной ее части. Остатки верных Риму войск окажутся зажатыми между наступающими гуннами и франками. Надо только заранее провести переговоры с франками и выработать общие правила игры. Дипломатия сыграет здесь решающую роль.
Аттила все больше укреплялся в мысли, что единственным правильным решением будет захват Италии и завоевание Галлии с юга. Для выполнения этой задачи требовалась сильная армия и надежные союзники. После битвы на Каталаунских полях его войско по-прежнему оставалось достаточно внушительным, и не было никаких оснований ожидать расторжения заключенных союзов. Надо было сохранить эти козыри, более не подвергая себя риску в Галлии, где кампания развивалась не слишком удачно. Оставалось уйти, и как можно скорее, воспользовавшись усталостью противника.
Уход франков объяснить намного проще. Хильдерик стал наиболее влиятельным франкским вождем. Его вассал Меровей, удельный князек или вообще никто, командовал значительными силами. Он хотел вернуться с войны овеянным славой и доказать всем, что Рим высоко оценил помощь франков и впредь будет дорожить столь ценным союзником. Благодарность римлян можно будет реализовать, получив более широкие «права на гостеприимство» в Галлии. К тому же галлы также могли оценить стойкость франков и положиться на них в деле охраны границ. Это значило, что новые волны франкских пришельцев будут встречены радушнее, чем прежде. Кроме того, надо было предстать освободителями от захватчиков, а не теми, кто спешит занять их место. Поэтому Меровей настойчиво предлагал Аэцию свои услуги, обещая проследить за отступлением гуннов из Галлии, заверяя того, что почтет за честь выполнение этой задачи, ибо тем самым докажет, сколь усердны франки на службе у Империи. На самом же деле этот рейд был выгоден прежде всего ему самому, еще более повышая значимость его роли и позволяя вернуться на берега Рейна. По дороге часть его воинов осела на севере нынешнего департамента Эн, тогда как другие мигранты обосновались в Артуа и в Пикардии.
Бургунды всегда оставались верными союзниками Рима и становились все более дисциплинированными и управляемыми, несмотря на проявления то непонятной нерешительности, то несвоевременной воинственности и отваги.
За участие в войне с гуннами они получили в 456 году право на поселение (практически — право на владение) в области секванов, столицей которой был город Везентис (Безансон), затем, в 469 году — в Лугудунской Галлии со столицей в Лугудунуме (Лионе). Впоследствии они вытеснили вестготов из Прованса. Король бургундов Гондиок, сын Гондикера (Гюнтера), умер в 463 году. Ему наследовал его сын Гондебауд, которому прежде пришлось избавиться от братьев-конкурентов. Он разгромил войска франка Хлодвига, после чего выдал за него свою племянницу Клотильду. Династические связи не помешали франкам покорить бургундов в 534 году.
Братство по оружию не предполагает вечной дружбы, иначе История была бы слишком простой.
И вот, наконец, тайна из тайн, загадка из загадок — поведение Аэция. Надо полагать, его действия определялись тремя факторами: текущими проблемами, собственным видением психологического портрета Аттилы и иллюзорными надеждами на блестящее будущее.
Главной проблемой был уход союзников. Надо было отпустить вестготов без особой надежды на их возвращение в нужный момент, отпустить франков, приложив все усилия, чтобы заручиться их поддержкой на будущее и тем самым обеспечить охрану северных и северо-восточных границ, и, наконец, отпустить бургундов, договорившись с ними о защите центра и юго-востока Галлии и создав из них противовес вестготам на случай возможных осложнений.
Аэций полагал — и не без основания, — что у него не было другого выбора. Союзники были измотаны в боях. Нельзя было вызвать недовольство вестготов и вынудить их изменить политический курс. Их участия в войне на стороне римлян удалось добиться с большим трудом и только благодаря поддержке Авита. Этот союз оставался довольно хрупким, и любая настойчивость сейчас была бы опасной, а главное, тщетной.
Задерживать бургундов не имело смысла, так как их уход обеспечивал защиту восточных границ и центральных районов. Если опасность вторжения нависнет над Италией, бургунды смогли бы прийти на помощь быстрее других союзников.
С франками дело обстояло иначе. Они более других были заинтересованы в изгнании гуннов, поэтому Аэций намеревался удержать их при себе на случай возобновления боевых действий. Но, убедившись, что гунны уходят, он был рад отправить франков следом, чтобы контролировать отступающего врага и немедленно преградить ему путь, дав галло-римлянам время подойти, если Аттила предпримет попытку вернуть свои войска назад.
Но почему он был так уверен, что гунны действительно уйдут из Галлии? Аттила не раз водил его за нос…
Тайные переговоры двух военачальников? Маловероятно, но не исключено. Но все-таки главную роль сыграл психологический портрет Аттилы, который нарисовал для себя Аэций.
Не умея разгадать планы Аттилы даже на ближайшее время, Аэций тем не менее сумел понять, что Аттила действительно хочет уйти. Он понял это, когда Аттила остановил сражение и не предпринял тут же новой атаки. Выход из боя и длительное бездействие не увязывались с излюбленной тактикой Аттилы, которой тот неизменно придерживался во всех битвах. Тактика предусматривала совершенно неожиданное, стремительное и ошеломляющее возвращение. Они не раз обсуждали тактические приемы, и Аэций всегда признавал эффективность этого маневра. Патриций еще больше уверился в своем предположении, когда Аттила отошел со своим обозом далеко в тыл, что не позволило бы осуществить крутой и неожиданный разворот.
Кроме того, Аэций был твердо убежден, что на сей раз Аттила намеревался восстановить порядок в своей империи. Сам он поступил бы именно так, будь он на месте гуннского вождя.
Если Аэций был готов пресечь любые новые попытки Аттилы вторгнуться в пределы Западной Римской империи, то не имел ни малейших намерений помешать ему стать авторитетным хозяином дисциплинированной империи гуннов. Аттила имел на это право. Аэций даже полагал, что для бесчисленных разношерстных племен и народностей, населявших просторы от Дуная до Урала, Аттила являлся миротворцем, умелым организатором и гарантом правопорядка. Соседство диких и неуправляемых племен совершенно не прельщало Западную Римскую империю и еще менее — Восточную. Трудная задача умиротворения народов должна была приковать к себе все его внимание и занять продолжительное время. Если он снова возвратится к внешней экспансии, то его жертвой станет скорее Византия, чем Рим.
Высказывалось и предположение, что Аэций хотел таким образом сохранить равновесие сил среди варваров. Союзы с ними никогда не были прочными, и в какой-то момент франки и бургунды могли обратить оружие против Рима, а остготы — оставить лагерь Аттилы. Поражение должно было образумить гуннов, и кто знает, не будут ли они впредь полезны Империи в ее войне против франков и прочих варваров? Им всегда нашлось бы применение в борьбе, например, с вандалами и герулами. Есть воспоминания, которые не забываются. Аэций не раз приводил гуннов Роаса — и когда сражался на стороне Иоанна Узурпатора, и когда боролся с Себастианом и Галлой Плацидией. Они всегда приносили ему успех. Почему бы и дальше не опираться на них, карабкаясь на политический Олимп? Примирение с Аттилой поможет уладить ему многие проблемы, которые — кто знает? — могли поджидать его в Риме. Если бы ход событий развивался иначе, чем он предполагал, и Фортуна снова отвернулась бы от него, гунны опять поддержали бы его честолюбивые замыслы. Для этого следовало уберечь армию гуннов от окончательного разгрома, чтобы не лишить себя возможности примириться с ними и сохранить их войско достаточно сильным для достижения своих целей.
Однако нет никаких подтверждений этой гипотезы, которая, прямо скажем, не делает чести римскому патрицию. Он должен был руководствоваться исключительно интересами Империи, сохраняя для нее потенциального союзника в борьбе с другими варварами, и, даже не исключая перспективы личного обращения к гуннам, думать о восстановлении величия Рима, освобождении его от безумного правления трусливого фанфарона Валентиниана III.
Но решающим фактором, определившим поведение Аэция, было иллюзорное представление о собственном будущем, о том, как его встретят при императорском дворе. У Аэция не было и тени сомнения, что он возвратится в Рим победителем во главе сильной армии, испытанной в боях и поверившей в полководческий гений своего предводителя. Он был уверен, что его ждет восторженная встреча римлян и щедрые награды от императора. Теперь можно было даже заявить, что император правильно поступил, не дав ему дополнительных легионов, потому что такой талантливый военачальник, как Аэций, мог изгнать гуннов и теми небольшими силами, что у него были. Император и Рим-победитель удостоят его триумфа — торжественного вступления в Вечный город, даровавшегося самым великим полководцам в честь самых великих побед. Он станет triumphalis vir, героем, навеки внесенным в скрижали римской истории. Так он рисовал себе возвращение в Рим.
Он был в этом столь уверен, что решил не брать с собой войска варваров-федератов и добровольцев, присоединившихся к нему в ходе кампании. Он распустил их прежде, чем вернуться в Арль, пообещав заслуженную награду, в целом не такую уж и большую. На триумф он хотел взять с собой одних только римских легионеров. Галло-римские легионы, более галльские, чем римские, были оставлены, к их полному удовольствию, в Галлии для обеспечения охраны правопорядка. Их командиры, впрочем, должны были сопровождать Аэция, чтобы разделить с ним его славу на триумфе и оценить оказанные ему почести.
Валентиниан III, как мы помним, в свое время поманил Аэция обещанием выдать свою дочь, принцессу Евдоксию, за его сына Гауденция. Но даже помолвка была отложена.
Здесь мы позволим себе небольшое отступление.
Читатель помнит, что византийский император Феодосий II женился на экстравагантной Афинаиде, которая в конце концов его бросила и обосновалась в Иерусалиме под именем Евдоксии. У них была дочь Евдоксия, Евдоксия II, если угодно, которая вышла замуж за Валентиниана III. От этого брака родилась другая Евдоксия, — Евдоксия Некоторую император и обещал отдать за Гауденция.
Евдоксия II уже по праву рождения вызывала к себе всеобщее уважение. Даже ее неверный и экстравагантный муж относился к ней с большим почтением. У нее был сильный характер и собственные убеждения, которые она умела отстаивать. Евдоксия не боялась указывать мужу на его ошибки и критиковать за капризы, легковесные решения и откровенные заблуждения. Иногда — увы, довольно редко, — ей удавалось заставлять Валентиниана прислушиваться к ее советам.
Евдоксия II была преданным другом Аэция. Их отношения несомненно повлияли на ее негативную позицию в отношении Себастиана и Галлы Плацидии. Патриций знал, что мог рассчитывать на нее, к тому же она благосклонно смотрела на брак своей дочери с Гауденцием.
Итак, возвращаясь триумфатором в Рим, Аэций, уверенный в поддержке императрицы, готовился достичь главной цели своей карьеры — войти в императорскую семью и обеспечить сыну возможность со временем облачиться в пурпур.
Сам он наберет тогда такую силу, что прихоти и капризы Валентиниана III уже не смогут задеть его. Он станет подлинным правителем Рима. Кроме того, он, как и Евдоксия II, дочь византийского императора Феодосия, мечтал о воссоединении двух империй под одной короной. У Марциана, правителя Восточной империи, детей нет, и в его преклонном возрасте ожидать их от брака с Августой Пульхерией не приходится. Значит, все еще было возможно.
Эти надежды заставили Аэция забыть о проектах раздела мира с Аттилой, если таковые существовали, и поспешить в Рим.
Увы! Как жестоко разочаровался он в своих ожиданиях!.. Спустившись с Альп, Аэций тщетно ожидал почетного эскорта. Император находился не в Риме, а в Равенне, значит, триумфа в Риме в любом случае быть не могло. Аэцию самому пришлось договариваться с городским гарнизоном, чтобы ему был обеспечен торжественный въезд. Император не прибыл встретить его, и Аэций направился в Равенну, чтобы приветствовать своего императора.
Конечно, он не знал, что, как и при снятии осады с Орлеана, шпионы, приставленные к нему Валентинианом, в очередной раз разоблачили его «предательство». Патриций — предатель, он не стал продолжать войну до полной капитуляции гуннов, распустил по домам вестготов, бургундов и других союзников и лишь для виду послал следить за Аттилой франков, зная, что они неспособны остановить его, поверни он назад. Аэций уберег от разгрома основные силы гуннов, чтобы иметь возможность воспользоваться ими в своих интересах. Кто знает, может быть, он уже сговорился с Аттилой о разделе Империи, и эта война случилась только потому, что Аттила запросил слишком много или же осторожность и мудрость императора не позволила Аэцию сразу реализовать свои узурпаторские устремления.
К полному удивлению Аэция, в Равенне его не встретил почетный эскорт, и патриций был вынужден встать лагерем на малоприятных для привала болотах, окружавших город. Аэций совершенно не желал подойти жалким просителем к городским воротам. Он направил к императору несколько своих старших командиров. Легионеры волновались и бурлили, чувствуя себя оскорбленными.
Посланцы вернулись и уединились с Аэцием в отдельном шатре. Император даже не соизволил их принять! С ними говорил его министр и друг граф Максим Петроний — личный враг Аэция, — который поведал им, что патриций обвинен в измене и бегстве от врага! Естественно, обвинение не распространяется на командиров и легионеров, которые были вынуждены подчиняться приказам, хотя могли бы и воспротивиться, настояв на войне до полного уничтожения противника.
Единственным — но много значившим — утешением для Аэция было то, что ни один из его командиров не принял этот оскорбительный вердикт и войска были полностью солидарны со своим полководцем.
Это печальное совещание было прервано прибытием доверенных лиц уважаемого префекта Авита, которые хотели засвидетельствовать свое почтение патрицию, прежде чем направиться в Равенну, где их должен был принять император. Глава делегации хотел переговорить с Аэцием с глазу на глаз, но патриций попросил его говорить в присутствии его старших командиров.
До Авита дошли слухи о «ложных доносах» императору, и префект направил Валентиниану письмо, которое объясняло уход вестготов с бургундами, славило мудрое решение патриция перекрыть гуннам путь назад, пустив по пятам за ними верных франков, и восхваляло новый невиданный подъем престижа Рима в Галлии благодаря бесспорной победе.
После этого заявления, пролившегося целебным бальзамом на душевные раны Аэция и его людей, глава делегации переговорил с патрицием наедине, посоветовав ему от лица Авита соблюдать предельную осторожность и не входить в Равенну, пока его не позовут. Так и решили.
Вечером того же дня Максим Петроний собственной персоной прибыл в лагерь Аэция и более чем любезно приветствовал полководца, сравнив его даже с Юлием Цезарем, возвратившимся из победоносного похода в Галлию. Максим Петроний поинтересовался, когда Аэций намерен торжественно вступить в город, где император поздравит его с победой перед строем его легионеров. Договорились, что на следующее утро Валентиниан обнимет овеянного славой патриция.
Невозможно удержаться от еще одного отступления и не рассказать о судьбе некоторых новых персонажей этой драмы.
Евдоксия III никогда официально не провозглашалась невестой Гауденция, и Валентиниан со спокойной душой отдал ее в жены другому. Евдоксия II пыталась воспротивиться этому, но тщетно.
Максим Петроний не переставал завидовать Аэцию, которого сравнивал с Юлием Цезарем. Он ревновал к воинской славе и популярности патриция. Он столь сильно преуспел в организации заговоров и покушений на своего врага, что Аэций, зная, чьих это рук дело, в конце концов испугался и бежал из столицы. Он вернулся только тогда, когда уже не мог поступить иначе, и лишь за тем, чтобы в последний раз попытаться спасти Рим. Аэций пал от руки императора, империю которого хотел спасти, но, по крайней мере, умер, думая (хотя в этом нельзя быть уверенным), что победил.
Максим Петроний был любимым советником Валентиниана, и именно он, вне всякого сомнения, был вдохновителем убийства Аэция. Теперь он становился вторым лицом в государстве.
Но… плоть Валентиниана была слаба, а подлость велика.
Валентиниан III не привык, чтобы противились его капризам. Он беспрестанно менял любовниц, содержал «олений парк», который возродит у себя спустя тринадцать веков один французский король.{5} К нему доставляли и блудниц, и девственниц, но в последнее время этот сексуальный маньяк взял моду совращать особенно аппетитных супруг своих приближенных. Еще никто ему не отказывал, а он умел щедро благодарить за оказанные услуги.
И вот он положил глаз на жену Максима Петрония, но та оказалась верна своему супругу. Однако Валентиниан не успокоился. Он сделал ее первой фрейлиной императрицы, и теперь ей по званию полагались отдельные покои во дворце в Равенне. Однажды он проник туда в сопровождении двух пособников, которые связали даму и вышли из спальни, чтобы император мог беспрепятственно учинить насилие над ней. Совершив надругательство, Валентиниан осыпал женщину брильянтами, поклялся ей в вечной любви и удалился, велев подручным освободить ее. Она в ярости швырнула им в лицо брильянты (а те, и глазом не моргнув, подобрали их) и бросилась искать отмщения у мужа.
Она нашла его в одном из дворцовых коридоров и все рассказала. Максим Петроний, не мешкая, отправился в покои императора и, произнеся приветствие, зарезал его.
Не тая убийства, он собрал в зале высших церковных, светских и военных сановников и сообщил им о преступлении и «немедленной казни» Валентиниана III, после чего под приветственные крики провозгласил себя императором.
Начавшись в 455 году, правление Максима Петрония в том же 455 году и завершилось. За несколько месяцев он проявил такую некомпетентность, беспомощность и алчность, что стал ненавистен всем. Овдовев, он предложил выйти за него замуж вдове своего предшественника Евдоксии II. Гордая Евдоксия ответила отказом. Тогда он объявил о браке без согласия «своей супруги». Евдоксия, не колеблясь, призвала на помощь короля вандалов Гейзериха, который и разграбит Рим, пощаженный Аттилой.
Гейзерих, не заставив себя ждать, захватил Рим, а Максима Петрония возмущенная толпа забила камнями за трусость и глупость.
Евдоксия последовала за Гейзерихом в Африку. Утверждают, что она была его пленницей, но это маловероятно. Ее ничто не удерживало в Западной Римской империи, которая окончательно подпала под власть варваров, несмотря на все усилия Юлия Непота и Ореста. Евдоксия охотно последовала за вандалом, которого сама призвала, и с его полного согласия и под его защитой отправилась в Константинополь, где и окончила свои дни.
XV
Отступление еще не поражение
Отступление гуннов представляло собой человеческую драму, о которой свидетельствовали и современник Приск, и, столетие спустя, Иордан, Кассиодор и Прокопий. Тяжелораненые умирали один за другим. Их наскоро хоронили по берегам ручьев, где земля была мягче. Больных и легкораненых везли на телегах. Многие сами кончали с собой, предпочитая смерть мучениям, многих неизлечимых приходилось добивать или бросать умирать на обочинах дороги, опасаясь заразы. Идущие следом франки приканчивали их или оставляли умирать и гнить не похороненными. По пути от Шалона до Рейна погибло до девяти тысяч гуннов и их союзников.
У франков была возможность вверять своих раненых заботам галло-римских епископов и монастырей, но и они понесли чувствительные потери.
Уже вблизи рейнских берегов Меровей остановил свои войска, продолжая издали следить за гуннами: он хотел, чтобы те могли воспользоваться всеми переправами и перешли реку как можно скорее.
Аттила назначил общий сбор к северу от современного Штутгарта. Здесь он вел подсчет потерь. Вполне вероятно, что с поля боя не вернулись Берик и Констанций. О них нигде больше не упоминается. Катапульты и баллисты сохранились лучше, чем можно было бы ожидать, и это сыграло впоследствии свою роль. Эсла, вероятно, был направлен за Волгу на помощь Эллаку в борьбе с акацирами и прочими мятежными каспийцами. Эдекона, Ореста и Онегеза император от себя не отпускал и часто обращался к ним за советом.
Никто не сомневался, по крайней мере в его ближайшем окружении, что Аттила откажется от продолжения борьбы, хотя, несмотря на витавший призрак поражения, он оставался еще очень силен. Даже если он проиграл битву, — а его гордость велела гнать эту мысль прочь, — это был всего лишь неудачный эпизод войны, один этап, который он счел нужным преждевременно и с некоторыми потерями завершить, чтобы начать новые кампании, лучше спланированные и подготовленные. Regressus поп est clades; receptus поп est desertio (отступление — не поражение, отойти — еще не значит уйти).
Да, все это так. Но вновь встает вопрос, который уже возникал и не раз еще со всей прямотой напомнит о себе.
Аттила отступил от Константинополя. Аттила снял осаду с Парижа. Теперь Аттила не стал возобновлять сражение на Каталаунских полях. Не служит ли это доказательством его нездорового непостоянства, неспособности завершить начатое дело, за которое уже дорого заплачено, не свидетельствуют ли приступы неожиданной нерешительности о его психическом расстройстве?
Это предположение совершенно несостоятельно. Поступки Аттилы имеют под собой весомые основания. Штурм Парижа не решал стратегических задач, а отступление с Катал аунских полей, хотя и нанесло болезненный удар по его самолюбию, было продиктовано исключительно здравым смыслом. Продолжение битвы могло обойтись слишком дорого, разумнее было пересмотреть план кампании.
Тогда как ряд исследователей находят бессмысленным «дезертирство» с Каталаунских полей, другие, напротив, далеко заходят в противоположном направлении, утверждая, что Аттила, обладая поразительным чутьем и даром предвидения, предугадал тот холодный душ, который обдал Аэция по возвращении в Италию, и последовавшее затем ослабление Рима.
Было бы ошибкой делать из Аттилы провидца. Можно только предположить, что оборот событий, которого он никак не ожидал, доставил ему немалое удовлетворение.
Вернувшись на Дунай, он без труда добился от остготов, ставших частью его империи, обещания вернуться по первому зову и милостиво оказал гостеприимство войскам тех союзников, которым было далеко добираться до своих родных краев. Аттила теперь спокойно ждал новостей из Рима и Равенны.
А новости были ободряющими. Плохой прием, оказанный Валентинианом Аэцию, весьма его порадовал. Теперь можно было с уверенностью заключить, что их примирение не будет ни искренним, ни долгим. Тонкий дипломат, Аттила понял, что сейчас не стоило предпринимать каких-либо решительных действий, надо было только выждать необходимое время, пока ситуация в Равенне не накалится до предела.
Это развязало ему руки, и Аттила взялся за наведение порядка в своей империи и подготовку итальянского похода, о котором уже давно мечтал: он вторгнется в Италию, раздавит Валентиниана и Марциана, а затем ему откроется дорога в Галлию с юга, тогда как остготы и их союзники обрушатся на нее с северо-востока.
Какое-то время он намеревался переправиться через Вислу, договориться о поддержке с бастарнами и верными венетами, использовать их в борьбе с мятежниками к западу от Борисфена и Понта (Днепра и Черного моря), вызвать к себе навстречу Эллака (и конечно же Эслу), подчинить бунтовавших сарматов и роксоланов при помощи их соплеменников, сохранивших верность, преподать хороший урок акацирам, аланам и метидам и раз и навсегда обеспечить Эллака защитой и нужными союзами.
Онегез отговорил его. Аттиле не следовало покидать лагерь, если он хотел сохранить необходимые союзы для похода в Италию. Онегез предложил послать за Вислу его самого. Эдекон и Орест также предложили свои услуги. Аттила не захотел отпускать от себя Онегеза. По его плану, этот отличный администратор, блестящий полководец и ловкий дипломат должен был оставаться здесь, чтобы контролировать пути, ведущие в восточную Галлию, и альпийские перевалы во время итальянской кампании, а также вести переговоры от имени императора гуннов с батавами, франками и другими германскими племенами. У Эдекона и так было много забот по увеличению числа и техническому совершенствованию осадных машин. Выбор падал на Ореста. Аттила знал, что Орест не захочет упустить возможность повоевать в Италии, а значит, постарается обернуться быстро, что, впрочем, всегда было в его духе.
Каждый блестяще справился с данным ему поручением. Аттила прекрасно умел подбирать себе помощников и использовать их личные качества и знания. Аттила прислушивался к их советам и критическим замечаниям. Императора и советников объединяла взаимная приязнь. Сколь ни странно, но такая сильная и всеподавляющая личность, как Аттила, умел работать в команде и делегировать полномочия.
Его министры-полководцы сами были сильными личностями, а Орест и Берик даже слишком сильными. Между ними не раз возникало соперничество, главным образом из-за излишнего рвения, но во многом в силу жажды почестей, которые зачастую выражались в старшинстве на приемах. Особенно часто имели место стычки между Орестом и Эдеконом, но в большинстве случаев третейским судьей выступал Онегез, и конфликт улаживался без вмешательства императора. Преданность всех советников императору бесспорна: генеральный штаб не раз единодушно и не всегда безуспешно противился слишком рискованным предприятиям, в которых опасности могли подвергнуться его жизнь или свобода. Они предпочитали самого Аттилу его славе. Несомненно, такая привязанность объясняется их полной зависимостью от императора. Все, что они имели, они получили от него. Они чувствовали себя актерами в спектакле, который мог быть начат только им и не мог продолжаться без него.
Сегодня отвергают, и не без основания, видение истории, связанное исключительно с личностью, волей и капризами великих людей. Великий человек, сколь бы велик он ни был, всего лишь представитель своей расы, своего климата, своего времени и своего окружения. Исторические катастрофы приводят к переоценке реальных средств, которыми он мог в действительности располагать. Аттила был азиатом-кочевником, урожденным вождем воинственных захватчиков. Но это лишь одна линия, а не весь план. Его ум, энергия, пороки, слабости — определяли его действия, которые могли быть и другими. И если бы они были другими, мир был бы другим. Аттила изменил облик мира.
В то время как Аттила обдумывал план будущей кампании и направлял все усилия на поддержание заключенных союзов, Онегез сумел, хоть и не без труда, наладить связь с франкскими вождями.
Положение вещей изменилось. Меровей, здоровье которого подорвали тяготы походов, скончался. Юный король Хильдерик наделал столько глупостей, что вожди франков изгнали его в Тюрингию, к королю Бизину. Через некоторое время Хильдерик вернулся и вернул себе корону. С собой он привел жену Бизина, которая влюбилась в него в изгнании, и женился на ней. От их брака родился Хлодвиг. Некоторое время у власти находился совет вождей с весьма неопределенными полномочиями, кое-как осуществлявший правление. Раздоры не заставили себя долго ждать, и сложившаяся ситуация мало располагала к крупномасштабным совместным действиям.
К тому же Аттила ушел, и теперь франкам больше мешало сопротивление римлян в их дальнейшей экспансии в Галлии. Уже давно у них за спиной остались Сомма и Эна, Сен-Кантен и Лан, уничтоженные Орестом. Франки были уже во Фландрии, Артуа, Пикардии, Пеи-де-Ко и Бовэзи, стремясь к Ла-Маншу.
Онегез говорил с франкскими царьками и вождями племен, намеревавшимися идти дальше на запад, обещал им, что за тылы нечего беспокоиться, так как Аттила намерен перенести войну в Италию. Война в Италии их нимало не заботила, даже напротив, сулила им выгоды, так как занятый собственной обороной Рим ослабил бы давление на Галлию.
Онегез сумел достичь результатов, превзошедших все ожидания. В Галльскую кампанию франки-рипуарии Вааста сражались на стороне Аттилы, тогда как салические франки приняли сторону галло-римлян. Прежние союзники снова пожелали присоединиться к гуннам. Франки-рипуарии — «франки с берега» (Рейна), латинское «ripa» (берег), превратилось в «гірuа» — заявили о готовности идти в Италию, что полностью отвечало желаниям Аттилы.
Эдекон наращивал численность и качество катапульт и баллист. Он увеличил количество легких баллист, метательных машин «большой дальности и высоты поражения». Наряду с классическими запряжными баллистами были сконструированы машины, которые перевозились одной лошадью. Несомненно, были учтены особенности будущего театра военных действий с горными отрогами и узкими тропами. Эти машины, видимо, предполагалось также использовать в авангарде для разрушения легких укреплений. Сохранились упоминания и о «пращах-баллистах», которые переносились воинами на спине и могли метать большие камни. Однако до настоящего времени не было обнаружено ни одного образца такой машины.
В отличие от прошлой кампании, теперь сознательно делался упор не столько на количество катапульт, сколько на повышение их качества. Упростилась транспортировка и возросла скорострельность, однако в отношении веса снарядов большого прогресса достигнуто не было. Производство катапульт, транспортируемых в разобранном состоянии на телегах, было прекращено. Все стационарные катапульты были размещены в рейнско-дунайской зоне и использованы для укрепления оборонительных линий. Тяжелая катапульта перевозилась четверкой лошадей, запряженных попарно, легкая — одной парой коней. Расположение лошадей попарно, а не цугом иногда затрудняло движение по дорогам. Катапульта была устроена следующим образом: на прямоугольной платформе, установленной на «шасси» телеги, крепили метательный рычаг типа «журавль», к концу которого привязывали мешок с «боевым зарядом». Рычаг пригибали к земле и привязывали к колышку, вбитому вертикально. Достаточно было развязать узел, и рычаг резко возвращался в исходное вертикальное положение, выпустив снаряд.
Гунны так преуспели в совершенствовании катапульт, что их машины по эффективности превосходили греко-римские. Для обеспечения абсолютной неподвижности катапульты в момент выстрела колеса шасси запирались колодками. Бойцы при катапульте были защищены экраном, представлявшим собой металлическую раму, обтянутую кожей, который устанавливался на платформе под небольшим наклоном в сторону спускового механизма машины. Защитный экран имел двойное назначение: уберегал бойцов спереди от стрел и камней противника, выполняя функции неподвижного щита, и увеличивал дальность полета снаряда, так как верхняя перекладина его металлического каркаса служила тупиковым упором для рычага, обеспечивая более резкий и, соответственно, более сильный толчок. Некоторые катапульты имели два рычага: на левой и на правой стороне платформы, которые позволяли производить двойной выстрел.
Снаряжение воинов также совершенствовалось. Появился стальной шлем с височными пластинами и назатыльником. Повсеместно распространилось ношение кинжала.
Орест следовал практически тем же маршрутом, что первоначально наметил для себя сам Аттила. Но он несколько задержался на территории современного юга России, где «люди с равнин» — грейтунги остготского происхождения — подвергались набегам «лесных людей» — тервингов вестготского происхождения. Последних надо было образумить. В Трансильвании в целом все было тихо, за исключением горных районов, где надо было усилить защиту земледельцев в долинах и на склонах. Орест попытался использовать против мятежников сарматов и роксоланов, сохранивших верность, но пришел к заключению, что вообще все роксоланы весьма ненадежны. С его прибытием, как по волшебству, утихомирилось большинство акациров, метидов, кавказцев и каспийцев. Тем не менее Орест с Эллаком провели ряд карательных экспедиций, истребляли мятежников, разоряли городки, смещали местных вождей. Привыкшие к облавам аланы укрылись так, что их не сумели найти. Уходя, Орест оставил Эллаку снаряжение и опытных командиров.
Аттила наметил план кампании: пройти классической дорогой римских легионов до Сирмия на Саве в нижней Паннонии, затем обрушиться на самую мощную крепость во всей Италии — Аквилею, на северном побережье Адриатического моря, недалеко от современной Венеции.
Оттуда предполагалось осуществить вторжение в Венецию и Лигурию, а затем в Этрурию до самого Рима, который он, естественно, желал захватить. Он намеревался оставить сильное войско у Аквилеи, чтобы пресечь возможные попытки вмешаться в войну со стороны византийского императора. В зависимости от достигнутых результатов и состояния войск, он мог бы затем воссоединиться с этими силами и уже со всей армией пойти на Константинополь. Для него это не было решенным вопросом. Он допускал, что может удовлетвориться одним сдерживанием сил византийцев, отложив захват Восточной Римской империи на более позднее время, когда уже завладеет Галлией.
Аттила занялся укреплением союзов, но столкнулся с большими сложностями, которых совершенно не ожидал. Остготы, занимавшие тогда главным образом долину Тейсы — венгерской Тисы, — подтвердили свою братскую солидарность с гуннами, заверив, что отныне входят в Гуннскую империю, однако при этом не спешили принять активное участие в новой эпопее. Валамир был верным другом и почитателем Аттилы, но ему приходилось считаться с мнением своих командиров и воинов, еще не отдохнувших после Галльского похода и к тому же несколько усомнившихся в непобедимости Аттилы после его отступления.
Аттила снова и снова доказывал, что отступление не значит поражение. Они вежливо соглашались, но не верили ему. Отступление было, и кампания не удалась. А теперь их зовут карабкаться по альпийским кручам. Они не смели сказать, что после великой авантюры Галльского похода им хорошо живется в долине Тейсы и их главная забота — приращение королевства и вытеснение соседей.
Короче говоря, отряд они выставят — Валамир настоял на этом, — но массовую поддержку окажут, только если в этом будет необходимость. Впрочем, разве плохо, что здесь останутся верные войска, способные пресечь любые происки врагов в этих краях?
Даже гепиды из Дакии (почти совпадающей с территорией современной Румынии) мялись в нерешительности. Их отважный король Ардарих также был другом и большим почитателем Аттилы. Но гепиды понесли тяжелые потери, а отступление, некогда казавшееся хитроумным маневром, теперь оценивалось иначе. Сейчас гепиды заняты установлением военного и экономического сотрудничества с дружественными народами, в частности, герулами с южных Карпат. Конечно, они выделят императору гуннов отряд храбрых воинов, и прежде всего опытных пехотинцев, умевших драться в римском строю. Но нельзя ослаблять Дакию, это неразумно: кругом враги, стало известно, что даже свевы из далекой Швабии строят захватнические планы! Наконец, ответный удар Восточной Римской империи на вторжение в Италию может быть направлен именно сюда.
Небольшое войско они выделят — Ардарих настоял на этом, — но основные силы останутся в Дакии. Дополнительные силы они предоставят гуннам, только если в этом будет необходимость.
Герулы на северо-востоке Венгрии оказались еще большей проблемой. Пока войско герулов сражалось в Галлии, дома между вождями вспыхнула свара. С возвращением войска враждующие кланы только окрепли, и борьба продолжилась с новой силой, так что уже через несколько недель страна полностью погрузилась в анархию.
Клан Деодорика стремился к тесному сотрудничеству с гепидами и был готов обратиться к Ардариху за военной помощью в борьбе с другими кланами. Рассматривался даже союз с гепидами, предполагавший создание нечто вроде союзного государства.
Другой клан сделал ставку на остготов.
Третий клан, племя скиров, стремился объединить под своей властью все племена герулов и соседние народности, образовав настоящее королевство, главным источником существования которого стала бы служба в наемниках у того, кто больше заплатит.
Одной из жен Эдекона была скирская княжна, которая родила ему в 433 году сына Одоакра. Этот Одоакр станет королем герулов, затем королем Италии, низложит последнего императора Западной Римской империи Ромула Августула, приказав обезглавить его отца, которым был не кто иной, как Орест! Воистину шекспировские страсти!..
Но в то время Аттила мог больше положиться именно на скиров, благодаря влиянию Эдекона. Большого войска собрать не удалось, но, по крайней мере, упрочились союзы и можно было рассчитывать хоть на какой-то контингент добровольцев.
Все это, в целом, выглядело не блестяще. Аттила тяжело переживал неудачи, что отразилось даже на его здоровье.
Но он не отказался от своих планов. Да, он покажет, что отступление было не поражением, а преддверием к самой великой его победе!
Возможно, Аттила допустил еще одну ошибку, отправив вместо себя в карательный поход Ореста. Дипломатические контакты, возможно, лучше было бы доверить Онегезу и Эдекону. Может быть… может быть…
Очевидно, в тот роковой момент, когда Аэций узнал, что не Аттила наводит порядок в империи гуннов, подготовка новой кампании была раскрыта. Аэций оказался достаточно умен, чтобы разгадать готовящееся вторжение, на этот раз в Италию. Оставалась, однако, слабая надежда, что удар будет направлен на Константинополь, если только не одновременно в обоих направлениях.
Тогда еще не завершился тот краткий период, когда Аэций мог надеяться вернуть себе полное доверие Валентиниана и считать себя всемогущим верховным главнокомандующим и политическим советником.
По здравому размышлению, он в присутствии Максима Петрония и главных министров изложил Валентиниану то, что полагал необходимым предпринять для спасения Империи.
Император, двор и правительство должны переехать в Галлию, по крайней мере в Арль, хотя и там нельзя было обеспечить надежной защиты. Он предпочел бы Тур, Блуа, а лучше Орлеан. На худой конец Париж. Он назначил «патрицием Галлии» графа Эгидия, храброго воина и умелого администратора, посоветовав ему уделять особое внимание обеспечению полной безопасности и полного «римского порядка» от Бретани до Тула и от Луары до Соммы — в этих пределах должен был образоваться четырехугольник «абсолютной безопасности».
Аэций напомнил, что франки особенно хорошо проявили себя в последней кампании. Надо как можно скорее наделить их статусом привилегированных союзников, заручившись их поддержкой в защите восточных окраин Галлии. Можно также с уверенностью положиться на усердие бургундов, неравнодушных к законным льготам, которые им предоставляют.
В ответ последовала буря негодования. На Аэция посыпались почти неприкрытые оскорбления.
Перебраться в Галлию! После того, как недавние события показали, что это — самая опасная и наиболее уязвимая из всех провинций Империи!
Уехать в Галлию! Конечно, только для того, чтобы туда снова явился Аггила со всеми оставшимися силами и новой ордой союзников и наемников!
Арль открыт и защищен хуже, чем любой город в Италии, к тому же никогда нельзя быть уверенным в добрых намерениях вестготов.
Долина Луары? Только потому, что новый префект, который еще не может оценить своих сил, получил задание установить там римский порядок?
Орлеан? Что за глупость! Все убедились в его уязвимости! Или Аттила не осадит его вновь только потому, что с ним там столь великодушно обошлись?
Тур? Блуа? А почему не Лаваль, Ле-Ман, Анже или еще какая-нибудь луарская деревенька?
Париж? Это что, в память о Юлиане? Или из-за чудесного заступничества Женевьевы? Город не выдержит регулярной осады.
Валентиниан, с большим удовольствием внимавший этим критическим замечаниям и завуалированным обвинениям, остановил обсуждение, сказав, что император он, а ему нравится его теперешняя жизнь, и привычек своих он менять не намерен, поэтому ни под каким видом из Италии не уедет.
Некоторое время спустя Аэций попросил личной аудиенции у Валентиниана, чтобы изложить другие проекты. Император отказался, и снова был созван большой совет.
Аэций заявил, что ввиду нежелания императора покинуть Италию ему нужна другая столица вместо Равенны. Враг уже подступал к ней достаточно близко. Болота защищают, но вместе с тем и изолируют город.
Рим больше подходит для столицы Римской империи, при условии, конечно, что будут отремонтированы укрепления и создано кольцо охранения из сильных войсковых контингентов.
Предложение подверглось критике. Военные придерживались того мнения, что Равенну легче оборонять, чем Рим. Другие советники утверждали, что императорская резиденция должна располагаться в надежно укрепленном месте и нельзя найти лучшей крепости, чем Аквилея.
Аэций отвечал, что это безумие, и если гунны перейдут через Альпы, они первым делом обрушатся именно на Аквилею, поскольку Аквилея может быть исходным рубежом для наступления как на Рим или Равенну, так и на Константинополь.
Император вмешался. Он заявил, что не видит никаких препятствий для восстановления городских укреплений Рима и предоставляет Аэцию все полномочия в данном вопросе. Пока что двор и правительство останутся в Равенне, но в случае опасности переедут в Рим и затворятся в нем как в цитадели.
Аэций был доволен этим решением, хотя и предпочел бы галльский вариант. Он поспешил в Рим и, мобилизовав все силы для восстановления и укрепления стен, за несколько месяцев напряженного труда превратил Рим в неприступную крепость.
Тогда с благословения императора он отправился в Константинополь навестить своих друзей — императора Марциана и Августу Пульхерию.
Однако там Аэций испытал некоторое разочарование.
Марциан был уверен в себе, слишком уверен. Аэций изложил ему свои опасения: Аттила готовится перейти через Альпы. Нет никаких оснований ожидать нового нападения на Галлию. Удару подвергнутся обе римские империи, возможно, одновременно. Необходимо организовать коллективную оборону. Легионы Восточной Римской империи должны защищать восточные Альпы, а легионы Западной Римской империи — западные склоны и центральную часть Альп. В окрестностях Аквилеи следовало бы расположить совместный контингент.
Марциан не согласился практически ни с одним из предположений. Он был совершенно убежден, что его решительная позиция заставила Аттилу отказаться от каких-либо враждебных действий против Восточной империи. Он пожелал всех благ Валентиниану III — которого в душе презирал, — но воздержался от проявления активной солидарности, которая могла иметь для него нежелательные последствия.
Марциан вовсе не был уверен, что целью гуннов является завоевание Италии. Даже если это так, то они в любом случае направятся на Рим, а не на Константинополь. Он искренне верил, что его гордый ответ на требование дани, обещанной Феодосием, так осадил Аттилу, что тот никогда больше не посмеет выступить против него.
Аэций тщетно уверял византийца, что лучше знает Аттилу, его дерзость и непоколебимую решимость. Его слова не произвели на императора большого впечатления.
Марциан отказался от совместной обороны Аквилеи, полагая, что даже если гунны подойдут к ней, у них не хватит смелости попытаться взять штурмом эту неприступную крепость, и они повернут на запад и устремятся к Риму. Тогда Марциан вступит в войну и, если Аэций сумеет обеспечить надежный заслон по реке По, он попытается окружить противника, обойдя его с севера.
Но он практически не допускал такого развития событий. Марциан обещал вмешаться, только если Аттила осуществит свой прорыв и не удовольствуется небольшим набегом на Этрурию. Тогда Марциан захватит всю Мезию и оттуда нападет на соседние владения гуннов.
Определенно, в деле заключения военных союзов удача не сопутствовала ни Аттиле, ни Аэцию. В Италии уже не будет столь огромных масс войск, какие сходились на Каталаунских полях.
По возвращении из Константинополя Аэция ждал большой сюрприз. Император пожелал встретиться с ним в присутствии только Максима Петрония и одного из своих фаворитов, евнуха Гераклия:
— Чего ты добился?
— Непосредственной оперативной помощи не будет, получено лишь обещание выступить, если гунны дойдут до По или одновременно двинутся на Рим и Константинополь.
— Итак, ты потерпел неудачу.
— Почти что.
— Ты хвалился, что к тебе прислушивается Августа Пульхерия.
— Я полагаю, что она со вниманием отнеслась к моим аргументам.
— Но они не возымели действия.
— Нет, они не возымели действия.
— Ты негодный дипломат.
— Мне не удалось добиться того, на что я рассчитывал.
— Безразличие Марциана оскорбительно для меня.
— Причина не в этом. Я полагаю, что император Марциан заблуждается в отношении Аттилы и не верит в реальность угрозы.
— Его мало волнуют общие интересы обеих частей великой Римской империи.
— Я не осмеливаюсь что-либо утверждать. Он медлит с выступлением, сберегает силы, но его вмешательство может стать решающим.
— Ты хотел, чтобы помощь была оказана незамедлительно, только это могло заставить гунна образумиться. Теперь помощь задерживается, если последует вообще, и мы будем расплачиваться за это промедление. Твоя миссия провалилась.
— Мне не удалось, как я уже сказал, достичь результатов, на которые я рассчитывал.
— А я тебе повторяю, что ты негодный дипломат.
— Я полагаю, что ваше личное обращение к императору Марциану могло бы его убедить.
— Убедить в чем?
— В обоснованности моей просьбы, обоснованности моих оценок.
— Я не разделяю твоих оценок и не хочу выглядеть перед Марцианом просителем. Я, представь себе, император, а ты не обладаешь ни необходимым авторитетом, ни силой убеждения. Я сомневаюсь, что у тебя и твоего потомства нашлись бы качества, требуемые для достойного участия в делах Империи. Бракосочетание твоего сына и моей дочери не состоится. Ты можешь удалиться от дел.
Оскорбленный Флавий Аэций, понимая, что стал жертвой заговора, еще более коварного, чем все предыдущие, покинул Равенну и направился к своему другу в Региум Лепиди (сегодня Реджио-Эмилия) на берегу Кростоло, неподалеку от Пармы.
В Равенне была развязана против Аэция целая кампания: говорили, что он бежал, опасаясь справедливого возмездия со стороны императора, который обвинил его в том, что он неоднократно предавал Рим, позволив уйти Аттиле и саботировав порученную ему дипломатическую миссию;. более того, Аэций в своей непомерной гордыне будто бы осмелился угрожать императору, если тот не выдаст свою дочь Евдоксию за его сына Гауденция.
Эхо этой клеветнической кампании, разумеется, доходило до ушей несчастного патриция, который был так подавлен, что чуть было не решился отравиться, но отказался от самоубийства только из любви к сыну. Он переписывался с Гауденцием, который тайно уехал в Галлию к патрицию Эгидию, став одним из его военачальников.
Аэций неоднократно получал вызовы явиться ко двору: ни много ни мало, чтобы предстать перед судом. Аэций не отвечал и не двигался с места. Наконец, его стали навещать высокопоставленные военачальники, которые сражались с ним плечо к плечу или были обязаны ему своими назначениями. Все заверяли его — и это было правдой, — что они решительно осуждают Валентиниана за его несправедливое отношение к патрицию, которое, впрочем, связывали с наушничеством Максима Петрония, заявляли о своем намерении подать в отставку при малейшей попытке начать судебный процесс и обещали, что в случае большой войны не признают над собой другого главнокомандующего, кроме Аэция.
Император отвечал, что о судебном разбирательстве и речи быть не может, более того, не было никакой опалы, а просто произошло небольшое недоразумение. Император просил патриция вернуться и в случае нового конфликта не хотел видеть главнокомандующим никого другого, кроме верного Аэция.
Валентиниан даже добавил, что возмущен клеветнической кампанией, развязанной против патриция, и примет решительные меры по пресечению этого потока лжи. Вместе с тем в сложившихся обстоятельствах он не может согласиться на брак Гауденция с Евдоксией, поскольку это будет воспринято как капитуляция перед торжествующими амбициями и подорвет престиж императора.
Аэций благодарил соратников за верность и смелость и давал им указания, что надо сделать во время его добровольного изгнания, чтобы продолжить подготовку к отражению вторжения, которое считал близким и неизбежным, однако возвращаться на императорскую службу отказывался.
А тем временем министры-военачальники Аттилы все больше недоумевали по поводу бездействия своего императора. Все поручения были исполнены, подготовительные работы завершены, а приказа выступать в поход не было.
Январским вечером 452 года Аттила собрал в Буде совет из самого узкого круга ближайших и особенно дорогих друзей — Онегеза, Эдекона, Ореста и Эслы, которого он вызвал к себе с берегов Каспия.
Очень спокойно, с непривычной медлительностью, он объявил им, что уже несколько месяцев серьезно болен. Несмотря на все ограничения в еде и питье, он страдает несварением желудка и мучительными приступами рвоты. Время от времени от отличной закуски и доброго вина, как ни странно, наступает улучшение, но через несколько часов, иногда дней, боль возвращается. Но не это самое худшее. У него постоянная и ужасная головная боль, часто и подолгу идет кровь из носа и преследует рвота.
Его лекари делали, что могли. Их было трое: галл, некогда посланный Аэцием, грек из числа друзей Онегеза и гунн с Дуная, особенно хорошо сведущий в целебных травах. Они многократно пускали ему кровь, это помогало, но отнимало силы. Его беспокоило, что недавно он несколько раз терял сознание.
Он добавил, что послал Ореста на восток вместо себя только потому, что боялся растратить остаток сил. В последние дни он чувствует себя намного лучше и даже считает, что находится на пути к выздоровлению. Но приступы еще время от времени продолжают его беспокоить, и он не хотел скрывать от лучших друзей, что испытывает серьезные опасения.
Предстоит война, великая война, единственная по-настоящему великая война, решающая война, которая отдаст ему весь мир, и он хочет сам ее начать, вести и направлять. Это принадлежит ему, это его право, он жил только для этого. Он не останется без поддержки. Рядом будет находиться Эсла, пока, наконец, гунны не войдут в южную Галлию. Тогда Эсла вернется к Эллаку.
Но сейчас надо все предусмотреть. Надо взглянуть правде в глаза: он не бессмертен, он предпочел бы пасть на поле боя в лучах славы, чем испустить дух от апоплексического удара, но вероятность последнего более велика.
Все, кто сейчас присутствует здесь, отдали свой талант и свои силы служению ему, не задумываясь о собственной славе и собственном благополучии, довольствуясь скромными наградами, которыми он отмечал их усердие. Но, работая на него, они трудились во имя торжества Гуннии, во имя создания величайшей из империй, с которой завтра сможет сравниться только Китай. Итак, они должны вместе готовить это будущее и стать залогом его грядущего торжества, когда наступит последний час их императора.
Никто, за исключением, быть может, Онегеза, не ожидал услышать такие слова. В своей привязанности к этому человеку, который подавлял их всех, они никогда не задумывались о том, что он мог умереть, по крайней мере, умереть раньше их самих. И никогда им в головы не приходила мысль, что они будут привлечены к управлению империей под чьим-либо еще руководством, кроме его.
Все они были чужды угодливости и раболепия, поэтому ненужных дружеских протестов не последовало. Аттила был прав. Он думал о будущем и пытался предусмотреть даже самое худшее, что могло случиться. Если этот черный день настанет, они исполнят последнюю волю своего господина и останутся достойны доверия императора и после его смерти. Каждый приложит все силы, чтобы выполнить порученное ему задание.
И Аттила изложил им свое завещание.
Единство империи должно быть сохранено — один император, опирающийся в своих начинаниях на уважаемого и мудрого советника. Императором станет его старший сын Эллак, наставником и советником — «король» Онегез. Эллак может избрать себе постоянную столицу по своему желанию, но Аттила предпочел бы, чтоб император переезжал из одной провинции империи в другую, крепя тем самым ее единство.
Эрнак, самый молодой из сыновей, будет властителем Галлии и Италии после их завоевания. Если они не падут перед гуннами — что немыслимо, — он будет править в рейнско-дунайских провинциях. Наставником его станет Эдекон.
Узиндур получит земли от Одера до Днепра, Денгизих — от Днепра до Волги, а также весь азиатский север. Их советником будет Скотта.
Гейсм — сын Аттилы от брака с сестрой короля гепидов Ардариха — станет правителем края от западной Паннонии до Черного моря при уважении прав гепидов на Дакию и поддержании с ними самого прочного союза. В наставники ему назначен Орест.
Эмнедзар станет правителем кавказских и каспийских провинций вплоть до самых дальних восточных окраин империи. Наставником ему будет Эсла.
Если Эллак умрет, власть над империей перейдет к Эрнаку: один гадатель предсказал Аттиле, что Эрнак почиет последним из его сыновей и оставит после себя самое многочисленное потомство.
Однако история распорядилась так, что планам Аттилы не суждено было сбыться, и главным образом из-за соперничества, возникшего между его наследниками. Эллак пал жертвой гепидов в 454 году, несмотря на то, что пошел на невероятные уступки им, разделив с ними земли, золото и даже стада! Эрнак, Узиндур и Эмнедзар, изгнанные со своих земель германцами, получили, в конце концов, от византийского императора позволение обосноваться на территории, примыкающей к устью Дуная. Более везучий Гейсм стал вице-королем в стране гепидов — вице-королем при своем родном дяде Ардарихе. Денгизих вернулся к жизни кочевника и воина: нескончаемые походы, временные захваты, которых нельзя удержать, вечный грабеж. В 468 году, разорив одну из областей Мезии, он был захвачен римлянами и убит. Его отрубленную голову пронесли на пике по улицам Константинополя.
Питомцы не слушали своих наставников и плохо ладили с ними. Онегез не получил обещанного решающего голоса. Сделанный Аттилой королем и стоящий первым в его завещании, он так и не сумел убедить Эллака отказаться от навязанного тому в 453 году возмутительного раздела. По всей вероятности, он уехал со своей женой в Грецию. Эдекон отошел от дел и осел в Гепидии. О судьбе Ореста уже говорилось. Об Эсле и Скотте неизвестно ничего.
Но вернемся к фактам.
Все дали Аттиле торжественное обещание исполнить его волю. Аттила пожелал, чтобы день закончился дружеской пирушкой. На следующий день был назначен праздник. Аттила распорядился сообщить всем командирам, что выступление назначено на 20 марта и местом сбора будет Сирмий. Эдекону поручалось вместе с полководцами и старшими командирами выстроить войска так, чтобы избежать излишней скученности. Онегез должен был связаться с союзниками, чересчур занятыми собственными проблемами, и призвать их направить обещанные войска к Сирмию в нужные сроки, чтобы их полководцы успели встретиться с ним и обсудить план действий. Онегезу же поручалось получить от франков-рипуариев подтверждение их участия в кампании и просить их прибыть к Сирмию одновременно с основными силами гуннов.
Начиналась самая ужасающая кампания Аттилы. Помимо кровавой резни, она была примечательна достижениями гуннов в области военной техники и стратегии, а также своим совершенно неожиданным, парадоксальным финалом.
XVI
Итальянский поход
«Лавина гуннов спускается со склонов Альп. Вы являетесь главнокомандующим Империи и Вы один можете ее спасти», — писал император Аэцию. Патриций оседлал боевого коня и поскакал в Рим, куда просил императора переехать из Равенны со всем двором под защиту мощных крепостных стен древней столицы.
Немедленно по прибытии он направил письмо Марциану, в котором сообщал, что намерен провести линию обороны по южному берегу По, и просил византийского императора перекрыть Аттиле все пути к отступлению и вторгнуться в гуннские земли на восточном побережье Адриатики. Другое письмо Аэций послал Авиту с просьбой убедить вестготов снова прийти на помощь Риму, но Авит, зная о неспокойном положении в Аквитании, даже не стал браться за дело, заранее обреченное на провал.
Аэций расположил свои легионы на берегах По. Все мероприятия по укреплению обороны земель к северу от этого рубежа свелись к усилению гарнизонов Аквилеи и ряда других городов. Север Италии, таким образом, не был прикрыт войсками, и жителями владело беспокойство, которое переросло в панику после падения Аквилеи.
Именно о северных провинциях, по-видимому, вспоминал современник событий Проспер Аквитанский, записавший в своей «Хронике» за 452 год: «Жители, подавленные страхом, были не в состоянии защищаться».
Выступив из Сирмия, Аттила прошел через Мону и Наупорт, располагавшиеся на месте современной Любляны. Оба города были разграблены. Затем гунны совершили переход через Альпы. На итальянском склоне путь преграждал римский лагерь, называвшийся «Лагерем на Холодной реке». Одного авангарда гуннов оказалось достаточно, чтобы вырезать гарнизон до последнего человека. Убили всех, даже тех, кто сложил оружие.
Затем Аттила двинулся к «барьеру» Сонтия, который должен был отразить любой возможный удар из-за Холодной реки. Этот лагерь был укреплен сильнее, чем первый, и располагался по обеим берегам ручья Сонтия, оседлав его русло. Сонтий сегодня превратился в Изонцо, а лагерь стал современной Горицией, вошедшей в историю как австрийский форт Гориц — один из самых смертоносных участков на итало-австрийском фронте в Первую мировую войну.
Баллисты Эдекона разрушили укрепления лагеря. Франки-рипуарии и пешие гуннские воины, к которым присоединились спешившиеся конники, ворвались в проломы и расправились с римским гарнизоном.
Войско гуннов перешло по мосту через Изонцо и растеклось по богатой Венецианской равнине. Вопреки, казалось бы, уже выработанной собственной стратегии завоеваний, Аттила не стал сдерживать своих людей, и те вовсю утоляли свою жажду разрушения.
Наконец, объявлен общий сбор, и войско двинулось на Аквилею.
Аквилея находится, вернее находилась, к западу от полуострова Истрия — маленького выступа в Адриатическом море между северным побережьем Далмации и Венецианским заливом, на котором расположен Триест.
Аквилея стояла совсем недалеко от Триеста, тогда еще Тергестума, практически на месте современного ГрадишкаПостойна к югу от Гориции. К западу, в направлении Падуи, ныне расположена Венеция, также обязанная своим рождением Аквилее и гуннам.
Аквилея считалась неприступной, хотя в 361 году Юлиану удалось захватить этот город и расправиться с гарнизоном, присягнувшим его сопернику Констанцию. Решающую роль при осаде тогда сыграла особая плавучая машина, водруженная на три гигантских корабля, соединенных общей палубой-настилом. Но Аквилея действительно была твердым орешком. Вестгот Аларих, который в 410 году разграбил Рим, потерпел поражение под ее стенами. Аквилея была крепостью из крепостей. Ее окружали широкий ров с водой и высокие стены с башнями. В Аквилее был самый крупный и красивый порт на Адриатике, здесь располагалась база военного флота, очищавшего море от пиратов. Наряду со стратегическим, город имел и большое экономическое значение, находясь на пересечении торговых путей, связующих различные города Италии, с одной стороны, и Иллирию, Паннонию и задунайские варварские земли, с другой. Здесь сходились две цивилизации. В городе размещался элитный гарнизон, но и все мужское население было одновременно воинами, моряками, торговцами и банкирами. Городом правили «сенаторы», на которых лежала ответственность, но и простой народ, весьма деятельный, тоже не был бесправен. Это был город с уважаемыми матронами, искусными ремесленниками и торговцами, роскошными куртизанками и несметными шлюхами. Город-страж и город — средоточие роскоши, город полководцев и негоциантов, судовладельцев и гладиаторов, крупной буржуазии и не бедствующего пролетариата. Древний и современный. Богатый и неприступный. Перекресток двух Империй, оберегающий их от тревог, уверенный в своей судьбе.
Именно поэтому Аттила и жаждал захватить его.
Это не Мец, не Орлеан, не Реймс и не Париж! Это козырь из козырей — ключ к Риму, к Равенне, Константинополю — и Галлии. Это путь куда угодно — и в первую очередь к славе.
Началась неторопливая методическая подготовка к осаде. Никаких преждевременных штурмов, никаких попыток перекрыть доступ к морю.
Спустя неделю, еще ни разу не задействовав свои баллисты и катапульты, Эдекон пустил в дело команды саперов и таранщиков. Град стрел и дождь кипящего масла заставил их ретироваться. Готовясь к новой атаке, они остановились довольно далеко от расположения основных сил, чем не замедлили воспользоваться осажденные. Ночью они предприняли вылазку и перебили неосторожных гуннских саперов.
Через несколько дней Эдекон приказал обстрелять город из баллист, пока новые саперы рыли подкопы, а штурмовые отряды с крюками и цепями пытались взобраться на стены.
И на этот раз полный провал. Подкопы не смогли обрушить стены, а те, кто лез на стены, лежали у их подножия.
Участились вылазки осажденных, нагоняя все больший страх на гуннов.
Катапульты применялись редко — похоже, Аттила надеялся взять город измором. Но к концу первого месяца осады голод грозил самим гуннам. Разорив окрестности, они сами лишили себя легко доступных источников продовольствия. Теперь приходилось ослаблять армию, отправляя за тридевять земель специальные команды, которые с грехом пополам снабжали войска. Начались эпидемии. Дух воинов упал, и — невиданное дело — обычно стойкие кочевники начали, как сообщает Иордан, роптать и жаловаться на судьбу. Лагерь гудел и волновался.
По легенде, Аттила уже собрался было снять осаду, но тут увидел стаю аистов, летевших из города. Это был знак: аисты покидают обреченный город, значит, пришло время решительного штурма.
Но это легенда. А были аисты или нет, осада продолжалась еще месяц без попыток массированного штурма. Аттила еще дальше засылал продовольственные команды, ждал, пока утихнет эпидемия энтерита благодаря обильному потреблению кумыса, и убеждался, что город способен выдержать долгую блокаду. Он боролся с ночными вылазками горожан, применяя все новые военные хитрости: приказывал установить ложные лагеря возле самых стен, даже с шатрами вождей, но только без людей, распоряжался вести по ночам со всех сторон обстрел города из баллист и тому подобное.
Обстрел велся несколько суток, тогда как городские орудия лишь изредка отвечали. Снова были проделаны подкопы, и на этот раз с некоторым успехом: обвалилась стена, но это был всего лишь внешний слой, практически облицовка настоящей мощной крепостной стены. Подкоп пришлось продолжить.
Стали доходить тревожные вести: Марциан решил вступить в войну и двинул легионы в Мезию. Надо было скорее кончать с Аквилеей, чтобы избежать неожиданного нападения с востока. Осада затянулась, три месяца — слишком большой срок.
Итак, все поставлено на карту. Шесть часов непрерывного обстрела из катапульт при одновременных саперных работах. Стены рушатся. Большие массы осажденных бегут по побережью моря на запад. Онегез приказывает не препятствовать им и не тратить время на ненужное преследование: сейчас главное — взять город. Эти беглецы укрылись на островах в лагуне и основали Венецию.
Укрепления трещат, рушатся под ударами камней и таранов. Аттила отдает приказ о штурме.
У него были свои причины, не гуманные, но разумные. Участь «неприступного города» должна стать показательной, чтобы другие сдались на милость победителя из одного страха пережить подобный кошмар.
Гунны, франки и другие союзные им варвары ворвались в поверженный город. Резня мужчин и детей, изнасилование и убийство женщин. История сохранила память о некоей Дигне, молодой жене одного из городских сенаторов. Преследуемая этими бандитами, она закутала голову платком и бросилась в ров с крепостной стены.
Грабеж, дележ добычи и разрушение ради удовольствия разрушать. От Аквилеи не осталось ничего.
Почему снова проявилось это безумие? Откуда эта ярость? Почему Аттила вернулся к варварству, пагубность которого сознавал и пытался побороть?
Дело в том, что, возвращаясь на Дунай после поражения на Каталаунских полях, Аттила решил пересмотреть свою политику в ущерб гуманизму.
Нельзя заставить людей сражаться только ради идеи создания империи, ради лучшего будущего. Им не объяснишь военной необходимостью стратегическое отступление, не сопровождающееся захватом добычи. Людей надо принимать такими, каковы они есть, и вести за собой не обещаниями будущих благ, но удовлетворением их сиюминутных желаний. Их можно поставить на службу высоким идеалам так, что они даже не осознают этого. Так уж устроен человек, и все гениальные умы умеют пользоваться этим, заставляя людей бессознательно служить своим целям.
Итальянские города опустели. Жители бежали, чаще всего морем. Выходцы из Алтинума — сегодня Альтино — заселили острова Торчелло и Мурано. Жители Падуи укрылись на Риальто. Обитатели Виченцы, Местре, Арколя, Эсте, Ровиго и даже Феррары, расположенной к югу от По, бежали, куда глаза глядят, главным образом, в лагуны.
Оставшиеся покорно открывали ворота почти обезлюдевших городов, но, за редчайшим исключением, избиения им избежать не удавалось, несмотря на обещание сохранить жизнь. Бич Божий!..
Опустошительное шествие через Ломбардию, Пьемонт и Лигурию. Но почему Аттила не спешил идти на Рим? Не к спеху, полагал он. Аэций не перейдет По, а если Марциан и вторгнется в Мезию, то натолкнется на сопротивление паннонийцев. Время есть. Посеем панику, пусть у римлян с равеннцами поубавится спеси.
Победоносный марш продолжался. Мантуя, Верона, Кастильо, Кремона, Брешиа, Бергамо, Лоди, Павия, Милан, Комо, Новара, Трекате, Верчелли, Чильяно, Мортара, Маджента, Виджевано… Войска под личным командованием Онегеза без особого труда форсировали По между Кремоной и Пьяченцей! Линия обороны Аэция оказалась не такой уж непрерывной и плотной, как казалась!
Аттила сконцентрировал войска к югу от Мантуи у слияния По и Минчио, на широком тракте, который вел в Рим через Апеннины. Собрать воедино воинство, кто куда разбежавшееся в поисках добычи, оказалось нелегким делом, но это было сделано. И вот теперь, любуясь на свои когорты, Аттила заявил, что не намерен идти дальше!
Эдекон и Орест ничего не понимали.
Это был гениальный ход. Аттила держал задуманный маневр в большом секрете, разработав его вместе с Онегезом. То, что он не раскрыл карт другим своим приближенным, совершенно не означало недоверия к ним, просто он хотел, чтоб они действовали естественно, хотел поразить их, еще больше укрепить их веру в мудрость и провидческий дар вождя. Он не мог отказать себе в удовольствии удивить своих друзей и заставить их вопить от восторга!
Это было не азартной игрой, а продуманной стратегией. Онегез перешел По, значит, Аэций решит, что переправился авангард армии Аттилы, и снимет значительную часть своего оборонительного заслона, чтобы отбросить гуннов за реку. Аттила же не пойдет вслед за Онегезом, а спокойно переправится через По совсем в другом месте, где оборона будет ослаблена.
Эдекон и Орест и вправду были поражены провидческой мудростью своего императора и шумно восторгались его гением.
В подтверждение правильности своего плана Аттила сообщил им последние новости: узнав о прорыве Онегеза, Аэций спешно снял часть войск, чтобы сосредоточить значительные силы к югу от Кремоны и Пьяченцы и отбросить гуннов на другой берег. Но покуда войска соберутся, Онегез уже уйдет дальше к югу. План таков: пока Аэций рыщет по берегам реки, выискивая армию Аттилы, Онегез со своим войском нападет на его тылы, и Аэций будет вынужден отражать нападение, оставив часть легионов как заслон против ожидаемого приближения Аттилы. Силы римлян будут распылены. Онегез, обратив в бегство арьергард Аэция, направится к Пизе, откуда по побережью ведет в Рим Аврелианова дорога. Аэций должен будет поспешить преградить гуннам путь к столице и еще больше ослабит свою линию обороны. И тогда Аттила перейдет По, дойдет до Мантуи и Флоренции и оттуда, по Кассиевой дороге, достигнет Рима!
Таков был план, и поныне восхищающий стратегов. План был обречен на успех, и в той части, которая зависела от Онегеза, результаты даже превзошли ожидания. Однако — воистину чудеса! — главная часть «гениального плана» так и не была реализована, потому что его разработчик передумал!
Большой полководческий талант Онегеза позволил решить основные задачи с учетом реальных условий и обеспечил гуннам стратегическое преимущество.
И действительно, Аэций, обшаривая берега реки в поисках гуннов, не имел ни малейшего представления, какой дорогой ушел Онегез, поскольку тот приказал войскам отходить самыми разными путями, отдельные из которых сознательно уводили в сторону от главной цели.
Аэцию пришлось преследовать эти отряды и разрозненные группы, веером рассыпавшиеся по множеству направлений. Успех не всегда сопутствовал римлянам, ибо гунны были мастера устраивать коварные засады. Аэций оказался втянутым в своего рода изнурительную партизанскую войну, для которой мало подходили тактические приемы, усвоенные дисциплинированными тяжеловооруженными легионами. Воины не могли использовать приобретенные навыки, а громоздкая поклажа мешала маневрировать. Аэций призвал к себе практически всю имевшуюся в его распоряжении конницу, еще более ослабив заградительный кордон войск по реке По. Римская кавалерия с трудом поспевала за прирожденными наездниками-гуннами, и, конечно же, даже речи не могло быть об окружении противника или создании условий для фронтального сражения. По приказу Онегеза отряды то группировались, то снова разделялись, исчезая из-под самого носа у римлян, не расставшихся еще с тщетной надеждой поймать гуннов в мешок.
Наконец, Онегез произвел концентрацию сил и взял направление на Каррару, Массу, Пистою и Пизу. Аэций был вынужден перевести в Этрурию лучшую часть своих сил. Войска Онегеза сосредоточились между Массой и Каррарой. Аэций полагал, что разгадал замысел врага: из Луны армия противника двинется по короткой и широкой дороге, ведущей от По к долине Тибра, а оттуда — к Риму. Этого нельзя было допустить. Онегез сделал вид, что последовал по этому пути, затем распустил войска во всех направлениях от Массы и Каррары до Пизы и Флоренции, снова их собрал и вновь распустил, создавая видимость, будто грабит страну, прежде чем выйти на военную дорогу, приковавшую к себе бдительное внимание патриция, который не хотел допустить к ней Аттилу, тогда как все это было лишь игрой в прятки и отвлекающим маневром, а большая армия Аттилы и не покидала Мантуи.
Что же произошло? Почему Аттила отказался от своего плана, который его соратники нашли превосходным, и почему, пока Онегез водил за собой Аэция, он не форсировал, воспользовавшись случаем, По и не пошел через долину Тибра осаждать Рим?
Наступила вторая половина июня, и стояла удушливая жара. Снова начались болезни. Часть войска была поражена эпидемиями, другая мучилась от последствий излишеств удачной кампании в богатой стране. Кроме того, обоз ломился от награбленного добра и многие герои жаловались на усталость, которая была тем тяжелей, чем сильнее распирало их желание доставить поскорее добычу домой.
Кругом свирепствовала эпидемия, и бытовало ошибочное мнение, что к югу от По она сильнее, чем на севере, а посему заманчивая мысль о продолжении войны по ту сторону реки По теперь не сулила ничего хорошего.
К тому же Аэций расходовал свои силы, гоняясь за тенью Онегеза, и не знал, откуда ждать главного удара. Значит, завтра переправа окажется еще легче, чем сегодня, и враг быстрее сложит оружие.
Но надо было поставить последнюю точку в этой кампании. И у Аттилы появилась новая идея: а нельзя ли вместо наступления создать одну только видимость наступления, посеять такую панику, что страх вынудит Рим капитулировать и в сражениях не будет нужды?
Аттила призвал к себе Онегеза, и тот вернулся той же дорогой, по которой уходил. Аэций не мог не понять, что производится концентрация сил перед решающим наступлением. Он стал стягивать все свои легионы для защиты Апеннин любой ценой.
Но в Риме, узнав о подготовке генерального наступления гуннов в районе По и Минчио, все потеряли головы от страха и даже не могли себе вообразить, чтобы гунны надолго задержались в своем марше на столицу по главной дороге Апеннин.
Валентиниан III собрал своих министров и советников. Надо было выбрать меньшее из зол. Предстояло выяснить у Аттилы, на каких условиях он согласен пощадить город, отправить послов с дарами, пойти на любые унижения, обещать ежегодную дань, которая могла быть весьма велика, если гунн не выставит еще и территориальных притязаний.
Максим Петроний возразил, что это ни к чему не приведет. Все, чего хочет Аттила, — военная победа, поражение и гибель Аэция, радость грабежа и резни. Императорские послы? Да их даже не примут!.. А вот что если направить к Аттиле самого Аэция?
Император отвечал, что Аэций, определенно, не согласится. Да если бы и согласился, его все равно не примут, как любого другого посла.
Тогда что остается, делегация Сената? Собрали Сенат. Сенат единогласно постановил назначить нескольких сенаторов, которые от его имени попросят мира за ту цену, которую назначит Аттила.
Но что подумает народ? Не воспримет ли он это как трусость и предательство со стороны императора и знати?
Объявили общий сбор горожан. Сенаторы сообщили об опасности, нависшей над Римом. Город мог подвергнуться полному разрушению. Вся северная Италия разграблена, легионы могут лишь ненадолго задержать грозного врага, который уже скоро окажется под стенами города.
— Так чего же хочет народ, мира или войны?
— Мира! Мира!
— Что предпочтут граждане Рима: ждать прихода гуннов или направить послов?
— Послов! Послов!
Сенат собрался снова, в присутствии императора, его министров и высших сановников. Кто возглавит посольство? Кого наверняка примут? Нельзя же, в конце концов, просить самого императора? Да и примут ли даже императора? Тогда поднялся самый известный сенатор, Геннадий Авиен и заявил: «Послать папу, он будет принят».
Папа! Никто об этом не подумал. Многие даже не смели об этом думать. Папа! Он был глубоко чтим всеми. Его ценили интеллектуалы, уважали сановники, любил народ. Даже язычники одобряли его преданность общему благу. Кроме того, еще будучи простым дьяконом, в 440 году, он проявил себя умелым дипломатом. Галла Плацидия направила его в Галлию уладить конфликт между Аэцием и римским префектом.
Папой тогда был Лев I, тот самый, который в Истории известен как Лев Великий, а в Церкви — Лев Святой.
Какой был человек! Еще пребывая в невысоком дьяконском чине, он был уже видным богословом и философом. Папой его избрали в 440 году, когда он еще даже не был рукоположен в сан священника. Лев повел войну с основными ересями того времени — манихейством в Италии, которое противопоставляло доброго Бога злому Богу и пыталось соединить христианство и восточные языческие верования, присциллианизмом в Испании, который, признавая в едином абстрактном Боге высшую силу, распределял ее среди целого пантеона божеств, и монофизитством в Константинополе.
Борьба с последним была наиболее трудной. Константинопольский архимандрит Евтихий воспротивился доктрине отцов Церкви, которые признавали в Иисусе Христе два начала, единых, но не тождественных: божественное и человеческое. Для Евтихия и последователей монофизитства человеческая природа впитала в себя божественную суть, создав единство природы Мессии. Лев выступил против такой трактовки. Под председательством константинопольского патриарха собрался синод, который подтвердил ложность положений монофизитства. Лев I написал тогда, в 449 году, свое «Догматическое письмо», в котором изложил католическую доктрину единства личности и дуализма природы Иисуса. В ответ Феодосий II, который считался теологом, не знавшим себе равных, поддержал Евтихия и выступил против папы. Своей властью он созвал другой синод в Эфесе, на котором были провозглашены основные принципы монофизитства, а папа лишен сана! Лев I ответил: «В Истории будет говориться не об Эфесском синоде, а об Эфесском разбое». Тогда Лев созвал в 451 году Халкедонский вселенский собор, на котором были утверждены положения «Догматического письма» и окончательно разоблачено монофизитство.
Вот к этому святому человеку, семидесятилетнему тосканцу с длинной седой бородой (который скончается в Риме девять лет спустя), и обратился сенатор Геннадий Авиен, исполняя поручение императора и Сената.
Папа, которого Проспер Аквитанский изящно назвал «здравием ума», принял предложение и немедленно отправил в Мантую епископа и нескольких дьяконов, в церковном облачении, но верхом. Послы отбыли без вооруженной охраны, но с папским штандартом и высоким серебряным крестом, которые должны были обеспечить им защиту.
Епископ, единственный, кто знал текст послания, получил наказ ни с кем не разговаривать, пока не добьется аудиенции у Аттилы или одного из его министров. Посольство добралась до По без приключений и недалеко от Мантуанского моста встретилось с Аэцием, который приветствовал папских легатов, не скрывая своего удивления. В чем дело, господа? Посольство папы к императору гуннов. Какое еще посольство? А бог его знает, послали и все, донесение секретное, передать сказано Аттиле лично в руки.
Аэций был знаком с папой и как никто другой мог оценить его талант дипломата. Он посчитал, что готовится последняя попытка положить конец войне и перейти к мирным переговорам. Аэций предложил епископу эскорт и герольда, который бы заранее известил гуннов о визите папских послов. Епископ отклонил предложение и направился к мосту.
С другого берега посольство было замечено постом гуннов. Легатам было приказано остановиться. После пятнадцатиминутной суеты на гуннском берегу появился Орест. Тот сразу оценил и штандарт, и одежды, и крест. Он выставил у схода с моста почетный караул и лично вышел навстречу послам, дав им знак приблизиться.
Епископ сошел с коня. Орест также спешился — редкий случай. Последовали взаимные приветствия. Епископ сообщил, что направлен папой с личным посланием к императору гуннов. Орест разместил послов в шатре и распорядился накормить их. Он забрал запечатанное письмо и попросил подождать, пока он доставит послание императору.
Он вернулся спустя два часа и сообщил легатам, что император гуннов передает папе наилучшие пожелания и благодарит его за инициативу. Папа и римская делегация будут приняты 4 июля. Переговоры пройдут на Амбулейском поле, у брода через Минчио. До прибытия папы не будет предпринято никаких военных действий при условии, что и римские легионы не сдвинутся с места, даже под предлогом сопровождения посольства понтифика при возвращении его в Рим.
Епископ обещал выполнить все условия, поблагодарил за прием и поднялся, чтобы уйти. Тогда Орест передал ему скрепленное печатью письмо и поставил последнее условие: никто не должен узнать ответ императора гуннов, который предназначен папе и только ему.
Послы сели на коней. Епископ избежал необходимости лгать, так как при съезде с моста не повстречался с Аэцием. С облегчением вздохнув, он послал известить главнокомандующего от имени папы и римского императора, что без приказа из Рима не следует предпринимать каких-либо военных действий и что войска не должны менять своей дислокации.
Детали встречи стали известны историкам благодаря Просперу Аквитанскому. 4 июля около одиннадцати часов утра в сопровождении десяти дьяконов в белых одеждах с папским штандартом и серебряным крестом и десяти легионеров в парадном облачении и церемониальным оружием к Мантуанскому мосту прибыла делегация в составе папы, Авиена и Тригеция. Проспер Аквитанский также был в составе посольства в качестве секретаря. Авиен получил от императора верительную грамоту полномочного посла.
Аэций принял послов и поцеловал перстень понтифика. Он начал было задавать вопросы, но Авиен показал ему грамоту:
— Я ничего не могу тебе сказать.
— Но, по крайней мере, ты можешь сказать мне, что я должен делать?
— Оставаться на месте.
— Значит, я не буду сопровождать тебя в составе посольства?
— Нет. Ты останешься с войсками.
— Не могу ли я оставить здесь моего помощника и отправиться в Рим, чтобы приветствовать императора и представить ему полный отчет обо всем, что произошло за это время?
— Нет. Ты останешься с легионами.
— И кто же скажет мне, что делать дальше, когда переговоры закончатся?
— Я.
Аэций проводил послов до въезда на мост и, простившись, удалился.
На той стороне реки их встретил Орест и сопроводил в шатер, где их ждали накрытые столы. Другой шатер был приготовлен для эскорта.
Папа поинтересовался, когда состоится первая встреча. Орест ответил: «Мой господин примет вас сегодня, в час, который вы укажете. Он дает вам время отдохнуть и желает, чтобы вы отдохнули хорошо. Он просит, чтобы вы оказали ему честь воспользоваться сегодня вечером его гостеприимством, и хочет усадить вас напротив себя, а не рядом, чтобы вы оба могли возглавить трапезу. Переговоры, если вы не возражаете, начнутся только завтра в удобное для вас время».
Неожиданно приятный и многообещающий прием!
Папа был даже слегка растроган. Он согласился со всеми предложениями. Орест должен был зайти за ним в пять вечера. Папа облачился в праздничные одежды, чтобы оказать честь императору гуннов. Он согласился на ужин, заявив, что польщен предложением сидеть во главе стола, и, поскольку ему было предоставлено назначить время переговоров, наметил встречу на девять часов утра следующего дня.
Дьяконы и солдаты принесли большие кожаные мешки с парадным облачением папы и сенаторов.
Амедей Тьерри, основываясь на материалах вскрытия могилы Льва I, так описывает его одежды: «Лев носил митру из шелка, шитого золотом, округлой формы на восточный манер, бордовую сутану с паллием, украшенным маленьким красным крестом на правом плече и другим, покрупнее, на левой стороне груди».
Сенаторы были одеты в белые тоги со знаками их высокого достоинства. Авиен, например, носил золотой ошейник с подвешенной к нему медалью с изображением императора — знак самых полных полномочий.
Орест зашел за послами в назначенное время и отвел их к месту встречи в просторном, расшитом золотом шатре. Аттила был одет по римской моде: длинная белая тога, но с горностаевым воротником, и дорогие ожерелья, ниспадающие на грудь.
В честь прибытия папских послов был дан праздничный обед. Высокую делегацию представляли глава римской католической церкви папа Лев I, сенаторы Авиен и Тригеций и секретарь посольства Проспер Аквитанский. Гостей принимали император гуннов Аттила, министры Онегез, Эдекон и секретарь… Орест! Да, Аттила хотел соблюдать в переговорах равенство сторон. Послов трое, и принимающих трое. Орест принял отведенную ему роль. Аттила посадил по правую руку Авиена, по левую — Тригеция. Справа от Льва сидел Онегез, слева — Эдекон. В конце стола приютились друг против друга Проспер и Орест. Блюда подавали изысканные, вина выдержанные. Рассуждали о погоде, жаловались на жару, частые грозы и моровые поветрия. Папа рассказывал о Малой Азии, Аттила делился впечатлениями о Дальнем Востоке. Произошло невероятное, но Аттила исполнился восхищения благородным и мудрым старцем, а папа не устоял перед обаянием несокрушимого и на славу цивилизованного вождя!
Переговоры были перенесены с пятого на шестое июля. Пятого папа и император условились встретиться наедине, с глазу на глаз.
Никогда не будет известно, о чем говорили Лев I и Аттила. Проспер Аквитанский записал лишь следующее: «Папа положился на помощь Господа, который не оставляет тех, кто служит справедливому делу, и его вера принесла успех».
Шестого июля состоялись переговоры. Аттила сам объявил, что стороны пришли к согласию. Он начнет вывод войск из Италии с восьмого июля и выберет тот путь, который его устроит. Император Западной Римской империи выплатит в пятилетний срок разумную дань. Он отказывается впредь от всех попыток вторжения в Галлию и Италию при условии, что на него не нападут в другом месте и Рим воздержится от любых подстрекательств, сеющих смуту и подрывающих порядок в его империи. Он ожидает, что Валентиниан призовет Марциана выплачивать дань, обещанную его предшественником, и также не беспокоить императора гуннов. В противном случае он будет считать себя свободным от обязательств и Константинополь окажется под ударом. В завершение речи он поблагодарил папу, заявив, что для него большая честь принимать у себя «самого мудрого человека в мире», и пожелал ему долгих лет жизни. Папа был так растроган, что не мог отвечать. Они молча обнялись.
Папа удалился к себе и переоделся в простые белые одежды. Подвели лошадей.
Аттила, спохватившись, захотел оставить последнее слово за собой и насмешливо бросил Тригецию напутственные слова: «И напомните вашему императору, что я все еще жду свою невесту Гонорию!»
Послы уехали. До моста их сопровождал Орест. На другой стороне их встретил Аэций. Поклонившись папе, он обратился к Авиену:
— Что я должен делать?
— Готовиться к отъезду.
— Когда я должен выехать?
— Завтра вечером.
— Оставив здесь Аттилу?
— Оставив его здесь. Он уйдет завтра.
— Уйдет?
— Уйдет.
— Каким путем?
— Каким пожелает.
— Ты уверен, что он уйдет?
— Я уверен, что он уйдет.
— Берегись! Я знаю его коварство, я знаю его лучше, чем ты!
— Ты знаешь его меньше, чем я.
— Мой отъезд — это приказ?
— Это приказ твоего императора.
— Куда я должен отправиться?
— В Рим.
— Что дальше?
— Я встречу тебя там.
В полной растерянности, ничего не понимая, Аэций скрепя сердце исполнил приказ. Он собрал войска. На следующий день они были готовы выступить в путь. Он прибыл в Рим. Авиен ждал его у городской стены:
— Сегодня мы вместе обедаем у императора.
— Чего он хочет?
— Поздравить тебя. А завтра мы обедаем у папы, который тоже хочет тебя поздравить.
Так и случилось.
Валентиниан III сыпал похвалами: «Ты выстоял, и мы смогли пойти на переговоры, как захотел папа. Ты — верховный главнокомандующий моими войсками. Отправь легионеров в отпуск, они этого заслужили, а сам останься подле меня, мне всегда дороги твои советы».
Народ Рима ликовал и славил Аэция! Папа оказал ему самый теплый прием. Если бы не большой печальный опыт, Аэций подумал бы, что настал его звездный час. Правда, он пробил с большим опозданием и не вовремя, так как на этот раз он, Аэций, не сделал ровным счетом ничего выдающегося, напротив, он совершенно не понимал, что происходит, стоял в стороне от всех политических решений и не участвовал в переговорах. Но он в чести, и это главное. Козни Максима Петрония очень быстро показали ему, что у него нет причин радоваться. Он неоднократно покидал двор. Говорили, — а чего только не рассказывали про него? — что он не мог сдержать слез, когда узнал о смерти Аттилы, и на него снова пало подозрение в заговоре. Но пройдет время, и его опять призовут ко двору: Валентиниан так нуждался в его советах! Мы знаем, что было дальше и чем всё закончилось.
Аттила начал отход восьмого июля. Войска были в приподнятом настроении: мир заключен, враг согласился уплатить большую дань и теперь можно распорядиться добром, добытым за всю кампанию. Аттила не пошел старой дорогой. Он знал, что Марциан не только разместил крупные силы в Мезии, но и направил в Паннонию целое войско под началом Марка Юлия Аэция, не имевшего никаких родственных связей с Флавием Аэцием. Эта армия могла поджидать гуннов на альпийских склонах Баварии или Зальцбурга.
Поэтому Аттила, поднявшись вверх по течению Адидже, избрал более трудный путь через Ретийские Альпы. Через Инсбрук, мимо Боденского озера, по Вертахской долине он вышел к Аугсбургу, тогда еще Аугуста Венделикорум. Оставалось только спуститься по Jlexy, а там уже родной Дунай! Но под Аугсбургом воины просили его разрешить еще один, последний грабеж. Аттила колебался, ибо это не очень сочеталось с принятыми обязательствами. После раздумий он дал добро. При переправе через Лех какая-то уродливая женщина — настоящая ведьма — бросилась в воду и, схватив его коня под уздцы, три раза прокричала: «Назад, Аггила!»
Воины хотели расправиться с ней, но Аттила отпустил женщину с миром. Он достиг Дуная, переправился через него и приказал разбить шатер. Всю ночь его мучили приступы рвоты и шла горлом кровь.
Почему же Аттила ушел из Италии? Можно ли дать на это ответ? Попыток было много. Вот первое объяснение: чудо святого Льва.
Проспер Аквитанский подводит нас к этому заключению: «Возблагодарим Господа, который спас нас от великой беды!» Так, по его словам, сказал папа императору по своем возвращении в Рим.
Чудо святого Лу, чудо святого Аниана, чудо святой Женевьевы и, наконец, чудо святого Льва. Не слишком ли много чудес, чтобы отвести Бич Божий?
Другое объяснение, близкое к первому, но не столь мистическое, а скорее психологическое: великая сила убеждения Льва, перед которой не устоял Аттила.
Да… да, но… Аттила не поддавался столь легко чьему-либо влиянию. В случаях с Лу, Анианом и Женевьевой речь шла всего лишь о рядовых городах, но отказаться от Рима! И потом уйти — уйти, отказавшись от Италии и Галлии!.. Лев, наверное, действительно умел убеждать!
Вариант: Аттила в первый — и единственный — раз в жизни встречался с папой, причем с папой, которого почитал весь христианский мир, не просто с епископом Рима. Аттиле было лестно говорить с ним на равных, а порой и выказывать ему собственное превосходство. Он был в восторге, он был на вершине славы, это было блестящее завершение его жизненного пути, он ничего больше не желал!
Версия интересная, но не так-то просто было привести Аттилу в восторг. Он общался с римскими императорами и не испытывал к ним особого почтения. Он был атеистом, и наместник Бога на земле был для него наместником того, кого не существовало, по крайней мере, для него. Нельзя же допустить, что папа за десять минут обратил его в свою веру!.. Аттила увидел великого человека, который произвел на него сильное впечатление, это несомненно. Но о смиренном послушании и речи быть не могло.
Еще один вариант: Лев помог Аттиле обрести мир с самим собой, пробудив в нем чувство человечности.
Это также похоже на чудо. У Аттилы уже были проблески гуманизма между двумя истребительными кампаниями. Были Труа, Орлеан и Париж, но они не предотвратили Каталаунских полей, а проповеди Льва не спасли Аугсбурга!
Нет, ключ к разгадке не здесь…
Было и еще одно об яснение, поэтическое, сентиментальное, очаровательное, идиллическое: дар Елене. Объяснение, предложенное в итальянской легенде и не подкрепленное ни одним историческим документом.
В окрестностях Мантуи жила молодая римлянка, красивая и чистая, набожная и милосердная. Ее вера победила все страхи, и она осталась одна в семейной вилле, когда родители бежали, узнав о приближении гуннов. Аттила проезжал мимо в сопровождении очень небольшого эскорта — такое случалось часто — и захотел сделать привал, перекусить и немного отдохнуть. Юная девушка вышла к нежданным гостям, с милой улыбкой пригласила Аттилу в дом и стала ему прислуживать. Аттила был столь ею очарован, что попросил накормить своих людей в соседней большой комнате и остаться поговорить с ним наедине. Девушка согласилась, и они разговорились. Она сразу поняла, что перед ней был ужасный император гуннов, и поразилась его учтивости.
Она сказала ему, что она христианка и намерена посвятить свою жизнь служению Господу. Ее Бог есть Бог Мира, Добра и Всепрощения. Зачем же он, Аттила, несет людям войну, мучения и смерть? Чувствуя себя смущенным перед такой невинностью и отвагой, император ответил, что ведет себя так только потому, что он Бич Божий и должен выполнять свое предназначение. Она поняла его, и объяснение показалось ей убедительным, но только Бич Божий еще не Архангел Смерти. Разрываясь между желанием поцеловать ее в лоб и расхохотаться, он попросил ее продолжать. Девушка говорила о милосердии, следующем за местью, о смиренной и счастливой старости, о радостях мирной жизни и отдыхе воина, об исполненном предначертании. Аттила был восхищен. Тут в легенде начинаются расхождения: по одной версии, он соблазнил христианку, которая отдалась, то ли поддавшись его неотразимому очарованию, то ли из духа самопожертвования; по другой — решил стать другом этого простодушного ребенка и обещал ей подумать, после чего отправился спать один. В обеих версиях (физическая и платоническая любовь) Аттила встречается с ней вновь, дает себя убедить, отказывается ради нее от всех своих планов и ищет теперь только случая уйти, не поплатившись репутацией. И тут папа — папа христианки Елены! — просит его встретиться с ним: жребий был уже брошен.
Милая, милая сказка. Слишком все красиво, чтобы быть правдой.
То, что Аттила завел роман с прекрасной мантуанкой, вполне вероятно, а учитывая его страсть к красавицам во всех странах, в которых ему доводилось бывать, практически не вызывает сомнений. Но вот его уважение к ней маловероятно, а власть над ним вообще из области фантастики. К тому же о Елене больше никогда не упоминалось.
Тогда что? Объяснение исключительно военного характера? Или, вернее, военные объяснения?
Объяснение первое: хорошо поразмыслив, Аттила решил, что продолжение кампании приведет его к поражению. Он опустошил Северную Италию, захватил добычи больше, чем рассчитывал, и этого, полагал он, будет достаточно.
Это объяснение не выдерживает критики.
Аттила знал, и знал хорошо, что ни один из его полководцев даже не думает о поражении. Эдекон был уверен, что справится с укреплениями Рима, и достижения его модернизированной артиллерии давали ему достаточно оснований для оптимизма. Онегез и Орест в первый раз в жизни буквально взбунтовались: они не хотели слышать даже о безоговорочной капитуляции, настаивая на завоевании. Они смирились только потому, что император есть император и его воля — закон. Кроме того, Аттила начинал поход, преследуя вполне конкретную цель: захватить Италию, а затем и Галлию. Избыток добычи в обозе не мог заставить его отказаться от своего плана.
Второе объяснение: низкий боевой дух войск. Допустим. Но как могло случиться, что именно Аттилу охватил дух пораженчества, когда его командиры и советники рвались в бой? Такое едва ли могло произойти. Лучше, нежели они, чувствовал настроение бойцов? Маловероятно. Он стоял еще дальше от простых воинов, чем его командиры.
Третье объяснение: угроза со стороны Марциана, который шел разорять гуннские земли и мог преградить Аттиле путь к отступлению. Но в Паннонии были оставлены значительные силы, которые могли защищаться, и имелись союзники, обязавшиеся прийти на помощь в случае реальной опасности. В Мантуе вопрос стоял не об отступлении, которому Марциан мог помешать, а о наступлении дальше на юг! К тому же первой заботой Аттилы еще до спуска по альпийским склонам, которые Марциан мог защищать, было спровоцировать того на выступление и пригрозить самым худшим, если византиец не примкнет к договору и продолжит отказываться от уплаты дани.
Нет, не может быть, чтобы Аттила действительно опасался Марциана. Однажды он уже стоял у стен Константинополя и теперь предпочитал ставить перед собой более сложные задачи.
Итак? Объяснение — в конечном счете тоже военное — заключается в том, что он беспокоился о судьбе центральной и восточной частей империи?
Это объяснение, хотя оно и не может быть единственным, стоит ближе всего к истине.
Аттила так хорошо наладил почтовую связь, что всегда и везде был в курсе событий, происходящих в самых отдаленных уголках его империи. Он знал, что экспедиция Ореста не решила всех проблем в Центральной Азии и на Востоке. «Укрепленные пункты» снова были стерты с лица земли, и кавказские аланы могли взять верх над Эллаком. Следовало ли в этих условиях продолжать борьбу, стремясь расширить пределы империи, если нельзя было прочно удерживать ее в руках и такой, какой она была?
Для полноты картины стоит упомянуть и еще об одной гипотезе, выдвинутой некоторыми исследователями. В ней снова фигурирует «пакт двух друзей». Аэций помог выбраться Аттиле из тяжелого положения под Орлеаном и на Каталаунских полях, а теперь Аттила мог одним махом разрушить всю блестящую карьеру Аэция, но не стал, так как долг платежом красен. Но в сложившихся условиях, и особенно с учетом масштаба поставленных Аттилой целей, такое предположение выглядит чистой воды романтикой.
И все-таки? Еще одно объяснение: здоровье Аттилы.
Только одним лишь плохим состоянием здоровья Аттилы также нельзя объяснить всего, но этот фактор не следует сбрасывать со счетов.
Аттила лишился сил и боялся конца. Рвота, головные боли, кровотечения и обмороки. Он больше не мог продолжать игру.
Он скрывал свою болезнь, но знал, что скоро будет уже не в состоянии это делать. Тогда зачем упорствовать? Зачем пытаться завершить завоевание, конца которого он все равно не увидит, зачем продолжать идти вперед и вперед, когда он мог умереть по дороге? Не разумнее ли было бы отказаться от прежних замыслов и посвятить остаток дней укреплению уже созданной империи в надежде, что она останется прочной на долгие годы?
Такое состояние души вполне понятно. Известно, что по возвращении из похода Аттила много дней был недосягаем для всех, кроме врачей, которые поклялись сохранять все в тайне. Он не допускал к себе даже Онегеза, который был вынужден в это время править от его имени.
Почувствовав себя лучше, Аттила оставил Онегеза фактическим правителем и принял несколько решений, направленных одновременно на укрепление собственного престижа и упрочение союзов на случай возможного возобновления военных действий. Были на то основания или нет, однако в этом усмотрели признак гнетущего его страха, посчитав, что император хотел напомнить о себе, скрыть от всех свою болезнь и показать, что он сам занимается самыми важными политическими вопросами и вынашивает новые грандиозные замыслы.
Именно в этот период он посылает в Паннонию «экспедиционный корпус» под началом Ореста, который отбросил в Мезию наемников Марциана. Выполняя приказ императора, Орест направил в Константинополь послов, которые были приняты одним из византийских министров. Послы спрашивали, намерен или нет император Восточной Римской империи платить дань, обещанную Феодосием II? Если нет, то он должен готовиться к худшему. Ответа не последовало, но Марциан забеспокоился. Он усилил свои войска в Мезии, назначив командующим «другого» Аэция, о котором уже упоминалось.
Аттила направил также делегацию в Рим, которая благополучно добралась до места назначения. Послы прибыли получить дань, оговоренную с папой и полномочным представителем императора, так как выплата задержалась недопустимым образом. Валентиниан III незамедлительно удовлетворил требование и принес свои извинения за задержку, которая произошла по «не зависящим от него обстоятельствам».
Кроме того, Аттила послал партию оружия франкам-рипуариям в знак дружбы и дорогого ему союза, который он хотел еще более упрочить на случай возможной войны.
Он попытался также, но безуспешно, возобновить отношения с бургундами.
С особой радостью он узнал о гибели Сангибана, который все-таки не уберегся от оружия вестготов. Но с аланами дело решительно не клеилось. Западные аланы в Галлии и Испании были практически полностью перебиты, восточные сделали невыносимой жизнь Эллака. Кроме того, среди акациров произошел раскол, и часть их присоединилась к непокорным аланам, тогда как обычно эти народы плохо ладили друг с другом. Было замечено появление новых племен, которые, по-видимому, были родственны акацирам. Дикие пришельцы вторгались почти со всех сторон в долины восточных рек на востоке и в районы Урала.
Император собрал, постаравшись придать этой встрече по возможности более торжественный характер, своих главных полководцев и министров и заявил им, что его здоровье в полном порядке и что он намерен лично заняться восстановлением порядка в империи вплоть до самых дальних восточных окраин, а затем предпринять наиболее грандиозную в своей жизни кампанию против «римских империй».
Можно ли, учитывая вышесказанное, объяснять уход из Италии подорванным здоровьем?
Можно, поскольку некоторые поступки Аттилы свидетельствуют об этом, вне всякого сомнения, допустить, что неожиданное ухудшение самочувствия сыграло свою роль в решении отказаться от захвата Рима, но оно не стало единственной причиной.
Необходимость усмирить мятежников в центральной и восточной частях империи послужила дополнительным мотивом. Но надо признать, что Аттила не сразу бросился покорять бунтующие провинции и что он мог доверить осуществление карательной экспедиции Оресту, снабдив того необходимыми указаниями и дополнительными войсками.
Едва поправив пошатнувшееся здоровье, Аттила немедленно заявил о своем желании восстановить порядок в империи и утвердить свою власть во всем римском мире — цель, о которой он впервые заявил официально.
С учетом этого можно предположить, что отказ от Рима был продиктован сложившимися обстоятельствами. Аттила усомнился в своих физических силах и сделал вид, что уступил просьбам папы, на самом же деле хотел лишь отдохнуть и подлечиться и затем возобновить борьбу с новой силой. Однако зная о готовности Рима капитулировать, трудно представить себе, чтобы Аттила мог лишить себя столь славной победы, которая стала бы блистательным завершением его карьеры. Умереть в Риме, покоренном Риме, открывшем ему свои ворота, — это был бы настоящий апофеоз!
Некоторые исследователи утверждают, что он посчитал этот триумф бесполезным, так как после его смерти никто не сумел бы сохранить его империю. Такое предположение имеет основания, но при этом с неизбежностью подводит к заключению, что Аттила не верил в возможность существования своей огромной и разноплеменной империи (с Римом или без него) после собственной кончины, а это представляется совершенно невозможным, поскольку именно в этот период он проявляет огромное внимание к своим наследникам и передает все больше полномочий Онегезу.
Итак, мы снова вынуждены рассмотреть вопрос о психическом расстройстве. Уже неоднократно отмечалась неожиданность решений, смена фаз хладнокровия и неврастении, решительности и неуверенности. У Аттилы могла развиваться одна из форм шизофрении.
Часть исследователей склонна видеть в Аттиле авантюриста, искателя приключений. Для него, утверждают они, игра имела больше значения, чем выигрыш, поэтому, поняв, что он победит в этой партии, доводить дело до конца ему было уже неинтересно. Он бросал все и устремлялся на поиски новых приключений, удовлетворенный уже тем, что изумил весь мир. Другие, как Г. Хомайер и Гельмут де Боор, шли еще дальше по пути психоанализа, утверждая, что Аттила был жертвой инстинкта разрушения и что именно гений разрушения определял все его поступки, стирал ли он город с лица земли или разбивал надежды своего окружения, отказавшись его уничтожить.
Можно думать, что угодно. Аттила был сложной натурой и часто почти непредсказуемой. Но многие его решения, приказы и заявления доказывают, что все эти неожиданные повороты были рождены не больным, но гениальным умом.
Аттила заявил о намерении навести порядок во всей своей империи. Он выждал время, необходимое для восстановления здоровья, чтобы подготовить отъезд. Он взял с собой только конницу, причем в сравнительно небольшом количестве, зная, что придется преследовать кочевников, которые не смогут противопоставить ему значительные силы. Артиллерию составили только легкие баллисты, запряженные лошадьми. Он снова открыто, если не напоказ, передает бразды правления Онегезу, при этом опять-таки во всеуслышание поручает ему подготовить все необходимое для грандиозной кампании, которую намеревается осуществить спустя несколько месяцев после своего возвращения, то есть следующей весной. Он прямо заявил, что нападет на Восточную империю и что вся Италия и вся Галлия покорятся ему.
Возникает предположение, восхваляющее гений Аттилы: он совершил походы в Галлию и Италию лишь для того, чтобы показать свою силу и оставить там неизгладимую память о себе; он отказался повторить сражение на Каталаунских полях, захватить Рим и продолжить завоевание Италии, потому что был уверен, что уже достаточно показал свое могущество и позднее Италия и Галлия сдадутся ему без боя; он пощадил Рим и уступил уговорам папы, чтобы придать себе величия и заручиться поддержкой Церкви; он намеренно позволил думать византийскому императору Марциану, будто боится его и не нападет, тогда как собирался в свое время нанести тому смертельный удар и захватить Восточную Римскую империю, после чего Западная империя, включая Галлию и Италию, пала бы перед ним на колени; и, наконец, он понимал, что решительный штурм всей Римской империи будет возможен только после восстановления порядка по всей империи гуннов.
Объяснений много, даже слишком. Попытки объяснять поступки Аттилы парадоксальностью склада его ума, идущего наперекор логике, не стоит все же сбрасывать со счетов, хотя некоторые историки, такие, как Эдуард Троплонг и Рашид Саффет Атабинен, и допускают, что его дипломатический гений основывался на тщательном анализе всех возможных вариантов развития событий.
XVII
Последняя кампания
Несмотря на пошатнувшееся здоровье, Аттила не мог предположить, что это его последняя кампания. Об этом свидетельствует тщательная подготовка к походу, порученная Онегезу.
Эта война должна была стать самой молниеносной из всех, которые когда-либо вел император гуннов. По всей вероятности, война началась в сентябре, а в декабре Аттила уже возвратился из похода.
Такая быстрота объясняется тем, что, как только завершилась переправа через Днестр, армия разделилась: примерно половина войска под командованием Ореста взяла направление на Урал, вторая половина последовала за Аттилой к берегам Каспийского моря через Северное Причерноморье и Кавказ.
Орест пересек Украину севернее Киева, прошел между Харьковом и Москвой, достиг Волги в районе Нижнего Новгорода, вышел к Каме у Перми и оттуда повернул на запад от Уральских гор.
По пути он восстанавливает прежний порядок, отстраивает заново или обновляет «укрепленные пункты», истребляет грабителей-кочевников, приводит в повиновение мирных кочевников и доверяет им охрану края, усмиряет народившихся мятежников — в которых было больше безразличия к Империи, чем осмысленной воли к сопротивлению — и возвращает земли мирным пахарям, обеспечив их на всякий случай оружием и специально выделенными наставниками по военному делу.
К своему великому удивлению он постоянно и в самых разных местах наталкивается на неизвестные доселе племена, которые и сами не знали, откуда пришли. Везде ему попадаются небольшие кочевья этих полудиких жестоких грабителей, не имевших никакой связи друг с другом и действовавших на свой страх и риск вдали от родных мест. Все они походили друг на друга, к сколь разным племенам ни принадлежали бы. Все те же звериные шкуры, те же топоры и дротики, маленькие луки, пращи, шлемы и щиты из грубо выделанной кожи.
Орест встречает их под Киевом, они попадаются ему по берегам Буга и Днепра, и еще больше их встречается между Волгой и Камой и между Камой и Уральскими горами. Он убил их столько, сколько смог, и все равно меньше, чем хотел бы.
Какое-то время он полагал, что они пришли из-за Урала и уже затем разбрелись в разные стороны. Но потом стало ясно, что они не знали этих гор и не смогли бы их преодолеть. Он заключает договор о дружбе с монгольскими племенами башкир, снова переправляется через Волгу, направляется к Смоленску, все время придерживаясь политики приобщения к империи и упрочения связей. Он пересекает территорию современной Белоруссии, ненадолго задерживается в современной Польше, где вновь встречается все с теми же загадочными новыми пришельцами, осевшими по обеим берегам Вислы, и через земли, образующие сегодня Чехию и Словакию, возвращается в Буду, где дожидается Аттилы.
О самостоятельной кампании Ореста (если и не самого Ореста, о чем нельзя сказать определенно, то, по крайней мере, одного из его военачальников) можно с уверенностью говорить уже потому, что за такое короткое время Аттила не сумел бы осуществить столь дальний рейд дополнительно к тому, который, как достоверно известно, провел сам.
С определенной уверенностью можно проследить путь, проделанный Аттилой.
Он появляется в местах, где теперь располагается Одесса, проходит по северному побережью Черного и Азовского морей, а затем наводит порядок в донских степях и в треугольнике Дон — Волга — Кавказ.
Дел предстояло много. В междуречье Днепра и Дона надо было усмирить роксоланов и акациров. В боях с мятежными племенами на помощь гуннам пришли войска Эллака и сохранившие верность акациры. Между Доном и Волгой началась безжалостная охота на аланов. В результате жестокой борьбы это племя было практически полностью истреблено. Далее уже не встречается ни одного упоминания о «кавказских аланах» и «каспийских аланах». Уцелело только несколько групп пастухов-кочевников, забывших свои корни или благоразумно смешавшихся с народами Заволжья.
На широких просторах донских степей между Ростовом и Астраханью, на месте которых уже тогда были мощные крепости, Аттила также встречает несколько групп тех загадочных наездников, появление которых так удивило Ореста. Выяснилось, что они говорят на том же наречии, что и акациры.
Происхождение этих новых возмутителей спокойствия впоследствии поставит много вопросов перед этнологами. Речь идет о хазарах.
Известно, что в античные времена они занимали район нижней Волги, а затем исчезли. Они появляются вновь много столетий спустя, в седьмом веке нашей эры, в Крыму и на юге Украины, а затем достигают самого Киева. Вечные странники, неутомимые воины, они похваляются своей «империей», раскинувшейся от Буга и Днепра до реки Урал, средней Волги, Оки и истоков Донца. На самом деле они удерживали не такую уж большую территорию. Они кочевали с места на место по бескрайним степям и не следовали, как Аттила, политике создания «укрепленных пунктов». В отношении Константинополя они выступали преемниками гуннов, реставраторами империи Аттилы. Но их империя стала мусульманской после принятия ислама в начале VIII века. Однако около 860 года святой Кирилл обратил их в христианство.
Хазары многократно разоряли польские и придунайские земли, ведя грабительские войны, но в конце X века их изгнал великий князь Киевской Руси Святослав. Крым долгое время оставался их последним оплотом и даже назывался Хазарией, но в 1015 году был завоеван византийцами — союзниками русского великого князя Владимира I.
Но в те далекие времена, когда Аттила столкнулся с этим народом в донских степях, хазары делали только первые робкие попытки проникнуть в империю гуннов, которую впоследствии будут считать своей. Сходство языка с акацирами и быстро установленные братские узы с отдельными акацирскими родами порождают немало вопросов. Чаще всего выдвигается предположение, что в низовьях Волги некогда существовал единый народ, одна из ветвей которого, акациры, направилась к Каспию и западному берегу Дона, а другая, хазары, обосновалась в Крыму и на юге Украины, и уже оттуда распространилась по всем направлениям, вызвав удивление и беспокойство Аттилы и Ореста, чтобы затем, два века спустя, вновь собраться уже в гораздо большем количестве все в том же Крыму и на юге Украины и заявить набегами и кратковременными захватами о существовании «хазарской империи».
В любом случае нет никаких сомнений, что освобожденные смертью Аттилы от ненавистного им ига акациры возродились или переродились в хазар, как и другие племена, как только начала обрисовываться хазарская империя.
Аттила перешел Волгу и продолжил расправу с непокорными на северном побережье Каспия.
Он дошел до Аральского моря и…
И здесь снова возникает большой знак вопроса.
Одни полагают, что он прервал поход в устье Амударьи, удовлетворившись умиротворением (в своем понимании этого слова) народов на территории между Аральским и Каспийским морями.
Другие считают, что Аттила совершил намного более продолжительный поход: следуя вдоль западного берега Амударьи, он будто бы пересек Туркменистан, отправив посольство с приветствием персидскому шаху, прошел через Карки (или Керки) — город далеко к югу от Бухары и, значит, к юго-западу от Самарканда, но на другом берегу — и вступил на землю Бактрии.
Сегодня Бактрия занимает северную часть Афганистана между горным хребтом Гиндукуш, бывшим Паропамисом, на юге и Амударьей, бывшим Оксом. Во времена Аттилы большинство здешнего населения составляли скифы. Столицей был город Бактрия (Бактры), превращенный впоследствии в Балх или Балк и известный сегодня как Вастрабад.
То, что в первой половине V века Бактрия была завоевана сначала Сасанидами, а затем захвачена гуннами — исторический факт. Некоторые исследователи, например, Рене Груссе, утверждают, что это были белые гунны с берегов Каспия, которые совершили долгий поход с целью утвердить свою власть между Каспийским и Аральским морями, а затем, охваченные жаждой наживы, рискнули продвинуться дальше и опустошили всю территорию вплоть до предгорий Гиндукуша, после чего возвратились к родным степям.
Другие ученые, как, например, Амедей Тьерри, полагают, что у каспийских гуннов в тот период было слишком много забот, чтобы предпринимать без видимой необходимости рискованные экспедиции, и Бактрию захватили воины Аттилы под его личным командованием.
Последнее предположение более вероятно. У Аттилы были свои счеты с бактрийцами, которые совершали дерзкие опустошительные набеги на прикаспийские земли и при случае присоединялись к восстаниям аланов и акациров. Эллак и Эсла не раз встречали их среди мятежников.
И поскольку вторжение гуннов в Бактрию действительно имело место, можно смело предположить, что это была карательная экспедиция Атгилы. Этот факт немаловажен для биографа императора гуннов постольку, поскольку, как мы узнаем в следующей главе, историкам дорога версия о последней женитьбе Аттилы на плененной бактрийской княжне.
Как бы то ни было, из урало-каспийского региона Аттила возвращается в Одессу, пересекает территорию современной Румынии и выходит к Дунаю возле Будапешта, где его уже ждет Орест.
Снова сраженный недугом, Аттила решает отдохнуть в течение зимы, чтобы лучше подготовиться к весенней кампании 453 года, планы которой уже подготовил Онегез.
XVIII
Таинственная Ильдико
Кто была эта женщина? Где она родилась? На этот счет выдвигались самые разные предположения. Вот основные гипотезы:
— По возвращении из своего, как оказалось, последнего большого похода Аттила узнал об измене вождей рипуарских франков, обещавших выступить на стороне гуннов в подготавливаемой им кампании и не сдержавших слова. Он жестоко покарал предателей и казнил на месте их предводителей. Дочь одного из вождей бросилась в ноги Аттиле, тщетно вымаливая прощение для своего отца. Девушку звали Хиттегондой или Иттегондой, и она, следовательно, была франкской принцессой.
— Аттилу предал один из германских вождей, остгот или алеманн, вследствие чего разыгралась такая же драма. Девушку звали Хильдегондой, что означало героиню из героинь или, скорее всего, благородную дочь героя, или Гримхильдой — безжалостной героиней.
— Это была странствующая датская принцесса! Она повстречала Аттилу на севере его империи, бросила все и последовала за ним. Звали ее Хиллдр.
— Бургундская принцесса покинула своего жениха-соплеменника, чтобы броситься в объятья дикого гунна, которым уже давно восхищалась. Ее имя было Хильдебонда.
— Тот же сюжет, то же имя, но то была вестготская принцесса из Аквитании.
Во всех версиях высказывается предположение, что настоящее имя девушки или было искажено греком Приском, или непроизвольно переиначено на гуннский манер, или же стало ласкательным прозвищем, придуманным самим Аттилой, превратившись в Ильдико.
Но существует и другая гипотеза, которая также имеет своих сторонников. Ильдико была бактрианкой или бактрийкой, если угодно. Она была захвачена вместе с отцом — бактрийским царьком или князем, который сражался на стороне аланов где-то между Доном и Волгой; или же их пленили в самой Бактрии во время карательного похода Аттилы.
В обоих случаях утверждается, что она просила императора сохранить отцу жизнь, но тот приказал немедленно обезглавить несчастного, а девушку взял в свою часть добычи.
Но девушка была принцессой и, несомненно, из весьма почитаемого в своей стране рода.
И Аттила с должным почтением относился к своей пленнице.
Она была — об этом все говорят в один голос, и Аттила, скорее всего, разделял их мнение — необыкновенной красоты. Возможно, чуть маловата ростом для идеала, но все же казалась при этом воплощением Венеры. Правильные черты ее лица представляли собой — разумеется, по мнению грека Приска — греческий тип. У нее были роскошные светлые волосы, волнами ниспадавшие до пояса.
Многие считают, что светлые волосы не слишком соответствуют предполагаемому бактрийскому типу. Но сторонники бактрийской версии подкрепляют свои доводы тем, что существуют светловолосые афганки, и этот редкий тип ценится очень высоко, к тому же в эпоху античности брюнетки и шатенки часто искусственно осветляли волосы. Гунны мужского пола также охотно красили волосы.
Аттила расположился в одном из своих деревянных дворцов. Многие исследователи, среди которых и Г. Немет, К. Биербах и А. Тьерри, утверждают, что этот дворец стоял на берегах Тисы. Аттила сообщил пленнице, что намерен жениться на ней и сделать ее королевой. В те времена женитьба победителя на дочери или вдове побежденного была обычным делом. Во-первых, такая свадьба становилась частью триумфа, а во-вторых, могла служить символом прощения побежденного народа.
Негодующая Ильдико, вопя и рыдая, отказывается наотрез.
Аттила вместо ответа назначает дату свадьбы. Приготовления займут несколько недель, так как церемония бракосочетания должна пройти с невиданной доселе пышностью, а на это требуется время.
Седина в бороду, бес в ребро? Никогда еще Аттила, которому уже стукнуло пятьдесят восемь, не выказывал такой безумной страсти. «Невесте» было всего шестнадцать.
Хотя Аттила, казалось бы, легко вынес тяготы невероятной по быстроте последней кампании, он был серьезно болен и знал это.
Хотел ли он доказать самому себе, что есть еще порох в пороховницах? Что он увидит еще немало счастливых и радостных дней? Думал ли он показать нетерпеливым наследникам, что папу еще рано хоронить? Готовил ли он себе отрадный «отдых воина» для расслабления после решающей кампании, которую лелеял? Или же это был приступ неудержимой страсти? Безумная выходка?
Марсель Брион пишет: «Германцы, славяне, азиаты — все вассалы Аттилы съехались на свадебную церемонию. Поляны были забиты кибитками, и приготовления к пиру смешивались с передвижением войск, так как король хотел выступить в поход сразу по завершении торжества. (…)
Бракосочетание отмечалось с большой пышностью. Вожди племен преподнесли в дар изделия мастеров, дорогих скакунов, кумыс в деревянных кувшинах, украшения из золота и драгоценных камней, пурпурные ткани, ковры, вышитые шелка, седла, инкрустированные драгоценными камнями. Один пожилой азиатский вождь подарил захваченные у китайцев бронзовые вазы, украшенные загадочными знаками, другой — странные картины и статуэтки из слоновой кости.
Пир длился долго. Было выпито изрядное количество вина. Аттила осушал кубки за здоровье каждого из именитых гостей, и поскольку тех было очень много, скоро напился пьян. Шуты развлекали пирующих плясками, жонглеры восхищали своей ловкостью, играя с булавами и кинжалами, под удивленные крики гостей слуги провели неведомых, диковинных животных.
Весь день прошел в увеселениях. Наступил вечер. Гости продолжали пить, петь и веселиться, а Аттила увлек новую супругу в свадебные покои. Очарованный ее белой кожей и волосами, он разорвал на ней одежды и лег подле нее».
IXX
Смерть и погребение Аттилы
Это случилось, видимо, 15 марта 453 года или несколько дней спустя. Аттила должен был выступить в поход, вероятно, 20 марта.
В течение свадебных торжеств император пребывал в приподнятом настроении. («Magna hilaritate resolutus», — пишет Иордан.) Войдя в спальню со своей брачной добычей, он тотчас свалился с ног, обремененный выпитым вином и одурманенный сном — vino somnoque gravatus, сообщает тот же автор.
Гвардейцы Аттилы у дверей спальни бдительно охраняли покой новобрачных. Эдекон неоднократно приходил лично удостовериться, что все спокойно. Наступил полдень, но из комнаты еще никто не выходил. Гости и воины, приглашенные или прокравшиеся на пир, добрались до бурдюков с вином и опохмелялись, отпуская более или менее пристойные шутки насчет мужской силы императора.
Онегезом овладело беспокойство. Аттила никогда не казался ему человеком, способным столь долго предаваться сладострастию, забыв о делах. Вместе с Эдеконом он идет к спальне. Эдекон несколько раз стучит в дверь. Сначала тихонько, потом все громче и громче. Выломав двери топором, Эдекон, Онегез и несколько сыновей императора врываются в спальню.
Аттила распростерт на своей постели из груды шкур. Лицо, шею и грудь заливала кровь. В самом дальнем углу, закутавшись в свои разорванные одежды и меховой воротник, съежилась Ильдико. Она находилась в прострации, не могла проронить ни слова, содрогаясь в конвульсивных спазмах.
Онегез, Эдекон, сыновья и офицеры охраны осмотрели тело. Нигде ни малейшей раны, ни следов удара или удушения.
Послали за врачами. Пришли сразу трое. Они осмотрели тело, рот и не нашли признаков отравления.
Врачи вынесли свой вердикт: апоплексия с удушьем из-за обилия крови, шедшей из носа и горла. Они добавили, что сей печальный конец их нисколько не удивляет, так как подобные явления, но меньшей силы, уже происходили. Избыток пищи и особенно вина подкосили человека, уже надорванного усталостью и нервными переживаниями.
Охрана собралась было расправиться с Ильдико, но вмешались врачи, подтвердившие непричастность женщины к смерти императора.
Ильдико наконец заговорила. Аттила ее не тронул, и ей не пришлось отдаваться или отбиваться. Перебрав вина, он сразу заснул. Когда он пробудился, его стошнило. Он сказал ей: «Не зови никого, что бы ни случилось». Она поднялась, закуталась в мех. Затем брызнула кровь и залила все. Он сипел и харкал кровью, хватаясь за горло, покрылся потом. Потом рывком перевернулся на живот и затих.
Так скончался Аттила, сын Мундзука, племянник и наследник Роаса, император гуннов.
Большой праздничный зал был очищен.
В середине на церемониальном ложе поместили тело почившего императора, облаченного в свои самые дорогие меха, в правую руку вложили меч Марса, в левую — длинное серебряное копье, под ноги подложили щит.
Новость быстро облетела всех. Перед дворцом с воплями боли и ярости собрались воины, требуя выдать убийцу. Онегез и Эдекон рыдали подле трупа. Скотта первым овладел собой, вышел и успокоил толпу: убийства не было, вождь умер своей смертью, он в этом убедился, и лекари это подтвердили. На завтра Скотта объявил поминальные игры, которые пройдут на поляне, где тело Аттилы будет покоиться в шелковом шатре, пока не выроют могилу в месте, которое останется неизвестным, чтобы никто не смог ее разорить и захватить погребенные в ней сокровища.
На закате солнца был развернут шатер, и личная гвардия Аттилы доставила тело императора, положив его на гору шкур и дорогих ковров. Иностранные правители, среди которых был и гепид Аларих, сыновья Аттилы, Онегез и прочие официальные лица всю ночь стояли в почетном карауле.
На следующий день открылись погребальные игры. Во славу почившего вождя пелись гимны и эпические песни, играла музыка, исполнялись танцы. Затем последовали скачки, метание копья, стрельба из лука, потешные бои и военный парад.
Кордон воинов препятствовал любопытным проникнуть на поляну, отведенную для игр. Другие воины направлялись копать могилу. «Латинская патрология» аббата Миня свидетельствует о расхождении рассказов древних хронистов в описании похорон Аттилы. У одних, к мнению которых склоняется Марсель Брион, могильщиками были офицеры, лучшие из воинов, которые подготовили могилу вдали от людских глаз. Другие, чей рассказ вызвал больше доверия у Амедея Тьерри, говорят о местных крестьянах, согнанных копать могилу под надзором офицеров, и кордонах гвардейцев Аттилы, сделавших все, чтобы не только скрыть от посторонних саму работу, но и не позволить установить точное место последнего приюта вождя.
Другое противоречие касается характера самой могилы. Это могла быть широкая и глубокая яма в месте, скрытом естественной оградой из деревьев и зарослей кустарника. Но возможно и то, что, поставив плотину, осушили часть русла реки, где и захоронили тело, скрыв затем могилу под хлынувшей водой. Таким образом, можно допустить, что одна группа копала ложную могилу за деревьями и кустарниками, тогда как другая команда под личным руководством Эдекона готовила могилу посреди реки. Гроб сначала закопали в первой, а затем тайно ночью перезахоронили в настоящей могиле в русле реки.
Иордан утверждает — и Амедей Тьерри это допускает, — что тело было заключено в трех гробах — железном, помещенном внутрь серебряного, который в свою очередь был вложен в золотой. Несомненно, погребение состоялось в присутствии только самых избранных.
В это время воины были созваны в укрепленный и тщательно охраняемый лагерь на страву — традиционную тризну гуннов с поминальным пиром и играми.
Когда тело предали земле и закопали вместе с гробом самое дорогое оружие и украшения, всадники личной гвардии Императора гуннов пронеслись в бешеной скачке мимо могильного холма.
И еще одно противоречие в сообщениях хронистов, более близких к эпической литературе, чем к истории. По версии Иордана, землекопы, рывшие могилу, были зарезаны воинами Аттилы, чтобы сохранить в тайне могилу императора и защитить ее от разграбления. Другая легенда, более распространенная среди хронистов и опубликованная аббатом Минем, гласит, что в своей скорби и в презрении к смерти все воины личной гвардии Аттилы решили возродить давно оставленный древний обычай и покончить с собой, чтобы удостоиться чести быть погребенными возле своего господина.
Такие почести усопшему герою существовали в самых древних традициях. Эта стража из мертвецов, хранившая вечный покой мертвеца, имела единственную цель — прославить на все времена покинувшую этот мир знаменитость. По легенде, которую повторяет Марсель Брион, тела добровольно простившихся с жизнью были посажены верхом на убитых коней и стояли, поддерживаемые кольями, в течение нескольких часов, образуя кольцо вокруг могилы Аттилы, уставив невидящий взгляд во все концы империи.
Вполне возможно, что старинное предание добавило трагизма событиям, в действительности же на могиле закололи себя лишь несколько фанатиков.
Конец Аттилы был и концом Западной Римской империи. Вождь гуннов нанес последний смертельный удар этой огромной разноплеменной империи, безнадежно пытавшейся сохранить свое призрачное единство. Теперь Галлия готова была начать разматывать путеводную нить клубка собственной судьбы.
Зато отказ Аттилы от взятия Константинополя и его смерть перед началом задуманного завоевания всех римских земель, ставшего его последней мечтой, отдалили конец Восточной Римской империи еще на тысячу лет.
В обоих случаях Аттила решающим образом повлиял на ход истории.
В марте 453 года меч Марса, прикованный золотым браслетом к запястью правой руки Бича Божьего, снова скрылся под землей.
Выйдет ли он на свет еще когда-нибудь?..
Генеалогическое древо королевской семьи Аттилы{6}
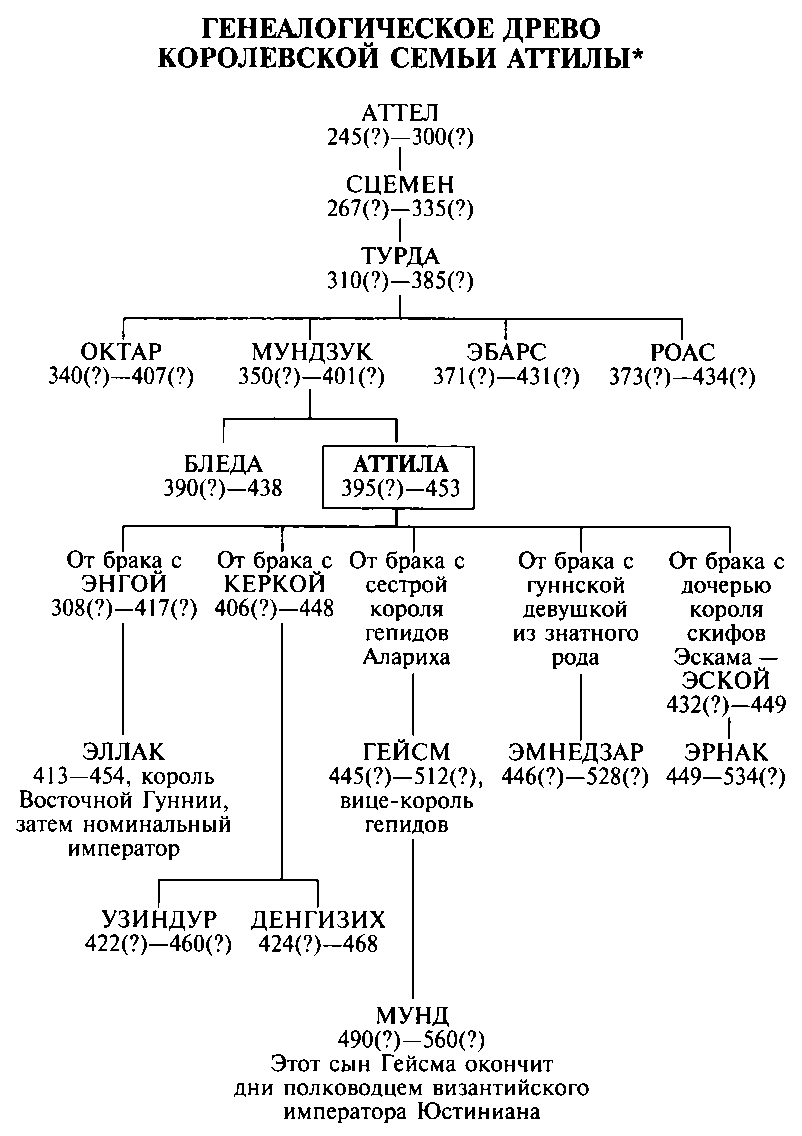
«Королевская семья» гуннов имела свои особенности. В нее входили далеко не все многочисленные жены Аттилы и его бесчисленное потомство. Она ограничивается только теми сыновьями, которых Атти- ла провозгласил «правителями» (что в ряде случаев соответствовало понятию «наследный принц»), и только теми женами, которые удостоились титула «королевы» или подарили наследника, провозглашенного «правителем».
Хронология
I
КОНТАКТЫ ГУННОВ И РИМЛЯН
270 г. Первое вторжение гуннов в римскую Галлию во время восстания багаудов. Часть багаудов поддержала гуннов, но большинство встало на сторону галло-римских легионов.
274 г. Спустившиеся с Кавказских гор аланы захватывают земли Римской империи. Император Тацит посылает против них войска. Предавая с легкостью, аланы служат и гуннам, и римлянам. Кратковременные появления гуннов на европейском юго-востоке.
292 г. Император Диоклетиан устанавливает тетрархический режим правления (власть разделили четверо военачальников) в Римской империи. Галлия становится главным стражем рейнских берегов.
330 г. Император Константин переносит столицу Римской империи в Византий, который впоследствии станет Константинополем.
374 г. Так называемые белые гунны занимают район Каспийского моря. Черные гунны под предводительством Баламира переправляются через Волгу и вступают в борьбу с аланами, которые покоряются и становятся союзниками.
376 г. Черные гунны выходят к Дунаю. В последующие годы число их на дунайских землях растет, и здесь оседают их главные вожди.
382 г. Римский император Феодосий I принимает гуннов на свою службу, используя их в борьбе с готами.
395 г. Феодосий I распределяет императорскую власть между императором Запада (столицы в Риме и Равенне) и императором Востока (столица — Константинополь).
Феодосий I умирает, Гонорий становится императором Запада, Аркадий — императором Востока. Рождение Аттилы.
405 г. Гонорий посылает ко двору короля гуннов молодого римского аристократа Аэция.
408 г. Роас направляет ко двору Гонория своего юного племянника Аттилу.
Император Востока Феодосий II жалует Роасу звание римского полководца.
412 г. Аттила возвращается к дяде на Дунай. При посредничестве Аэция он устанавливает дружеские отношения между гуннами и Западной Римской империей.
423 г. Смерть Гонория. Узурпатор Иоанн при поддержке Аэция, который получает от Роаса и Аттилы мощное войско гуннов, захватывает власть. Гуннам не приходится участвовать в военных действиях, так как незадолго до их прихода Иоанн проигрывает сражение с верными присяге легионами, попадает в плен и гибнет на плахе.
425 г. Императором провозглашен Валентиниан III, сын Галлы Плацидии, которая становится регентшей. Начиная с 425 г. и в последующие годы:
Политические отношения между гуннами и Западной Римской империей ухудшаются вследствие соперничества регентши и римского патриция Аэция, большого друга гуннов.
Гунны предоставляют Аэцию войска, и регентша вынуждена наделить Аэция большими полномочиями. Отношения между гуннами и Западной Римской империей вновь становятся превосходными. Гуннам даровано «неотменяемое право на гостеприимство» на землях между Дунаем и Дравой.
432 г. Гунны — «наипервейший союзник» Рима (Западной Римской империи), но из-за антигуннских происков Феодосия II ухудшаются отношения с Византией (Восточной Римской империей).
434 г. Умирает Роас. Аттила становится королем (затем императором). В Маргусе с Византией заключается договор, исключительно в пользу гуннов.
435–437 гг. Участие гуннов в походах Аэция против бургундов, галльских багаудов и вестготов.
446–447 гг. Война между гуннами и Восточной Римской империей. Перемирие заключено в 447 г.
449 г. Заключение мирного договора с Восточной Римской империей в пользу гуннов.
451 г. Война между гуннами и Западной Римской империей: кампания в Галлии.
452 г. Война между гуннами и Западной Римской империей: кампания в Италии. После переговоров с папой Аттила отказывается вступать в Рим.
453 г. Интенсивные приготовления к «великому походу» Аттилы против «римского мира», прерванные смертью Аттилы.
После смерти Аттилы Одоакр, сын Эдекона (одного из ближайших его министров и полководцев) и скирской княжны, становится королем герулов, другой ближайший советник и военачальник Орест (бывший римский командир) возвращается в Италию, назначается начальником городского ополчения при западном императоре Юлии Непоте, заставляет того отречься от престола и провозглашает императором своего сына Ромула Августула. Итак, сын одного из полководцев Атгилы становится римским императором (476 год)! Но ненадолго: в том же 476 году Одоакр низлагает Ромула Августула — последнего императора Западной Римской империи — и принимает помимо прочих титул короля Италии. С его согласия гунны занимают в Италии обширные земли.
Последним известным потомком Аттилы является его внук Мунд, который стал полководцем императора Восточной Римской империи Юстиниана и был убит гунном в 560 году.
II
АТТИЛА
Начало 395 г. Родился Аттила, второй сын Мундзука.
401 г. (?) Смерть Мундзука; Аттила воспитывается своим дядей Роасом.
405 г. Аттила заводит дружбу с Аэцием, посланным императором Западной Римской империи ко двору Роаса. 408 г. Аттила направлен дядей ко двору императора Западной Римской империи Гонория.
408—конец 411 гг. (?) Аттила живет в Риме и Равенне, возможно, совершает поездку в Константинополь.
Начало 412 г. Аттила отозван Роасом в дунайскую Гуннию.
413 г. Аттила женится на Энге (?), от которой рождается сын Эллак.
413–421 гг. Аттила выполняет поручения Роаса и занимается установлением регулярного почтового сообщения между дунайскими гуннами (Роасом) и кавказскими гуннами (Эбарсом).
Конец 421 г. Аттила становится соправителем своего дяди Роаса. Женитьба на Керке.
422 г. (?) Рождение Узиндура, сына Аттилы и Керки.
423 г. Смерть императора Гонория. Роас и Аттила посылают Аэцию войско гуннов для поддержки Узурпатора Иоанна.
424 г. (?) Рождение Денгизиха, второго сына Аттилы и Керки.
425–430 гг. Аттила устраивает почтовое сообщение и эстафеты между различными гуннскими провинциями.
431 г. (?) Смерть Эбарса, дяди Аттилы и вождя кавказских гуннов. Аттила реорганизует кавказскую Гуннию.
432 г. (?) Договор о дружбе между Аттилой и ханом акациров. Поездки Атгилы к массагетам, хуан-лун, хионг-ну и визит в Китай.
Конец 434 г. Смерть Роаса. Аттила и его старший брат Бледа — «суверенные вожди» гуннов. Заключение мирного договора между Гуннией и Восточной Римской империей в Маргусе.
435 г. Аттила принимает титул императора гуннов, Керка становится королевой-императрицей.
437 г. Поход на акациров, каспийских аланов и волжских гуннов-«сепаратистов». Эллак становится королем каспийских гуннов.
438 г. Отражение агрессии славян и германцев. Смерть Бледы.
439 или 440 г. Обнаружение и поднесение в дар Аттиле «меча Марса».
Конец 440 г. Римская принцесса Гонория, сестра императора Западной Римской империи Валентиниана III, предлагает свою руку Аттиле.
441 г. Разгром гуннами ярмарки в Маргусе. Маргус становится «епископальным городом» империи гуннов.
441–443 гг. Походы в Мезию и Паннонию. Взятие Виминация, Ратиары, Сингидуна, Сирмия и Сердики. Прорыв во Фракию, войска гуннов подходят к Константинополю. Уничтожение Наисса.
444–445 гг. Усмирение центральных и восточных провинций Империи гуннов.
445 г. (?) Аттила женится на гепидской княжне, от которой родится сын Гейсм.
446 г. (?) У Аттилы рождается сын Эмнедзар от брака с одной из жен, происходящей из знатного гуннского рода.
446 г. — январь — сентябрь 447 г. Походы гуннов во Фракию, Македонию и Фессалию.
447 г. — октябрь (?) Одна из армий Аттилы под командованием Онеге за занимает Фермопилы.
447 г. — ноябрь Гунны грозят уже самому Константинополю. Византийский император просит о мире.
447 г. — декабрь Перемирие. Византийский император соглашается на выплату контрибуции и ежегодной дани императору гуннов.
448 г. Посол Аттилы берет под контроль сбор налогов для выплаты контрибуции.
449 г. — январь (?) Прибытие в Константинополь посольства Аттилы для переговоров о мире. Заговор с целью убийства Аттилы.
449 г. — февраль (?) Заговор раскрыт. Прибытие в дунайскую Гуннию посольств Восточной и Западной Римских империй. Аттила вступает в брак с Эской (?), дочерью короля скиров Эскама.
449 г. — март (?) Признания заговорщиков. Византийский император принимает условия мирного договора.
449 г. — октябрь (?) Смерть Керки.
449 г. — ноябрь (?) От родов умирает Эска, вторая «королева-супруга» Аттилы. На свет появляется еще один наследник — Эрнак.
450 г. Смерть византийского императора Феодосия II. Ему наследует Марциан. Аттила требует выплаты оговоренной ежегодной дани. Марциан отказывается. Аттила уведомляет императора Западной Римской империи Валентиниана III, что он «дает согласие» на свой брак с его сестрой Гонорией. Римляне предпринимают меры, чтобы брак стал невозможен. Подготовка похода Аттилы на Галлию.
451 г. — февраль (?) Аттила переходит Рейн.
451 г. — февраль — июнь Многочисленные захваты и грабежи. Взятие Меца, Лана, Сен-Кантена, Реймса. Осада Парижа. Аттила снимает осаду.
451 г. — 21 июня Сдача Орлеана.
451 г. — 23 июня Прибытие армии Аэция и (в ночь с 23 на 24) уход Аттилы.
451 г. — 30 июня (?) и начало июля Битва на Каталаунских полях. Отступление Аттилы.
451 г. — конец года Подготовка итальянской кампании.
452 г. — январь Завещание Аттилы.
452 г. — февраль Начало кампании в Италии.
452 г. — 1 мая Начата осада Аквилеи.
452 г. — около 25 мая Уничтожение Аквилеи.
452 —конец мая—20 июня Захват гуннами всей Северной Италии.
452 г. — конец июня Рим голосует за капитуляцию. Любовь Аттилы и Елены.
452 г. — 4 июля Папа прибывает в лагерь Аттилы. 452 г. — 5 июля Встреча папы Льва I и Аттилы.
452–6 июля Аттила объявляет об отказе от захвата Рима и своем уходе из Италии. 452 г. — 8 июля Уход Атгилы.
452 г. — август Аттила отдает приказ об экспедиции в Паннонию и направляет посольство в Рим за обещанной данью.
452 г. — сентябрь — конец декабря (?) Карательный поход по восстановлению порядка в центральных и восточных областях Империи гуннов.
453 г. — январь — март Аттила почти завершает подготовку «великого похода» на «римский мир», который должен был начаться 20 марта.
453 г. — около 15 марта Аттила женится на Ильдико. Смерть Аттилы.
Примечания
Иллюстрации